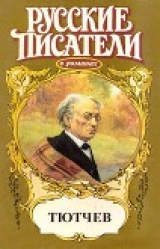
Текст книги "Страсть тайная. Тютчев"
Автор книги: Юрий Когинов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 36 страниц)
23
– Итак, милейший мой Тютчев, вы категорически отказываетесь от моего приглашения?
Рыжий кок на голове князя Вяземского вызывающе качнулся, как петушиный гребень.
– Я бы с превеликим удовольствием, князь Пётр Андреевич, но истекают последние дни моего пребывания в Петербурге. А их я обещал провести у Крюденеров.
– Ну, куда моим чарам и даже чарам княгини Веры Фёдоровны супротив одного лишь волоокого взгляда сей божественной Амалии, или как ещё её у нас величают – сестры Венеры Медицейской! – Рыжий хохолок опять задиристо колыхнулся. – А ежели без шуток, я завидую вам: столько лет при вашем, скажу прямо, переменчивом характере, хранить верность сей прекраснейшей даме. Меж тем не обольщайтесь, мой друг, здесь у вас может оказаться соперник.
Тютчев взял Вяземского под руку и шепнул ему на ушко, состроив при этом нарочито лукавую мину:
– Я знаю, на кого вы намекаете. Баварский король Людвиг Первый заказал для своих покоев живописный портрет Крюденерши. Здесь же, в опочивальне Зимнего, она предстаёт-де нередко в своём натуральном естестве.
– Так вы в курсе? – поддержал заговорщический тон Вяземский.
– А кто ж в Петербурге об этом не осведомлен! Стоило мне нынче объявиться, как мне сей новостью прожужжали все уши. Но, может быть, до вас, князь, не дошла самая последняя? Моя пассия, говорят, перешла теперь из спальни императора в спальню Бенкендорфа. Каково?
Вяземский даже не пытался удержать смеха. Напротив, он дал себе волю нахохотаться так, что даже слёзы брызнули из глаз, и он, забыв о приличии, растёр их кулаком.
– Держу пари: сие вам поведала наша первая в свете сплетница – цыганка Россет. Вот уж из кого, как из рога изобилия, сыплются всевозможные небылицы. Зная её страсть к пересудам, Пушкин как-то подарил ей альбом, попросив её непременно вести дневник. И сам озаглавил его – «Исторические записки Смирновой-Россет». Готов чем угодно поклясться: в том дневнике такие альковные дела, что нам с вами, двум записным остроумцам, как ни стараться, ничего похожего не выдумать! Однако о «сопернике» всё ж советую помнить. В вашем положении запросто можно не то чтобы поправить дела, но как бы их более не усложнить. Сплетницы и сплетники и до самого высочайшего уха способны донести такое, что вам и не снилось. Ну, ни пуха!..
Более двадцати лет минуло с той поры, когда они, чистые и юные, изведали свою первую любовь. Чего только не случилось за эти годы, какие невзгоды и бури не пронеслись над головою Фёдора Ивановича, а те встречи жили в его душе, как самые яркие воспоминания.
Я помню время золотое,
Я помню сердцу милый край.
День вечерел; мы были двое;
Внизу, в тени, шумел Дунай.
И на холму, там, где, белея,
Руина замка вдаль глядит,
Стояла ты, младая фея,
На мшистый опершись гранит.
Ногой младенческой касаясь
Обломков груды вековой;
И солнце медлило, прощаясь
С холмом, и замком, и тобой.
И ветер тихий мимолётом
Твоей одеждою играл
И с диких яблонь цвет за цветом
На плечи юные свевал.
Ты беззаботно вдаль глядела...
Край неба дымно гас в лучах;
День догорал; звучнее пела
Река в померкших берегах.
И ты с весёлостью беспечной
Счастливый провожала день;
И сладко жизни быстротечной
Над нами пролетала тень.
Жизнь залечила рану, нанесённую разлукой. И друг, неожиданно ставший её мужем, на самом деле не перестал быть его другом. А между когда-то влюблённым в неё юношей, тогда тоже почти мальчиком, и ею не только не порвались, но укрепились настоящие дружеские связи.
И муж и Амалия что только не делали, чтобы оказать свои помощь и услуги дипломату, карьера которого не задавалась!
Переехав в Петербург, каждый из них старался использовать своё влияние, чтобы пособить их давнему другу. Тщетно! Сменялись чиновники миссии в Мюнхене, освобождались должности, но вакансии ускользали от Тютчева. И даже когда, как само по себе разумеющееся, виделось, что место первого секретаря, занимаемое Крюденером, перейдёт к секретарю второму, – этому не суждено было статься.
Тютчеву было неловко. И он с присущим ему показным брюзжанием старался попенять по поводу непрошеных услуг: «Ах, что за напасть! И в какой надо было мне быть нужде, чтобы так испортить дружеские отношения! Всё равно, как если бы кто-нибудь, желая прикрыть свою наготу, не нашёл для этого иного способа, как выкроить панталоны из холста, расписанного Рафаэлем... И, однако, из всех известных мне в мире людей она, бесспорно, единственная, по отношению к которой я с наименьшим отвращением чувствовал бы себя обязанным».
Многое было испробовано, чтобы выйти из того сложного положения, в которое он попал. С тридцатого июня 1841 года он, что называется, оказался в безвоздушном пространстве – «за длительное неприбытие от отпуска» Тютчев был уволен из штата министерства иностранных дел и лишён звания камергера.
Кого винить в том – его собственную неосмотрительность, халатность и нерадивость в отношении к службе или к тому же давно зревшую к нему недоброжелательность министерских верхов? Ведь вот же там, в Мюнхене, находился Тютчев, всё ещё числивший себя в отпуске и водивший дружбу с послом Севериным, а из министерства в Мюнхен пришла бумага, в которой значилась фраза о том, что «местопребывание Тютчева неизвестно»!
Давно уже подмечено: мужчины более всего не склонны простить своему сопернику превосходства в уме. Женщинам же знакома зависть к тем из подруг, кто пользуется большею благосклонностью у сильного пола.
Что ж, в нашем случае и по отношению к Тютчеву, и по отношению к Амалии Крюденер, вернее всего, оба сии определения подходят безошибочно.
Но как бы то ни было, без сильной протекции, без надёжных связей возврат на дипломатическую службу был невозможен. И главную свою надежду Тютчев не мог не связать с Амалией, действительно давно уже завоевавшей место первой петербургской великосветской красавицы.
Что толку было записываться на приём к вице-канцлеру, когда за границей он уже виделся с ним и тот был предельно любезен и отзывчив. Вероятнее всего, сию расположенность к бывшему своему сослуживцу Нессельроде и расценивал как высшее благодеяние, которое он может себе позволить.
Следовало искать какой-то иной путь для реабилитации собственной персоны. И у Тютчева на сей счёт уже был проект. Его следовало лишь поведать кому-то из тех, кто находился наверху.
«А вдруг?.. – возникало самое заветное и самое, казалось, невероятное предположение. – А вдруг то, о чём говорят, хоть в какой-то мере правда? Тогда я не ошибся в Амалии. Только она окажется способной вывести меня из того тупика, в коем я оказался».
Как говорится, прямо с корабля он попал на бал в буквальном смысле слова – у Амалии был раут. Пряча своё смущение за наигранную браваду, он тем не менее высказал ей то, что зрело в его уме, – свой проект, которым хотел бы заинтересовать кого-либо из самых влиятельных лиц. Но теперь ему некогда – его ждут папенька и маменька в Москве. Вот если бы на обратном пути...
– Днями мы переезжаем в Петергоф, на свою дачу. Приезжайте туда по своём возвращении из Москвы. Я буду ждать вас, – как всегда, участливо глянула она на своего старого друга.
24
– Позвольте, ваше высокопревосходительство Александр Христофорович, представить вам нашего мюнхенского друга... – Амалия, взяв под руку только что вошедшего в гостиную Тютчева, подвела его к генералу в голубом мундире.
«Ба! Да это же сам Бенкендорф, правая рука царя, начальник Третьего отделения его императорского величества канцелярии и шеф корпуса жандармов. – От неожиданности Тютчев стушевался и тут же подумал: – Тем лучше! Всё, о чём я теперь скажу, завтра же станет известно императору. Это как бы я сам нынче говорил с его величеством. Об этом я и мечтать не мог. Так что же меня смутило? Вперёд, теперь – только вперёд!»
– Для любого подданного российской империи быть представленным вашему высокопревосходительству – высшая честь. Для меня же, вынужденно пребывающему вот уже два десятилетия вне пределов отечества, сие особый знак. – Тютчев поклонился и с чувством пожал протянутую ему руку.
Бенкендорф улыбнулся:
– Это мы, петербуржцы, должны гордиться такими верными сынами отечества, кои, будучи даже далеко за её границами, с честью блюдут интересы России. Мне о вас Амалия Максимилиановна говорила именно в этом духе – самый исконно русский из всех наших европейски образованных людей.
Мужчины прошли в дальний угол гостиной и расположились в уютных креслах. За окнами виднелись деревья сада. С них уже были сняты спелые яблоки и груши. Вдали, по лёгкому монотонному шуму, угадывалось море.
Генерал посмотрел в окно.
– Да, вот она, родная земля!.. Или наши святыни – Кремль в златоглавой первопрестольной, – раздумчиво проговорил он, выслушав восторженный рассказ Тютчева о его недавнем свидании с Москвой. – Для всех, живущих здесь, любовь к отечеству не подлежит сомнению. А каково таким, как вы? В сердце – память о России, а вокруг – хула целого сонма недоброжелателей, что стремятся развенчать и опорочить святые в нас чувства.
– Ваше высокопревосходительство, видимо, под впечатлением о недавно выпущенном в Париже сочинении господина Кюстина?
– Предположение ваше не лишено основания. – Александр Христофорович откинулся на спинку кресла и, не отводя глаз от лица собеседника, добавил: – Вам, смею думать, уже довелось ознакомиться с сею книгою под названием «Россия в 1839 году»?
Книга, о которой зашла речь, не так давно произвела в Петербурге эффект разорвавшейся бомбы. Выпущенная в Париже, она обошла почти все европейские страны. И только в России её распространение было запрещено, не говоря уже о переводе на русский язык. Тем не менее многие из высшего общества успели познакомиться с французским изданием и испытали настоящий шок: неужто всё это написал о нас, русских, тот самый маркиз, который совсем недавно так радушно был принят чуть ли не в каждом знатном русском доме?
А ведь и правда, никого не было желаннее в тот злополучный, 1839 год в Петербурге, чем маркиз Астольф де Кюстин. Одно его имя должно было служить примером преданности престолу, верному и честному служению королевской власти. Именно за это в самый разгар французской революции сложили свои головы на гильотине дед и отец Астольфа. А его мать вместе с ним, только что появившимся на свет, вынуждена была скрываться в глухих деревнях.
Могла ли быть для петербургского императорского двора рекомендация лучше, чем сама история жизни этого отпрыска славного аристократического рода?
И тем не менее чуть ли не каждая страница в его книге оказалась написанной будто ярым сторонником революции! Так, во всяком случае, расценили сочинение маркиза даже многие из тех русских, кто был с ним лично знаком и немало способствовал его приезду в Россию.
Ещё только вступив на русскую землю, автор уже спешит настроить читателя на минорный лад. «Нигде вблизи больших городов я не видел ничего столь безотрадного, как берега Невы, – сообщает он. – Окрестности Рима пустынны, но сколько живописных уголков, сколько воспоминаний, света, огня, поэзии, я сказал бы даже, страсти оживляют эту историческую землю. Перед Петербургом же водная пустыня, окружённая пустыней торфяной. Море, берега, небо – всё слилось; это – зеркало, но тусклое, матовое, как будто лишённое фольги и ничего не отражающее».
Но над всем этим, пишет далее автор, разлит тусклый, мертвенный свет, словно огромная лампа подвешена между небом и землёю. Жуткое чувство! Свет карабкается вверх по земному шару, как по куполу, на самую верхушку, откуда взору открываются замерзшие моря, сверкающие как кристаллические поля. Считаешь себя перенесённые в жилища блаженных, в среду ангелов, неизменяющихся обителей неизменного мира.
Кажется, ещё никто так талантливо не передавал впечатление от белых ночей, нависающих летом над российской столицей. Но – чу! Разве не видятся вам в сей монументальной картине знаки апокалипсиса и разве в этих бравурных звуках сатанинской симфонии не слышатся ноты реквиема? Вот в какую холодную, безжизненную пустыню вступил я, о други, будто говорит читателям автор.
Да, вместе с автором европейский читатель вступает в необычную страну, нисколько не похожую на другие страны Европы. Он вступает в империю, объятую лишь чувством страха. И, обращаясь к своим соотечественникам, маркиз предупреждает их: «Когда ваши дети вздумают роптать на Францию, прошу вас, воспользуйтесь моим рецептом, скажите им: поезжайте в Россию... Каждый познакомившийся с царской Россией будет рад жить в какой угодно стране. Всегда полезно знать, что существует на свете государство, в котором немыслимо счастье, ибо по самой своей природе человек не может быть счастлив без свободы».
Постройки Петербурга, в представлении сочинителя, – неуклюжие копии античных образцов. В Зимнем дворце случился пожар, теперь же здание отстраивается. Силы согнаны несметные. Когда на улице мороз тридцать градусов, в только что отштукатуренные помещения дворца для просушки стен приводится до шести тысяч рабочих, и температура здесь поднимается до тридцати градусов тепла. Смертность среди строителей ужасная – за двенадцать месяцев погибло от голода, холода и болезней несколько тысяч крепостных. Зато – самый огромный в мире дворец! И – ни слова протеста со стороны мучеников.
«Притворная безропотность, по-моему, – последняя степень унижения, до какой может пасть порабощённая нация; возмущение, отчаяние были бы, конечно, более ужасны, но менее низки; слабость, настолько лишённая достоинства, что может отказаться даже от жалобы, этого утешения скотины; страх, подавленный избытком страха, – это нравственный феномен, который нельзя наблюдать, не проливая кровавых слёз».
Все классы общества, делает далее свои наблюдения сочинитель, изменили самим себе. Угнетённый народ заслуживает кару, тирания – это дело рук самой нации. Дворянство занимает высшие посты. Что сделало оно, чтобы выполнить свою роль. Угнетает народ, обожая монарха. Дворянство в России пользуется административными усовершенствованиями наций, чтобы править по-восточному. Полицейский строй здесь существует, чтобы утверждать, а не подавлять варварство. А правосудие? Здесь не потерпевший, а должностное лицо ограждается от жалобы.
Автору нельзя отказать в способностях: язык остёр. «Весь смысл жизни в России, – сообщает он, – исполнение приказов начальства. Русское правление – осадное положение, ставшее нормальным состоянием общества».
Дальше – ещё хлеще. «В странах, изобилующих машинами, дерево и металл кажутся одарёнными душой, в странах с деспотическим правлением люди кажутся деревянными; является вопрос, что им делать с ненужною мыслью? И нехорошо становится на душе, когда подумаешь о силе, которую понадобилось проявить на душе, когда подумаешь о силе, которую понадобилось проявить по отношению к разумным созданиям, чтобы сделать из них вещи...»
Впрочем, у этих «вещей», сиречь людей, есть и натура, которую допускает автор. Но какая? Русский народ, утверждает он, насмешлив, как раб, который утешается в неволе, издеваясь втихомолку над ней, он к тому же суеверен, хвастлив, храбр и ленив, как солдат, поэтичен, музыкален и мечтателен, как пастух, – привычки кочующих племён останутся в нём надолго. И ещё характерная черта народа. Русские-де высказывают свою сметливость более в приёмах пользования плохою утварью, чем в заботах об улучшении той, какая у них есть. Их ум всему подражает, но ничего не изобретает.
«Обыкновенно первым действием цивилизации является облегчение материальной жизни; здесь всё затруднено; апатия и коварство – вот тайный смысл жизни большинства».
И – выводы. Сначала – собственный: «Цивилизация – не плод работы нации, она – наносное, без корней». Засим – суждения бывших «друзей» России. Вольтера, например: «Русские сгнили, не дозрев». И – такого же ехидного вольнодумца Руссо: «Русские никогда не будут действительно цивилизованы, потому что они были цивилизованы слишком рано... Пётр Великий хотел сразу создать у себя немцев, англичан, тогда как следовало прежде всего создать русских: он помешал своим подданным стать когда-либо тем, чем они могли бы быть, убеждая их в том, что они уже то, чем они были. Так учитель-француз готовит своего воспитанника к тому, чтобы он на минуту блеснул в детстве, а потом навсегда остался ничтожеством».
Ничто не ускользнуло от внимания заезжего наблюдателя. И даже после аудиенции у Николая Первого он не пощадил и его: «Русский царь не может ни на мгновение забыть, кто он есть. На лице нет выражения простой доброты, лишь строгость, торжественность, иногда вежливость. Проскальзывают и грациозные оттенки. Это – смена декораций: или одно, или другое состояние души. Без перехода от одного к другому. Точно снимается одна и надевается следующая маска. У него много масок, но нет лица. Вы ищете человека, но всегда находите императора. Ему не чужда искренность, ему чужда естественность».
Что же это за страна, где рабы покорно принимают власть деспота? «Я не знаю, – делится своими рассуждениями маркиз, – характер ли русского народа создал таких властителей или же такие властители выработали характер русского народа... Но мне всё кажется, что здесь налицо обоюдное влияние. Нигде, кроме России, не мог бы возникнуть подобный государственный строй, но и русский народ не стал бы таким, каков он есть, если бы он жил при ином государственном строе».
Есть ли надежда, что в России многое изменится? «Лет полтораста понадобится для того, – делает вывод путешественник, – чтобы привести в соответствие нравы с современными европейскими идеями, и то лишь в том случае, если в течение этого длинного ряда лет русскими будут управлять только просвещённые монархи и друзья прогресса...»
Злонамеренность и кощунство двигали пером маркиза или же сострадание и чистосердечие по отношению к народу, жизнь которого он хотел познать? «Я завёл вас в лабиринт противоречий, – обращался он сам к своим читателям. – Происходит это потому, что я показываю вам вещи такими, какими они мне представляются на первый и второй взгляд, предоставляя вам возможность согласовать мои заметки и сделать самостоятельные выводы. Я убеждён, что путь собственных противоречий есть путь познания истины».
Что же выходит, коли задуматься над тем, что предстало в сей книге? И все ли наблюдения её автора должны быть отвергнуты прямо с порога? Да вот хотя бы такое место о русском характере: «У русских больше тонкости, чем деликатности, больше добродушия, чем доброты, больше снисходительности, чем нежности, больше остроумия, чем воображения, больше наблюдательности, чем ума, но больше всего в них расчётливости».
Предать эти рассуждения автора анафеме или полностью с ними согласиться? А ежели поспорить, с чем-то и впрямь согласившись, но сделав для самих себя разумный и правильный вывод?
– Так как же вы, господин Тютчев, нашли сочинение де Кюстина о нашей стране и нашем народе? – повторил свой вопрос Александр Христофорович Бенкендорф, не отрывая испытующего взгляда от своего собеседника.
«Какого ответа он от меня ждёт? – молнией пронеслось в голове Тютчева. Неужели так примитивен человек, занимающий в государстве столь высокий пост? Но нет, быть такого не может! А кроме всего прочего – речь ведь теперь не о нём, кем бы его высокопревосходительство передо мною ни обернулся. Речь – обо мне. Я-то кто сам пред собою и пред лицом высшей власти? Жалкий угодник или привыкший всегда говорить правду?»
– Надеюсь, что я не разочарую ваше высокопревосходительство, если скажу: не хотел бы уподобиться тем защитникам России, которые стремятся раскрыть зонтик, чтобы предохранить от палящего солнца вершину Монблана. Иными словами – в книге немало правды. И её нелепо отрицать, как бы она ни была горька.
Бенкендорф чуть подался к говорившему и склонил набок лысеющую голову, изображая тем самым крайнюю внимательность.
– Любопытно. Весьма, не скрою, интересно! – проронил он. – Так-так, продолжайте, голубчик.
Тютчев развёл руками:
– Тут, ваше высокопревосходительство, для каждого умного русского всё ясно: нападать надо не на книгу, а на автора, разоблачая его бесстыдство. Да, именно его умственное бесстыдство и есть тот главный предмет, о коем стоит громко говорить. Сей автор был любезно принят в России императором, введён в русское общество. С ним говорили без утайки и от него ничего не скрывали. И нате же – выплеснуть столько помоев! Сие бесстыдство – отличительная черта духовного растления Запада. И в первую очередь газет и вот таких писак, цель которых – поссорить Россию с Европой.
Несмотря на свой шестидесятилетний возраст, генерал поднялся легко и, сделав несколько шагов по ковру, остановился подле собеседника.
– Скажу вам со всею свойственной мне прямотою: я рад, что познакомился с вами. Вы – предельно искренний и, смею думать, честный человек. И я особенно рад, что ваше мнение о памфлете господина Кюстина сошлось с моим. И – скажу более – с мнением императора.
– Право, ваше высокопревосходительство... Это похвала, о коей я и не мог мечтать, – проговорил в неподдельном смущении Тютчев.
– Сие – правда. И правда – мои слова, сказанные мною его величеству. «Господин Кюстин, – сказал я государю, – только придал форму тем понятиям, которые все имеют о нас и даже мы сами». И государь согласился со мною. Но его крайне огорчило то, что автор сего писания как бы старается повсюду отделить императора от его народа. А русских – от Европы. И всё затем, чтобы подчеркнуть якобы недоверие простых людей у нас к императорскому двору, а европейского народа – ко всему русскому.
– Ах, как это в самом деле родственно моим размышлениям! – обрадованно произнёс Тютчев, – Вот, к примеру: Священный союз объединяет волю правительств и государей Германии и России. Но какой шквал антирусских настроений возникает то в одной, то в другой немецкой земле! Взять хотя бы Баварию...
Уже много лет в Мюнхенском университете, сообщил Тютчев, царит дух дружбы с Россией. Но объявился и там один учёный, высказывания коего – сущий бред! Это профессор и публицист Якоб Фальмерайер.
– Вашему высокопревосходительству, несомненно, хорошо известен Остерман-Толстой, герой нашей Отечественной войны, – продолжил свой рассказ Тютчев.
– Александр Иванович – человек из легенды! – воскликнул Бенкендорф. – Сколько же мы вместе с ним прошагали от Москвы и до Вильны, а затем по дорогам Европы! Я тогда только полковник, он – уже прославленный генерал... Он ведь дальний ваш родственник?
Тютчев с улыбкою вспомнил, что сей кузен маменьки своею одною уцелевшею рукой и забросил его когда-то далеко за пределы отечества. Кстати, припомнил теперь Фёдор Иванович, тогда же, более двух десятков лет назад, этот его дядя как в воду глядел: Европа не простит России, что именно русские солдаты освободили её от ига Наполеона Бонапарта.
Лет десять назад, если не больше, Александр Иванович решил предпринять путешествие по Ближнему Востоку.
– И я, представьте, надумал оказать дяде услугу – порекомендовал ему в качестве личного секретаря и учёного-ориенталиста этого самого Фальмерайера! – сокрушённо вздохнул Фёдор Иванович. – Мне и в голову тогда не могло прийти, каким непримиримым националистом обернётся сей знаток Востока.
Возвратившись в Мюнхен, Фельмерайер в своих лекциях и печатных статьях стал всячески хулить Россию. Наследие Византии, утверждал сей учёный, живо на Ближнем Востоке, несмотря на турецкие завоевания. Оно живо и в Константинополе, несмотря на чисто внешнее торжество ислама. И несомненно, византийская, греческая вера жива в России. И это, безусловно, представляет угрозу для Европы. Если не принять всех мер для проникновения германского духа на Восток – неминуема смертельная схватка с Россией.
– Европейский гнев – не что иное, как зависть к равному, – подытожил свои высказывания Тютчев. – Европа никак не может простить России её окрепшей силы и отсюда её влияния на возрождающиеся нации. И вот тут нам, русским людям, не след молчать и проглатывать каждую о нас пакость. На каждое измышление и на каждый навет мы обязаны отвечать решительно и достойно. И именно – в их же изданиях. Дабы народы Европы, ничего не ведающие о нас, русских, не попадались на удочку ярых националистов и даже попросту бессовестных проходимцев. По крайней мере, я сам...
– Простите, любезный Тютчев, за то, что я вас перебиваю, – произнёс Бенкендорф, – Так вы решились там, в Мюнхене, вступить в полемику с теми, кто сознательно клевещет на нас?
– Совершенно верно вы изволили меня понять, – подтвердил Тютчев, – С сим, можно сказать, проектом я и приехал нынче в Петербург. И мысль моя была – довести сей проект до тех, кто мог бы одобрить мой план. И вот я наконец польщён вниманием вашего превосходительства, проявленного ко мне.
«Да, вот он, один из тех добромыслящих людей, коих я мечтал сделать опорою державы, – подумал Бенкендорф. – Таких доносителей и пачкунов, как маркиз Кюстин или тот же баварский профессор, у нас и у самих пруд пруди. А вот чтобы смышлёность свою, да не в корыстных целях, а во благо отечества, – сих сыскать только разве с фонарём в наш век продажности и искательства... Но вот же человек, мысли которого так схожи с моими! Поболе бы таких людей под моею рукою – и в государстве нашем, и в странах чужеродных. Их умом, их бескорыстием и совестью мы должны укреплять нашу Россию».
Третье отделение... Корпус жандармов... Тайный сыск, слежка, доносы...
Не довольно ли этого, чтобы отвернуться и бежать, только бы подале от «всевидящего ока и всеслышащих ушей»?
Но давайте взглянем на то, о чём нам как будто бы всё досконально известно, глазами тех, кто сам жил в ту пору. Хотя бы вчитаемся вот в эти слова, написанные в 1821 году:
«Бенкендорф возвратился из Парижа при посольстве и, как человек мыслящий и впечатлительный, увидел, какую пользу оказывала жандармерия во Франции. Он полагал, что на честных началах, при избрании лиц честных, смышлёных, введение этой отрасли соглядатаев может быть полезно и царю, и отечеству, приготовил проект о составлении этого управления и пригласил нас, многих своих товарищей, вступить в эту когорту, как он назвал, добромыслящих, и меня в их числе; проект был представлен, но не утверждён...»
Это – из «Записок» декабриста Сергея Волконского. Когда-то, после сожжения Москвы, вступив в страны Европы, все они, молодые полковники и молодые генералы, были единомышленниками.
Храбро сражаясь против диктатора Наполеона Бонапарта, они все честные помыслы свои устремляли к тому, как после войны обустроить собственное отечество. Это спустя более десятка лет они разошлись по разным дорогам. Начало же их добромыслию было в одном – у кормила державы должны находиться люди с чистым сердцем, для коих благоденствие России – превыше всего.
После мятежа особенно нетерпеливых, с действиями решительными, до конца неосмысленными, после пресловутого четырнадцатого декабря, проект Бенкендорфа был утверждён императором. Какая же власть не стремится к тому, чтобы обезопасить себя от заговорщиков и подстрекателей? От тех, кому – что внутри страны, что за её пределами – расшатать державные устои – словно свершить святое дело...
Тютчев в своё время уже выразил отношение к тем, кто в тот декабрьский день 1825 года вывел на Сенатскую площадь солдат. Полагая, что в борьбе со злом сподручнее всего использовать само это зло.
Вас развратило Самовластье,
И меч его вас поразил, —
И в неподкупном беспристрастье
Сей приговор Закон скрепил.
Народ, чуждаясь вероломства,
Поносит ваши имена —
И ваша память от потомства,
Как труп в земле, схоронена.
О жертвы мысли безрассудной,
Вы уповали, может быть,
Что станет вашей крови скудной,
Чтоб вечный полюс растопить!
Едва дымясь, она сверкнула
На вековой громаде льдов,
Зима железная дохнула —
И не осталось и следов.
Теперь на петергофской даче очаровательной Амалии Крюденер, конечно, речь шла не о том. Покушения на устои державы готовились в странах, которые только благодаря мужеству русских солдат обрели собственную свободу.
Так что ж, дозволять корыстным людям ссорить народы, будто у нашей России с ними – не одна судьба?
– Завтра же о вашем проекте, любезнейший Тютчев, я доложу его императорскому величеству, – снова встал с кресла генерал. – Надеюсь, что государь благосклонно отнесётся к вашим намерениям.
А когда хозяйка дома пригласила к столу, Бенкендорф вновь обратился к Тютчеву:
– Мне известно, что на днях вы отправляетесь домой, в Мюнхен. Так ведь путь в Германию лежит не только из Кронштадта. Его можно начать, скажем, в порту Ревеля.
– Ваше высокопревосходительство намерены предложить любезному Фёдору Ивановичу принять ваше предложение вместе со мною и моим мужем посетить ваше имение в Эстляндии? – вступила в разговор Амалия Максимилиановна.
– Вот именно, наша очаровательная хозяюшка, – улыбнулся Бенкендорф. – Вы, милейшая Амалия Максимилиановна, свели меня сегодня, наверное, с одним из самых умнейших людей России, и я хотел бы продлить наше свидание в моём замке Фалль под Ревелем. Вы принимаете моё приглашение, Господин Тютчев? Вот и прекрасно.







