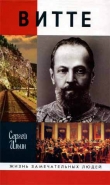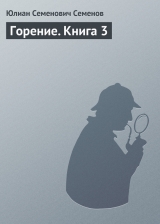
Текст книги "Горение (полностью)"
Автор книги: Юлиан Семенов
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 86 (всего у книги 99 страниц)
– Мечтаю побродить по Сибири, край, видимо, совершенно самобытный...
– Да, он еще ждет своего часа... Пожалуй, ни одна часть мировой суши не была так пронизана идеями революции, как Сибирь: ссылать самых умных и честных сынов в один из прекраснейших уголков страны! Парадокс...
Горький бросил леску с грузиком в зелено-голубую воду; кисть его расслабилась, рука стала как у пианиста, кончившего играть гамму; усмехнувшись чему-то, спросил шепотом:
– Меня, знаете ли, кто-то из критической братии задел за то, что, мол, слишком вольно трактую психологию пресмыкающихся и птиц, – когда написал одну из своих сказок, – может, читали, – о соколе...
– Я ее перевел на польский.
– Да ну?! Поляки читали? Что говорили?
– У вас, как и у всякого мастера, есть друзья и враги; ринг; два лагеря. Наши товарищи учили наизусть... Николенька Воропаев, кстати, великолепно вас читал... Ну, а сановная аристократия считает, что русской литературы, как таковой, не существует, так... журналистика...
– Оп! – радостно воскликнул Горький. – Поклёв! Эк палец удар чувствует!
Выбрав леску, он снял две бело-розовые рыбешки, бросил на днище жестом профессионального рыбака, с какой-то горделиво-ленивой снисходительностью, и снова опустил снасть в тугую глубину моря.
Дзержинский почувствовал, как леска, намотанная на указательный палец, дрогнула, поползла вниз; он не торопился подсекать, смотрел, как зеленое режет зеленое – леска толщу моря.
– Клюет, клюет! – прошептал Горький. – Тяните же!
Дзержинский покачал головой; почувствовал второй удар – видимо, косяк, только не торопиться! Всегда помнил слова Дмитрия Викторовича, лесника из-под Вятки, – тот впервые водил его на медведя, сдерживал: "Куда бежишь, храни силу, у тебя разум, у зверя инстинкт, обмозгуй, куда он норовит уйти, стань на его место, думаешь, медведь куда попадя прет?! Он, Юзя, живет по своим законам, и оне, милок, тоже разумные. Научись ждать, если вышел на медведя, ждать и д у м а т ь так, будто сам мишка; тогда – скрадешь зверя, а иначе упаришься и бабы в деревне будут смеяться: "Горе-охотник, только сапоги попусту топчет"...
После того как леска у д а р и л а третий раз, Дзержинский начал выбирать снасть; снял с крючков шесть рыб, целая гирлянда; Горький несколько обиженно заметил:
– Каждый, кто впервые приходит на ипподром или начинает ловить рыбу, прикасается к удаче, закон игры... Я, как здешний старожил, ловлю не торопясь, зато без рыбы никогда не возвращаюсь.
Дзержинский рассмеялся:
– Завидуете?
Горький потянулся за папиросой, кивнул:
– Не без этого... Почувствовали сугубо верно... Между прочим, Ленин тоже невероятно везуч в рыбалке... Я – по здешней науке, как Джузеппе учил, а он, изволите ли видеть, по-нашему, по-волжски, приладился и каждый день меня так облавливал, что я прямо-таки диву давался... Вообще же, видимо, талантливый человек во всем талантлив, а потому – удачлив... Знакомы с Владимиром Ильичем?
– Да. Мы вместе работали в Стокгольме и Париже... Ну и, конечно, в Питере, в шестом году.
– Я, знаете ли, с огромным интересом приглядываюсь к Георгию Валентиновичу, к Льву Давыдовичу и к нему, к Ленину... Что поразительно, – я в Лондон, на съезд, вместе с ним приехал, город он знает, как Петербург, масса знакомых, говорит без акцента, – так вот он, для которого понятие дисциплины есть некий абсолют, бился с Плехановым и Троцким за то, чтобы мне был определен статут участника, а не гостя, как настаивали эти товарищи... Я спросил его, отчего он делает для меня исключение, ведь вопрос о членстве в партии был главным поводом его раздора с ближайшим другом, Юлием Цедербаумом-Мартовым, а он ответил, что, мол, вы, Алексей Максимович, больше многих других партиец – в истинном смысле этого слова, так сказать, в рабочем... Вы трудитесь, а у наших трибунов сплошь и рядом трепетная страсть к вулканной болтовне... Членство в партии должно определяться полезностью работы, производимой человеком ко всеобщему благу трудящихся... Как ведь точно слова расставил, а? Экий прекрасный лад фразы! И еще: те в первый же день пригласили меня принять участие в дискуссии, а Ленин потащил за рукав: сначала давайте-ка поменяем ваш отель, мне показалось, что в номере сыро, раскашляетесь, а уж потом почешем языки, бытие, знаете ли, определяет сознание, а не наоборот... И весь вечер водил меня по отелям, смотрел, куда окна выходят, спрашивал, с какой стороны солнце встает, – тщательность, знаете ли, поразительнейшая, совершенно не наша, а чисто европейская...
– На выборах ЦК были? – спросил Дзержинский.
– Приходилось.
– Он, Ленин, назвал мою кандидатуру...
– Под псевдонимом, ясно?
– Конечно... "Доманский"... Я тогда сидел в тюрьме...
Горький рассмеялся:
– Вот бы о чем писать... Кабинет будущей России формировался в Лондоне, причем известная часть будущих министров не была приведена к присяге, поскольку сидела в карцерах...
...Вернулись к домику Джузеппе около одиннадцати, поднялись на верандочку маленького ресторанчика, Горький спросил два стакана черно-красного виноградного вина и тарелочку миндаля, жаренного в соли.
Глядя на солнечные высверки, что разбивались о литую гладь зеленого моря, задумчиво, словно бы прислушиваясь к кому-то, кого он сейчас видел, Горький заговорил:
– Третьего дня из Неаполя ко мне пожаловал симбирский купец. Сметки человек ловкой, в деле – хваток и смел, а говорит – с оглядкой... Даже здесь, за тысячи верст от России, всего страшится... Каждое неосторожное словцо рождает паузу, думает – как бы подправить его, сделать спокойным, привычным любому уху. Но – характер-то неудержим, анархия, несет... "Живем, говорит, без заранее обдуманного намерения, как господь на душу положит, ухабисто и тряско – то вправо кинет, то налево мотнет. Раскачались у нас все внутренние пружины, так что механизм души работает неправильно, шум есть, а дела не видно... Черносотельник нам, людям дела, не нужен, вреден весьма. Почему? Да оттого как левый революционер побывал, набросал там всяких разных намеков и ушел, а правый – всегда с нами и шумит в очень неприятном смысле. Скажем, еврей. Сейчас: "Почему еврей?! Измена!" А измены, конечно, никакой, просто человек из Гамбурга за дубовой клепкой для винных бочек приехал, и – как не разрешено ему свободно ездить, так он несколько и скрывается... То же и с немцем: "Почему немец?!" Не хорошо-с..."
Горький сделал маленький глоток терпкого вина – чистый виноградный сок, заметил:
– Русского б человека таким нектаром поить, а не водкой... Здесь ведь больше полустакана за день не пьют, и то – разбавляя водой, поэтому пьяных нет, а кураж – всегда пожалуйста, ощущение алкоголя имеет место быть, хотя всего пять градусов, ни до ног, ни до головы не доходит, услада дружеского застолья...
– У нас пьют оттого, что занятия людям нет, – заметил Дзержинский. – Нет возможности для д е л а, вот и прикладываются к шкалику...
– Слово д е л о таит в себе огромный смысл, – согласился Горький. Купчишка мой рассказывал о своем свате... Он у него председателем "Союза русских людей" в Дремове состоит, правоверный черносотенец, знак на груди носит, а в сердце – страх... "В шестом году с ним это случилось, когда пошли экспроприации, а по-нашему – грабеж; надулся он тогда шаром, выкатил безумно глаза, так с той самой поры и – орет! Один на один, в тихую минуту спросишь его, чего, мол, кричишь? А он: "Боюсь!" Даже плачет иногда, потому как, говорит, пришел России конец, крышка; одолеют нас... Для промышленных людей, добавляет купчишка, – опасность существует, это верно, народ у нас – не подготовленный, вдруг сразу на него новшеств пришло – ну и замялись люди... Раньше все очень просто было: приедет веселый жидочек из Гамбургу к моему куму, и тот спокоен, а ко мне являлся агент марсельской фирмы Осип Моисеевич Шехтель, жулик чище нас, грешных, то есть не жулик, а такой ловкий и удобный человек, честный в деле, это я его так, ласково, жуликом... А теперь мне самому приходится ездить – вот из Дремова-то в Геную и попал... Кум мой такое мнение имеет, что торговое дело – всеобщее и превыше любой политики, так что начальство в торговле – только во вред, ни при чем оно, в торговле рубль начальство... Сын ездит со мною, с языком помогает, бранит, что рано мы, старики, вправо повернули... Не для того, говорит, я родился, чтоб ваши ошибки править... Одни путают, другим – распутывай, а все равно на одном и том же месте толчемся, а между тем соседи не ждут, иностранный капитал пруном прет... Да, – заключил он нашу беседу, – русский народ – уму непостижим, какие-то мимо идущие люди... Идут, идут, а куда – неизвестно... Ни к чему своего истинного отношения нету – одно любопытство, словно бы лишь вчера на землю поселились, и не решено еще у них – тут будем жить али в каком другом месте... Беда! Так все ненадежно, так все требует укрощенья... Не кулаком, это не по времени и цели не служит, тут внутреннее укрощение нужно... Чтоб человек внутри себя успокоился и стал на свой пункт... Забить до дурака – это просто, так ведь жизнь не дураками строится... Нет, ума – не тронь, ум деньги выдумал, а деньги – вот: держу в руке цветную бумажку, и в ней все! И дом, и скот, и жена, и непререкаемая власть... Мой сын кума одолевает своими разговорами, тот плачет и страдает, так разве он один такой? Все ныне сдвинулись с прежних пунктов и айда, пошли! Но – пусть хоть тогда люди додумают свое до конца, а не намеками действуют, не полусловами..."
– Это законченная новелла, – заметил Дзержинский. Горький кивнул:
– Будет называться "Жалобы"... Все в голове, записываю... Туго идет... Прежде я норовил подсказывать читателю вывод, это – в традиции у нас, прав ваш Николенька, мы по сути своей нравоучительны, самые последние христиане Европы, да еще византийского толка – пропущены через Азию, роскоши прилежны, в н е ш н е м у, форме – слово чтим более дела... А сейчас думаю записать рассказ по-новому: некий фотографический портрет собеседников... Пусть читатель сам делает вывод, нечего мне брать на себя функцию митрополита.
– Ну а если все же читатели спросят совета?
– Так он, совет этот, постоянно был у нас с вами на слуху во время сегодняшнего утра, изволите ли видеть... Д е л о... Свободная работа – та, которую человек определяет себе соответственно призванию; право в этой его работе быть хозяином, управителем себе самому... Нынешняя власть самодержащий дурак Романов со товарищи – никогда не позволит народиться силе, которая живет своим умом, а не его рескриптом... Следовательно, грядет – рано или поздно – революция, которая даст право каждому быть творцом своего счастья... Нынешняя-то Россия определяема одним лишь словом "нельзя", какая-то трагическая страна "нельзяния", право. Если и дальше будет идти так, как идет, наступит новый апокалипсис для моего народа: Европа рвется вперед, Япония не уступает ей, и мы будем свидетелями того, как огромная держава медленно утонет в хляби, лишенная права на освобождающую радость созидания... Все же, знаете ли, человек только тогда звучит гордо, когда он свободен в мысли, поступке, любви и мечте... Иначе – химера, холодный лозунг, маниловщина...
– Вы позволите мне почитать ваши последние вещи, Алексей Максимович?
– Конечно, чего ж не позволить... Тем более все чаще начинаю думать – то ли пишу? Нужно ли все это вообще? Хандра какая-то... А сами ничего нового после вашего "Побега" не сделали?
– Нет... То есть в тюрьме я вел дневник... Но думаю, это не для широкого читателя... Отдам в архив партии...
– Перед тем как станете передавать в архив, позвольте мне глянуть, а?
Назавтра вечером постучался в дверь комнаты Дзержинского; глаза были мокрые, слез не стыдился; глухо покашливая, сказал:
– Про архив партии – зря, Феликс Эдмундович... Такое непременно следует печатать. Документ, изволите ли видеть, порою оказывается сильнее любого романа... Правда эпохи читается именно в тех строках, которые вы мне передали... Хороший вы человек, дрложу я вам... Муторно у меня было на душе последние месяцы... Разгром революции – это гибель мечты... Так ведь мы все мечтали о новом, так мечтали... Н-да-с... А вы – помогли мне своим дневником, спасибо... Рыбачить будете один, я – сажусь писать, это – запойно у меня, сутками, не сердитесь, ладно? Книга четвертая 1911 г.
"Я оставляю вам царство которое будет прочным, если вы будете хороши, и слабым если окажетесь дурными Согласием крепнет малое, раздорами разрушается великое".
Крисп "И тем не менее грядет революция!"
Тринадцатого марта тысяча девятьсот одиннадцатого года в Берлине, на одной из конспиративных квартир главного правления Социал-демократической партии Польши и Литвы, Роза Люксембург собрала экстренное совещание своих ближайших сподвижников – товарищей Дзержинского и Тышку; от большевиков был приглашен товарищ Иван.
– Товарищи, в России только что грянул правительственный кризис, – сказала Люксембург. – Либкнехт позвонил мне утром: видимо, завтра следует ждать начала газетных спекуляций. Поскольку все в России происходит тайно, гласность фиктивна, инспирирована; выводы – сумбурны, ибо общественность не умеет еще отделять злаки от плевел, нам следует помочь здешнему общественному мнению. Чтобы журналисты – не только в Берлине, но и в других европейских столицах смогли более или менее верно ориентироваться в русском политическом море, надо, по мнению Либкнехта, провести пресс-конференцию. Либкнехт назвал товарищей Юзефа, Вацлава, Юлиана, Ивана, Лео и Максима. Есть другие мнения?
Не было, понятно.
Товарищ Юлиан отправился в Вену и Краков, Вацлав – в Швейцарию, Максим – в Скандинавию, на встречу с Ганецким, – к мнению скандинавской прессы прислушивались, полагая, видимо, что близость Финляндии придает стокгольмским и норвежским газетам максимум достоверности; Роза оставила за собою оперативную связь с Международным Социалистическим Бюро, Лео – с правлением немецкой социал-демократии и редакцией "Форвертс".
Товарищ Юзеф встретился назавтра с девятью газетчиками крупнейших германских газет в вайнштубе, в районе Фишермаркта, где по маленьким каналам медленно плавали лебеди, а весеннее солнце разбивалось о водяную гладь на тысячи сине-желтых бликов.
Как всегда, Юзеф был атакующ, четок, краток:
– Я прочитал сообщение в вашей прессе, будто некий сибирский старец по фамилии Распутин, близкий к Царской семье, ультимативно продиктовал премьеру Столыпину прошение об отставке. Это – смехотворно. Нельзя столь надменно относиться к серьезнейшим проблемам величайшей державы мира. Можно любить или не любить я в л е н и е, нельзя, однако, явление не замечать, это чревато. Возможное крушение русского премьера продиктовано не религиозным мракобесом, но ходом прогресса, который поддается определенному замедлению со стороны власть предержащих, но остановлен ими быть не может. Поэтому разрешите мне изложить вам нашу точку зрения на предмет правительственного кризиса в России... Премьер Столыпин недавно внес свой законопроект в Государственную думу и в консервативный Государственный совет, не столько выбираемый, сколько назначаемый царем из числа наиболее близких ему по духу землевладельцев. Проект закона Столыпина был посвящен введению земских самоуправлений в шести западных, пограничных губерниях империи, где живет много инокровцев украинцев, поляков, белорусов, литовцев, евреев. Законопроект предусматривает, что в этих губерниях выборы будут производиться по национальным куриям русской и польской; белорусской, литовской, украинской как бы и не существует; евреи к выборам не допускаются. При этом русских помещиков и священников д о л ж н о быть выбрано две трети, то есть абсолютное большинство; руководителями земств и ведущими работниками имеют право быть лишь русские люди; украинцы, белорусы и литовцы практически лишаются Столыпиным права на свой язык, культуру, традиции, на свою национальность, – словом, русские, и все тут! Казалось бы, консервативный Государственный совет должен был поддержать такого рода законопроект, ибо он – при всем при том – составлен таким образом, чтобы продемонстрировать Западу движение России к некоему конституционализму, с одной стороны, но при этом доказать, что империя незыблемо стоит на монархической, великорусской государственной идее – с другой. Однако же нет! Старцы в Государственном совете поднялись против Столыпина, клеймя его чуть ли не в подрыве основ самодержавной власти! Бывший премьер Витте, например, прямо обвинил Столыпина, что тот – самим фактом своего проекта – признает, "будто в исконных русских губерниях Российской империи (заметьте себе, что речь, в частности, идет о Вильне и мн. др. городах) могут существовать политические курии нерусских людей". Все это демагогия чистейшей воды, господа! Смотреть надобно глубже. Проект Столыпина предполагал приход в земства, а оттуда, и в Думу значительного числа "крепких хозяев", то есть кулаков, а их Витте и иже с ним, то есть крупные землевладельцы, весьма и весьма боятся. В этом корень вопроса, коли подойти к проблеме с экономической точки зрения, с позиции глубинного и н т е р е с а старцев. Причем – об этом хоть прямо и не говорилось в Петербурге – большинство кулаков люди не русской, но украинской национальности. Если же рассмотреть проблему с политической точки зрения, то она так же очевидна для тех, кто не с наскока, но серьезно изучает русскую проблематику, ибо своим проектом Столыпин п о д с т а в и л с я под удар старцев, позволив им пугать царя чрезмерной самостоятельностью премьера, его самовластием, выдвижением им на арену политической борьбы своих ставленников, кулаков, для которых не старые монархические лозунги превыше всего, а новое буржуазное дело, не пустое слово, но золотой рубль! А крупный помещик делу не учен, он просто-напросто не умеет д е л а т ь, он желает лишь удерживать имеющиеся у него земли с помощью аппарата насилия, который подчинен царю. Пугая петербургский двор угрозой "русского Бонапарта", старцы жонглировали теми словами, которые понятны царю, они пугали и продолжают его пугать фразами про то, что над "православной государственностью занесена столыпинская секира". Стращая двор угрозой западного конституционализма, старцы валят премьера, ибо тот сформулировал свою позицию недвусмысленно: или его проект проходит, или он подает в отставку. Проект провален. Следует ли из этого, что Столыпин должен уйти?
– Вы закончили вопросительной интонацией, – заметил Фриц Зайдель, корреспондент вечерней берлинской газеты. – Сами-то вы как считаете?
– Я не Кассандра, – ответил товарищ Юзеф. – Я боюсь предсказаний такого рода, тем более что не уход Столыпина или его победа определит ход событий в России, но развитие капитала и борьба рабочих за свои права. Однако вы верно почувствовали мою интонацию. Я не знаю, как правильнее ответить вам... За возможную победу Столыпина говорит то, к а к он смог организовать в России контрреволюцию, как ловко он смог провести разгон Первой и Второй думы, посадив в Таврический дворец в июне девятьсот седьмого года вполне послушных ему депутатов... За него говорит то, как он бросил в тюрьмы большинство деятелей революционных партий, загнал в подполье оппозицию, заставил замолчать слишком уж рьяных критиканов даже из своего лагеря... Это все говорит в его пользу, он – удобен для Царского Села... Но то, что его стал побаиваться царь, – видимо, факт, ибо голоса, раздающиеся против Столыпина с правых скамей Государственной думы, свидетельствуют, что его позиции закачались в высоких сферах...
– Объясните расстановку мест в русском парламенте, – попросил журналист из дрезденской газеты.
– В России нет парламента, – ответил Юзеф. – Дума есть орган совещательный. Что бы ни предприняли Дума и Госсовет, царь может распубликовать высочайший указ, рас пустить заседания и провести любой закон, не обращая внимания на речи депутатов; Дума вообще лишена права влиять на вопросы обороны, флота, финансов, на иностранные дела; Дума не зря названа Думой: думайте себе на здоровье, говорите сколько душе угодно, а решение всегда за мною, за с а м о д е р ж ц е м. Так что, пожалуйста, когда станете писать уясните себе самым серьезным образом разницу между западным парламентом и российскою Думой. Что же касается расстановки мест, то запишите себе ряд имен, это поможет вам ориентироваться в нашем политическом лабиринте... Начнем слева. Социал-демократы и трудовики выражают – в пределах допустимого, понятно, – концепцию организованного рабочего класса и беднейшего трудового крестьянства. К центру относят несколько партий: на "левом фланге" конституционные демократы приват-доцента Милюкова, либеральные интеллигенты, которых называют кадетами. Они конечно же монархисты, категорические враги социал-демократии, особенно ее большевистского крыла, анархистов и эсеров. Они – если можно спроецировать формулировку времен Французской революции "болото" Думы. "Правый фланг" центра до настоящего времени являл собою более или менее зыбкое сообщество, составленное из партии октябристов во главе с Александром Гучковым и прогрессистов. Крайние правые – это националисты во главе с Пуришкевичем и Марковым-вторым, которых во всем, всегда и безусловно поддерживают царь и самые близкие ему люди, влияющие на политику, – в первую очередь дворцовый комендант генерал Де-дюлин и, конечно, государыня – от этой зависит все! Поскольку Гучков и его октябристы вкупе с прогрессистами выражают интересы промышленников и финансистов, двор относится к ним настороженно, ибо главной ставкой Царского Села были и продолжают быть помещики. Им принадлежит около восьмидесяти процентов земель в империи, а численность их не превышает сорока – семидесяти тысяч человек. Они просто-таки обязаны сражаться за свой интерес до последней капли крови! При этом октябристов и крайних правых роднит национальный вопрос: и те и другие стоят на позиции шовинизма. Вопли о "русскости", однако, потребны этим господам не для того, чтобы воистину радеть об интересах великого народа, удивляющего мир своей культурой, наукой, революционной борьбою, но для того, чтобы подкрепить собственные позиции силой армии в борьбе против всех и всяческих конкурентов – будь то англичанин, француз, поляк, немец, еврей или швед.
– Что случится, если Столыпин все-таки уйдет?
– Уйдет он или останется, суть вопроса не в этом, – как-то досадливо поморщившись, ответил товарищ Юзеф. – Меня не интересуют хитросплетения дворцовых интриг, я верен научному анализу данностей. Мы, социал-демократы, говорили всегда и готовы повторить ныне: Россия переживает кризис оттого, что дворцовый блок царя с помещиками, то есть с крайне правыми, не может дать промышленникам тех реформ, которых требует развитие капитализма. Буржуазии, капиталу потребна определенного рода политическая свобода, дабы активно развивать промышленное производство, а царь, главный помещик империи, не хочет, да и не может дать ей политическую свободу. Итак, царь и землевладельцы – с одной стороны, промышленники и буржуазные либералы – с другой. Лебедь, рак и щука. Между ними идет сложная – бескровная пока – драка за власть; царь добровольно не отдаст ее либеральным промышленникам. И при этом стомиллионный трудящийся люд, а б с о л ю т н о бесправный и забитый. Вот в чем суть кризиса. Выход из него отнюдь не в отставке Столыпина или в его победе над дедушками Государственного совета.
– Так все же, – спросил журналист из Гамбурга, – что ждет Россию в ближайшем будущем?
– То есть как это "что"? – удивился Юзеф. – Революция.
Реакция у всех журналистов была одинаковой; весело улыбаясь шутке наивного лектора социал-демократии, тем не менее дружелюбно ему поаплодировали: внес хоть какую-то ясность в таинственные российские дебри... Обида
13 марта 1911, вечер (Генерал Дедюлин)
Человеком, ставшим ныне ближе всех к царю, был дворцовый комендант, генерал-лейтенант Владимир Александрович Дедюлин, боготворивший свою жену Елизавету Александровну не только за ангельский характер и красоту (в ее сорок семь лет седина лишь подчеркивала свежесть лица и детские ямочки на щеках), не за восхитительное, никогда не изменявшее ей чувство юмора, но за то – в основном, – что была она из рода легендарного генерала Дохтурова, друга Дениса Давыдова. Именно отсвет славы героя Отечественной войны, павший на Дедюлина после того, как он сочетался браком с Лизанькой, позволил ему оставить лейб-гвардии уланский его величества полк и перейти на службу в отдельный корпус жандармов.
Всякое действие лишь тогда обретает форму жизненной Устремленности, если продиктовано оно не эмоцией, но логической выверенностью посылов, с одной стороны, и – с другой – точным осознанием перспективы, которая должна открыться в результате предпринятого шага.
Поскольку в доме Дохтуровых была собрана уникальна библиотека о методах партизанских войн – не только в России, но и во Франции (в пору английского вторжения), в Испании, Северо-Американских Штатах, когда индейцы герои чески сопротивлялись вторжению белых; поскольку Дедюлин внимательнейшим образом проштудировал книги, хранившиеся в доме невесты, – в голове его выстроилась последовательная жизненная программа.
Он пришел к выводу, что в трудные для монархии годы когда "корректная доброта царя" входила в противоречие с "алчными устремлениями нуворишей", а также с интересами финансистов, требовавших захвата новых районов мира для вложения своих капиталов (разве не британские банкиры стояли за белолицыми покорителями Северной Америки?!), когда методы исстари сложившихся отношений между государем и ближайшим его окружением нарушены (чаще всего вследствие заговора сторонников машинной техники, рождающей алчность и нищету), прежние методы служения идее самодержавия невозможны; победить коварные силы конституционализма западного образца или, того хуже, революции можно лишь методами партизанской отваги, когда командир отряда берет на себя смелость за принятие решений, не советуясь со старшим, когда подданный несет личную ответственность за судьбу империи, отвечая за поступок лишь перед богом и собственной совестью.
Именно поэтому, перейдя в корпус жандармов, Дедюлин совершил ознакомительную поездку по Ярославской губернии – там он родился, там были земли его и брата Николеньки (роду были дворянского, но колола сердце обида, что не столбовые, а жалованные). По Волге спустился в Нижний Новгород, поклонился стенам кремля, посетовал, что память не сохранила посвященные памяти князя Пожарского реликвии, – видно, ю р к и е подсуетились, от них беспамятство – пойди найди, где почил в бозе Петр (хоть и чужак по своей идее, но ведь самодержец), куда подевались личные вещи Николая I, кто запрятал письма Александра III (один князь Мещерский хранит переписку с усопшим монархом), и лишний раз утвердился, что идея спасения самодержавия только тогда обретет реальную силу, если слуги ее откровенно скажут себе самим: в борьбе со злом победа будет за тем лишь, кто бесстрашно станет на путь всепозволенности в борьбе с крамолой.
Смещение понятий, подмена смысла, ложное трактование святых терминов бывает наказано историей, но кара за это приходит далеко не сразу.
Действительно, примерять на жандармский всезапрещающий мундир венгерку партизана Дохтурова, боровшегося с чужеземным завоевателем, было кощунством, однако возмездие не есть акт спорадический, одномоментный, – потребно время, чтобы вызрела необходимость возмездия, лишь тогда но делается неотвратимым, и поводом может послужить сущая безделица; закономерность воистину есть последствие случайности.
Поэтому честолюбивый замысел Дедюлина сделаться спасителем монархии, бороться за идею самодержавия партизанскими методами на первых порах принес ему невероятные дивиденды.
Ставши в начале века начальником штаба отдельного, его величества корпуса жандармов, сорокапятилетний Дедюлин, в отличие от предшественников, далеко не все свои указания подчиненным фиксировал формальным приказом; окружив себя единомышленниками, Дедюлин пользовал в отношениях с ними не только слово, но даже взгляд: хочешь служить идее, хочешь расти – изволь п о н и м а т ь все так, как мать понимает дитя.
Именно эта его концепция встретила конечно же противодействие и затаенную ненависть со стороны формалистов министерства внутренних дел, которые решили монарший манифест о даровании свободы крепостным принимать буквально, никак не заботясь о духе самодержавия, его высоком, национальном смысле подданичества всех воле одного, помазанного божьей милостью на неограниченное властвование...
Будучи от природы мечтателем, Дедюлин и люди его типа не хотели (а скорее всего, не могли) считаться с фактами, с тем то есть, что не Витте привел Россию к кризисной ситуации девятьсот четвертого года, да и не авантюристы Абаза с Безобразовым, толкавшие государя к началу войны против Японии, но неодолимость развития машинной техники, пришедшей на смену ручному труду, ибо в конечном счете подлинная мощь, то есть независимость государств, определялась теперь не лозунгами и доктринами, но именно уровнем производства рельсов, орудий, паровозов и броненосцев.
Ничто так не опасно для режима личной власти, как преобладание на верхах "партии мечтателей" типа Дедюлина, имевших право на принятие государственных решений, практически бесконтрольных и не поддающихся никаким коррективам.
Математически точному уму Витте, его холодной логике противопоставлялись эмоции с ф е р (то есть двора) и преданных ему мечтателей типа Дедюлина; на пути компетентности вставала незримая стена дремучих представлений, рожденных не истиной, но легендами и слухами.
Народившейся в России главной силе общества, то есть рабочему классу, искусственно противополагалось крестьянство; реальность знать не знали; главным врагом, помимо либералов, почиталась бомба анархистов, а не наука Ленина и Плеханова, – "книжники", "чужеродный элемент, не имеют корней в российском обществе, лишены п о ч в ы, не ощущают в себе нашу к р о в ь, сущая ерунда, отомрут сами по себе".
Однако с ф е р ы искренне верили, что не прогресс привел Россию к кризису, но всяческие масоны и конституционалисты типа Витте, для которых мнение Европы было важнее традиций "народного духа". Именно они, либералы, а не развитие машинной техники, привели к тому, что случилось на Дворцовой площади в январе девятьсот пятого, когда войска были вынуждены стрелять в темный народ, подстрекаемый бунтарями против царя, против того, кто единственно и мог гарантировать самим фактом своего существования всеобщее благоденствие и счастье.