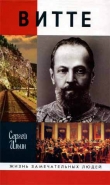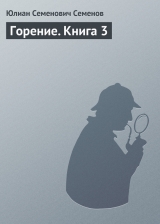
Текст книги "Горение (полностью)"
Автор книги: Юлиан Семенов
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 45 (всего у книги 99 страниц)
По поручению Уншлихта, отвечавшего за подпольные группы народной милиции, к Микульской отправился сапожник Ян Бах. Выбор остановили на нем оттого, что он ни разу еще не был задержан полицией, тачал сапоги для с в е т а, прожил два года в Берлине, посещал там рабочие курсы и мечтал более всего организовать в Варшаве Народный дом, чтобы можно было там оторвать рабочих от водки, костела и шашек, приобщить к спектаклю, к музыке Монюшко, к стихам Мицкевича, Пушкина и Словацкого. С его кандидатурой Дзержинский согласился: "Он хорошо со мною спорил у кожевников, не закрывался, честно возражал, видно – крутой парень".
Перед тем как отправить Баха в кабарет, Уншлихт объяснил:
– Ян, на разговор у тебя с нею – минут пять, не больше. Очень может быть, что за нею и там смотрят, в кабарете. Что-то уж очень ее опекают, даже ночью пост возле дома держат. Сразу же, как подойдешь к ней, скажи: "Я ваш сапожник, если будут мною интересоваться, зовут Ян, пришел по вызову, узнали про меня от вашей подруги Хеленки Зворыкиной". А потом объясни ей наш план. Понял?
...Ян прошел по темному залу, в котором пахло особой т е а т р а л ь н о й пылью, завороженно глядя на слабо освещенный провал голой сцены. Он никогда не думал, что сцена может быть такой уродливой – кирпичная стена, канаты, сваленные куски фанеры, унылая фигура старика с трубкой в углу бескровного синего рта.
– Вам кого, милостивый государь? – спросил старик. – Вы не из труппы?
– Меня вызвала пани Микульска...
– Пани Микульска? Зачем?
– Она знает... Как к ней пройти?
– Я должен доложить ясновельможной пани. – Старик пыхнул трубкой, лениво оглядывая Баха расплывшимися, слезливыми глазами. – У нас в театре так принято, милостивый государь...
Ян подумал: "Она удивится, если я скажу так, как предлагал Уншлихт".
– Я к ней от пани Зворыкиной...
– Пани Зворыкина вас послала к ней?
– Да.
– Как вы сказали имя? Я плохо запоминаю русские имена...
– Зворыкина.
– Погодите, милостивый государь, я доложу ясновельможной пани Стефе...
Старик поднялся, шаркающе ушел в зыбкую темноту кулис, освещенную лишь тревожным мерцанием синего табло: "Вход". Напряжение, видно, было никудышным, скачущим, поэтому электрические буквы то делались яркими, то почти совершенно исчезали.
Старик проковылял на второй этаж, зашел в комнату коммерческого директора – здесь стоял телефонный аппарат, единственный во всем кабарете, – достал из кармана бумажку, на которой ему записали четыре цифры, снял трубку, попросил барышню соединить с абонентом 88-44 и сказал так, как его научили:
– Телефонируют из театра, у нас гости.
И отправился в гримуборную Микульской.
– Пани Стефа, к вам посетитель – по-моему, какой-то ремесленник.
– Почему вы так определили? – рассмеялась Стефания. – Я не жду ремесленника.
– Пан очень старательно одет, шеей вертит и пальцем растягивает воротничок...
– Кто он?
– Не знаю, пани Стефа. Он сказал, что его прислала к вам пани... пани... я забыл имя... русская пани...
– Зворыкина?
– Да, да, именно так.
Микульска сорвалась с кресла, накинула на легкое гимнастическое трико стеганый шелковый халат (всегда холодяще цеплял кожу), бросилась вниз, в зал, – она решила, что пришел тот человек, он специально вертит шеей и поправляет воротничок, он должен скрываться постоянно, он актер, людям его призвания приходится быть актерами, он специально ведет себя так, чтобы сбить всех с толку, он же представился литератором, и ему нельзя было не поверить, такие у него глаза, и такой лоб, и такая легкая, прощающая, горькая улыбка, – конечно, это он, ведь он не мог не почувствовать, как она смотрела на него, он не мог не понять, что гнев ее тогда был жалким, она просто скрывала охвативший ее ужас, когда он открыл ей правду о Попове.
Стефания выбежала в зал, увидела Яна, и радостное предчувствие сменилось мгновенной усталостью...
– Вы ко мне?
– Да. Меня зовут Ян Бах, я сапожник, вы у меня должны заказать баретки, пани Микульска. Меня прислали товарищи...
– Кто? – не сразу поняла Микульска. – Кто вас прислал?
– Товарищи... – повторил Ян, досадуя на непонятливость женщины. – Мне нужно передать вам кое-что...
– Говорите...
Ян услыхал шаги старика.
– Может, вы позволите пройти к вам?
– Да, да, пожалуйста, – ответила Микульска.
В гримуборной Ян завороженно оглядел портреты Стефании, развешанные на стенах; рекламы; фото варшавских актеров с надписями; отчего-то все надписи были сделаны неровными, скачущими буквами; особенно выделялись даты – цифры были непомерно большие, словно бы несли в себе какое-то чрезвычайно важное значение.
– Вам надо сегодня же уехать из Варшавы, – сказал Ян, присев на краешек стула, указанного ему женщиной. – Мне очень неприятно вам об этом говорить, я понимаю, как вам, наверное, тяжело отрываться от сцены, от искусства, но за вами следят.
– За мной?! – Микульска рассмеялась. – Кто?
– Охранка.
– Не выдумывайте, пожалуйста... За мной смешно следить, я вся на виду.
– Товарищ Микульска, мне поручено передать вам просьбу – немедленно уезжайте. Поверьте, скоро вы сможете вернуться, революция откроет двери вашего театра народу...
– Милый вы мой, да разве народу нужен наш кабарет? Балаган...
– Нам очень нужно ваше искусство, товарищ Микульска.
– Какой вы смешной... Вас зовут Ян?
– Да.
– Вы правда сапожник?
– Да. Правда.
– И помогаете революционерам?
Ян повторил упрямо, чувствуя какую-то досадную неловкость:
– Вам надо немедленно уехать, това... пани Микульска... Если у вас есть трудности с покупкой билета, скажите – мы поможем вам.
– Я никуда не собираюсь ехать, милый Ян... Что встали? Сядьте. Где, кстати, ваш товарищ – такой высокий, худой, с зелеными глазами?
– Вы меня простите, но даже если б я знал, о ком вы говорите, я все равно не имею права имя его открыть.
– Почему?
– Вы себя не чувствуете затравленным зверем? А ведь за нами каждый момент охотятся...
– Да будет вам, Ян! Манифест опубликован, амнистия прошла...
– Вы извините, пани Микульска, я пойду... О разговоре нашем говорить никому не надо. Если я вам потребуюсь для помощи – чемоданы упаковать, багаж куда доставить, фурмана [извозчик] пригнать, – это я с удовольствием, я к вам вечером в пять часов на улице подойду, на Маршалковской, вы ж там домой ходите, у дома шесть, где проходной двор... Запомнили?
– Как интересно, – снова улыбнулась Микульска. – Конечно, запомнила... Милый Ян, как мне повидать вашего зеленоглазого, высокого коллегу, который представляется литератором?
Ян поднялся: – До свидания, пани Микульска... До вечера, хорошо?] 18
Ероховский появился, когда репетиция шла уже к концу. Режиссер Ежи Уфмайер ссорился с художником паном Станиславом, молодым человеком, бритым наголо, – в разговоре он часто высовывал язык, словно бы охлаждая его.
– Актеры пугаются ваших декораций, пан Стась! – кричал Уфмайер.
– Что же страшного в моих декорациях, пан Ежи? – художник снова высунул розовый язык, тонкий и стремительный, как жало. о
– Все страшно! – воскликнул Уфмайер. – Что вы мне натащили? Фотографии голодных, нищих и бритых каторжников! Зачем?! На фоне этого б е с п р о с в е т ь я прикажете развлекательную программу играть?! Я и так с текстами пана Леопольда харкаю кровью в цензурном комитете.
– Что же мне, на текст и пантомиму пана Леопольда, в которых рассказывается о царстве д у р н я, рисовать задники, на коих растреллиевские дворцы изображены?! – Художник озлился и поэтому начал хитрить. – Вы же не можете сказать, пан Ежи, что пустячок пана Леопольда про дурня относится к нам, к империи?
– П у с т я ч о к?! – режиссер решил столкнуть лбами художника с драматургом. – Вы говорите о работе пана Ероховского как о безделице?! Его язык, образы, его талант, его...
– Да будет, Ежи, – поморщился Ероховский. – Язык, образы... Милый Станислав, задача артистов заключается в том, дабы помочь людям проскрипеть трудный возраст: от двадцати до пятидесяти – без особой крови, без голода, чумы и слишком жестокой инквизиции. После пятидесяти человеки не опасны – они боязливо готовятся к смерти... А впрочем, Стась, – как всегда, неожиданно повернул Ероховский, – скандал угоден успеху, валяйте.
– Какому? – не сдержавшись, открылся Уфмайер.
– Да уж не коммерческому! – Станислав ударил слишком открыто, а потому не больно. Леопольд рассмеялся:
– После успеха, который выпадает на долю гонимых, то есть успеха ш у ш у к а ю щ е г о с я, наступает успех коммерческий, который так нужен пану Ежи, чтобы и вам содержание, кстати говоря, выплачивать...
– Увеличенное вдвое! – крикнул Уфмайер. – Я заработанные деньги в банк не таскаю! Я сразу же поднимаю ставки актерам! И вам, Стась, вам!
– Тогда я скажу вам вот что, пан Ежи, – откашлялся Станислав и снова высунул язык, – я тогда скажу вам, что ухожу из труппы.
– Бросьте, – зевнул Ероховский. – Никуда вы не уйдете, дорогой Врубель, ибо некуда вам уходить. Замените три-четыре фотографии для задника, всего три-четыре...
– На что? Вы думаете, что все живописцы с детства прихлопнуты лопатой по темечку?! Мы всё понимаем, пан Леопольд, абсолютно всё! Вы ведь пишете про то, какой нам манифест пожаловали и какая у нас с в о б о д а, разве нет?!
– Но я это делаю д в у с м ы с л е н н о, Стась, милый вы мой, я позволяю толковать себя по-разному! А вы хотите это мое двоетолкование пришпилить гвоздем к стене: городовые бьют студентов! Крестьяне мрут с голода! А может, я имел в виду, что студенты бьют городовых, а те лишь защищаются? А хлоп дохнет, оттого, что ленив и туп, сам виновен? Так можно толковать? Можно. В этом и есть суть искусства. Вот вы и поищите, поищите, – посоветовал Ероховский и пошел к Микульской.
Стефания кипятила кофе на спиртовке. Аромат был воистину бразильский, она к каленым зернам добавляла немного зеленых, жирных, они-то и давали запах зноя, жирной листвы на берегу океана.
Выслушав Стефу, драматург перевернул маленькую чашку с густой жижей и поставил на блюдце.
– Даже и не гадая, могу сказать, кохана, что дело пахнет керосином. Надо предложение сапожника принимать... Как его зовут, говорите?
– Ян Бах.
– Что значит революционный момент в стране! Сапожник Бах! Если б к тому еще нашелся полотер Мицкевич, а?! И трубочист Бальзак! Надо бежать, Стефа, обязательно примите их предложение... Во-первых, всякое приключение угодно артисту, оно наполняет его новым содержанием, особые переживания, острота впечатлений... Во-вторых, мне сдается, что это – путь к встрече с зеленоглазым рыцарем, вы ж его во сне видите...
– А неустойка? Уфмайер разорится, мне жаль старика.
– Жаль? Вообще жалость – прекрасное качество. Правда, где-то она рядом с бессилием, рядом с невозможностью помочь. Чтобы помочь двум, надо уметь обидеть одного.
– А весь мир и слеза младенца?
– Так то Достоевский, его видения мучили: проиграешься дотла, на чернила денег нет – не то увидишь.
Ероховский чашечку поднял, впился глазами в зловещий, уродливой формы рисунок кофейной жижи.
– Что? – спросила Стефа.
Ероховский чашку не показал, долил себе кофе, выпил залпом:
– Неужели вы этой ерундистике верите?
Закурил, расслабился в неудобном, слишком низком кресле, ноги сплел:
– Стефа, а к батюшке нельзя податься? Поверьте, кохана, в жизни бывают такие минуты, когда надобно отсидеться. Я, знаете ли, норовлю вовремя отойти, руками-то махать не всегда резонно. Если мы высшему смыслу подчинены, так нечего ерепениться.
– Почему вы думаете, что все это идет от моего рыцаря? Ероховский посмотрел лениво на спиртовку. Стефания зажгла ее, добавила в кофейник зерен.
– Покрепче?
– Покрепче... Вы вправду увлечены им?
– Да.
– Он вас просил о чем-нибудь?
– Да.
– И вы его просьбу выполнили?
– Конечно.
– Почему "конечно"?
– Так...
– Это не ответ.
– Наверное. Вы ж его не видели, не можете судить о нем... Да и не просьба это была, это было совсем иное...
– Не понимаю.
– Я была более заинтересована выполнить то, о чем он мне поведал.
– Я не умею быть навязчивым, Стефа.
– За это я вас люблю, милый.
– Видимо, ему-то и грозит беда, коли вас хотят спрятать...
Стефания резко обернулась к Ероховскому:
– Отчего вы так думаете?
– Оттого, что – по размышлении здравом и после анализа слов этого сапожника Моцарта – следить за вами стали именно после того, как вы повидались с незнакомцем и выполнили просьбу, в которой заинтересованы были вы, а не он... И охотятся не за вами – за ним, и вы – маяк в этой охоте.
Позвонив к Попову, Ероховский сказал:
– Я уговорил нашу подругу поехать отдохнуть, Игорь Васильевич... Сегодня и отправится... Так что с вас – заступничество в цензурном комитете, к пану Уфмайеру снова цепляются, меня за острословие бранят.
Попов поколыхался в холодном смехе, ответил:
– Слово не бомба, поможем, Леопольд Адамович, не тревожьтесь. Подруга наша имя так и не открыла?
– И не откроет, Игорь Васильевич, поверьте, я в этом чувствую острей, я ж людишек п р и д у м ы в а ю, из небытия вызываю... Пусть только мой спектакль поначалу-то запретят, Игорь Васильевич, пусть скандалез начнется, пусть п р и в л е ч е т...
– Увидимся – поговорим, Леопольд Адамович, не ровен час – какая барышня на станции вашими словами любопытствует.
Ян Бах встретил Стефанию именно там, где и ждал ее, – на Маршалковской ровно в пять. Она несла тяжелый маленький чемоданчик – ей только что передал в гримуборной человек, сказал, что надобно спрятать, пока не придут т о в а р и щ и.
Стефания ответила, что, видимо, сегодня уедет. Человек кивнул, сказал, что ему это известно, поэтому и пришел с просьбою от и з в е с т н о г о ей лица.
Арестовали Баха и Стефу на вокзале, билет он взял ей до границы, с той стороны должны были ждать товарищи, предупрежденные в Кракове. 19
Ленин сидел в душной толпе, однако выступления записывал, пристроив блокнотик на коленях, – он умел обживать даже самое малое пространство, и ему не мешало то, что какой-то молодой парень, судя по рукам – рабочий, то и дело наваливался на него литым плечом, аплодируя ораторам, которые были особенно з а ж и г а т е л ь н ы.
– О жарят! – шептал парень, глядя на трибуну завороженными глазами. – О костят, а?!
Ленин отметил, что парню особенно нравились речи социалистов-революционеров – говорили действительно красиво, умело подлаживаясь под н а с т р о й времени, намеренно обращались к среднему уровню подготовленности. Ленина это всегда раздражало. Только актер вправе сегодня играть Федора Иоанновича, а завтра горьковского Сатина; политику такая всеядность противопоказана, ибо он выражает мнение партии, то есть мнение класса. Посему – нельзя п о д д е л ы в а т ь с я, надо ясно и четко – пусть даже наперекор части слушателей – отстаивать то, во что веришь. Конечно, это труднее, аплодисментов будет поменьше, реплики станут бросать, но кто сказал, что политическая борьба подобна бенефису с букетами?!
Ленин вспомнил, как он пришел в Вольное экономическое общество, где заседал Совет рабочих депутатов, когда еще председатель Совета Носарь-Хрусталев и его заместитель Троцкий не были арестованы.
Ленин и тогда сидел в зале среди гостей, так же записывал выступления депутатов, стараясь точно уловить пики общественного интереса; тогда Троцкий, заметив его, хотел было разразиться приветствием, приложил палец к губам – э ф ф е к т ы, столь угодные Льву Давыдовичу, не переносил, считал проявлением недостаточной интеллигентности.
Поведение Носаря-Хрусталева показалось Ленину и вовсе недостойным. Тот вел себя, словно провинциальный "актер актерыч" перед барышнями, – нервическая жестикуляция, манера говорить, одежда – все было рассчитано и выверено, все было подчинено одному лишь: понравиться.
– К счастью, – заметил Ленин, встретившись вечером с Горьким, – такое замечательное дело, как Совет рабочих депутатов, нельзя скомпрометировать личностью председателя, слишком это новое выражает глубинный смысл марксизма, однако на какой-то период замарать, дать повод бравым писакам обливать грязью – тут, спору нет, Носарь работает против нас.
...Судьба Георгия Степановича Носаря была зримым, явственным выражением роли случая в общественной жизни в периоды кризиса.
Помощник присяжного поверенного, человек сугубо средних способностей, Носарь был известен разве что в кругах левых кадетов, как человек увлекающийся, мало начитанный, но говорливый, доходивший во время публичных выступлений до экстаза – плакал, бледнел, пил настой валерианового корня, чтобы успокоить ухающее сердце. Что, однако, было важно для кадетской среды, почему его поддерживали? Носарь умел говорить в рабочей аудитории, подпускал множество прибауток (воспитывался в маленьком патриархальном городке на юге Украины, чувствовал мягкий, образный говор); было в нем что-то ловкое, коммивояжерское; хваткий ум при недостатке образованности позволял тем не менее по-своему п о п у л я р н о толковать кадетские у ч е н о с т и широкой массе.
Когда после Кровавого воскресенья была создана комиссия сенатора Шидловского для "выслушивания" претензий рабочих, туда, по предписанию царя, допускали только фабричных. Кандидатуры "фабричных" для Шидловского готовили черносотенные "союзы русских людей". Царь дважды повторил: "Интеллигентов не пускать, они разлагают моих подданных". И вот тогда-то – неизвестно, с подсказкой кадетов или без нее, – Носарь попросил рабочего Петра Алексеевича Хрусталева, выбранного в делегацию, отдать ему свои документы. Так Носарь стал Хрусталевым. Так он проник к Шидловскому, произнес перед сенатором свою речь, кончившуюся, как обычно, слезами, был задержан и выслан из столицы; вскоре вернулся, жил в пустом вагоне, на вокзале, п о д к о р м к у получал от "освобожденцев", левых кадетов, дороживших в отличие от Милюкова связями с рабочей средой.
Когда летом 1905 года черносотенцы организовали "общество для активной борьбы с революцией" и договорились с Петербургской городской думой о проведении собрания "для выяснения нужд населения", Носарь пришел туда вместе со своими знакомыми – он последнее время чаще всего выступал перед печатниками. Те отправились на собрание с одной лишь целью – сорвать сборище черной сотни. Когда на сцену поднялись руководители нового "общества" Дезобри и Полубояринов, когда Дезобри вышел на трибуну и хотел было начать речь, из зала закричали:
– Председатель нужен! Давайте председателя! Пусть за регламентом следит!
Шепнули между тем Носарю: "Мы вас проведем, а вы тут же Дезобри попросите на минутку с трибуны, дайте слово по порядку ведения нашим, от нас Потапов выйдет".
Носаря проголосовали чуть не единогласно, поскольку никто не знал его: будь он кадетом, социал-демократом или эсером – не пустили бы черносотенцы; окажись черносотенцем – провалили б левые.
(Ленин сказал по этому поводу Горькому: "Сие – парадокс буржуазной революции: полярные силы, представляющие полярные интересы, как правило, останавливаются на фигуре нейтральной, на некоей "междусиле".)
Носарь поднялся на сцену, ощутил торжество, воздел руки, ожидая, что зал, повинуясь его д е м о н и з м у, замрет, но никто не замер, шум продолжался, а когда он предоставил слово большевику Потапову, случилось непредвиденное.
– Товарищи, – сказал Потапов, – неужели мы, рабочие, можем обсуждать хоть что-то вместе с погромщиками, наймитами охранки? Неужели мы уроним себя так низко?! Долой погромщиков и черносотенцев! Да здравствует рабочее интернациональное объединение!
Полубояринова и Дезобри прогнали, вместе с ним ушло человек сорок черносотенцев, и первый же выступающий, большевик Рубанюк, потребовал:
– Хватит разговоров о свободе, товарищи! Хватит болтовни о наших "рабочих нуждах"! Царь и правительство лгали и поныне лгут нам, выгадывая время! Пока мы не возьмем власть в свои рабочие руки, никто нам ни хлеба, ни свободы, ни равенства не даст!
Носарь называл фамилии ораторов, которые присылали ему в записочках, по-прежнему красовался, но в душе его родился страх: "Этого мне не простят, высылкой не отделаюсь".
Его действительно арестовали, но отделался он высылкой, ибо на следствии показал: "Марксизм экономических чертежников, выводящих перпендикуляр из брюха – все, видите ли, определяет бытие, – мне всегда претил. Меня тянет к таким людям, как Милюков, министр народного просвещения генерал Ванновский, Мечников, Жорес".
Осенью вернулся в Петербург – с т р а д а л ь ц е м. Предложил себя в качестве юрисконсультанта "Союзу рабочих печатного дела". Во время октябрьской стачки, когда родилась идея Совета депутатов, был избран печатниками – среди десяти рабочих – в члены Петросовета. После того как первый председатель Совета Зборовский свалился в тяжелейшей инфлюэнце, решили выбирать рабочего председателя на каждое заседание. И снова беспартийный Носарь устроил всех. Кадеты ликовали: "Наш человек, он управляем, он не даст разрастаться стачке, надо сделать все, чтобы его удержать". Вечерние газеты, контролируемые кадетами, начали игру: "Совет перешел в руки революционера-бунтаря, бежавшего из ссылки!", "Носарь-Хрусталев ведет за собой рабочий люд Петербурга!", "Новый Гапон? Нет, Робеспьер русской революции". Умные кадетские стратеги знали, как надо делать рекламу в условиях подъема стачечной борьбы, когда все в империи шаталось и трещало. Следовало о т д а т ь своего человека рабочим, зачем афишировать связи, к чему красоваться – дело есть дело, оно любит тайну.
Троцкого эта реклама привела в бешенство. Перед началом второго заседания он встретился с Носарем в маленькой кулуарной комнатке и сказал:
– Георгий Степанович, я человек грубый, времени у нас в обрез, сейчас начнется заседание, должны выбирать председателя. От вас зависит – б у д у т выбирать или не будут,
– То есть как, Лев Давыдович?!
– То есть так, Георгий Степанович: или вы беспрекословно выполняете все мои указания, – отчеканил Троцкий, испытывая юношескую радость оттого, что мог так уверенно и властно д и к т о в а т ь, – или вам придется отдать колокольчик другому депутату. Решайте.
Носарь остался председателем, выполнял все указания Троцкого, тяготился своим двусмысленным положением – вроде бы председатель, на людях всему делу голова, а на самом-то деле пешка. Поэтому начал отлаживать тайный контакт с эсерами, задумал арестовать Витте, разграбить оружейные магазины Чижова и Венига, вооружить сотню в е р н ы х, сделать ее "гвардией Носаря". Не успел Витте подписал ордер на арест. Не помогло заступничество директора правления Юрьевского металлургического общества магната-миллионщика Белова. Тот убеждал премьера, что лучше Носаря никого не сыскать, он хоть и крикун, но на него цыкнуть можно, он являет собою образец такого председателя, который у всех рабочих отобьет охоту на многие годы в Совет заглядывать – что к болтунам ходить, когда жрать нечего? Витте, однако, не внял, Носаря и Троцкого увезли в "Кресты". Настала пора завоевывать Советы по-настоящему, что было нелегко Троцкий привел с собою множество меньшевиков.
Горький как-то сказал Ленину:
– Трудно с Львом Давыдовичем, уж больно эгоцентричен, фейерверк, а не человек. Окружающих норовит, словно тесто, в кастрюлю вмять.
Ленин ответил:
– Не личность определяет дело, а идея.
– Личность может всякое наколбасить, Владимир Ильич.
– А мы зачем? – Ленин нахмурился. – "Мы" – категория сугубо серьезная, Алексей Максимович. Пока Троцкий был в Совете, приходилось с ним ладить. Трудно? Конечно. А что дается легко в наше время? Но сейчас надо сделать все, чтобы укрепить в Советах, особенно тех, которые родятся в будущем, наше влияние, тогда никакой председатель, никакой заместитель не смогут повернуть ни к кадетствующим либералам, ни к пустозвонам меньшевикам.
– Что же вы эдак-то товарищей меньшевиков, Владимир Ильич?
– Обидно за Мартова с Даном? Мне – больше, Алексей Максимович. Меня с ними связывает десятилетие. Дайте им другое определение, не такое резкое, но так же точно определяющее их сегодняшнее лицо, – я приму, с радостью приму, я готов смягчить, но только не в ущерб правде.
...Ленин записывал выступление кадета; тот говорил о безумии московского восстания, убеждал депутатов подействовать на фабричных:
– Только Дума, только через Думу мы сможем отстоять наши требования! Только Дума сделает нашу жизнь гласной! Тогда новое кровопролитие окажется невозможным, только тогда мы сможем понудить правительство Витте уступить!
Ленин сделал стремительную, л е т я щ у ю пометку в блокноте: "заигрывают с г-ном С. В.". Он привык к своей быстрой клинописи: с одной стороны, навык конспиратора, с другой – время, он мучительно ощущал, как счетчиком щелкает время, он благоговел перед ним, именно во в р е м е н и – то есть реально, наяву – должно произойти то, чему он отдает себя; время мстит медлительным, боящимся принимать решения.
"С. В." – Витте. В декабре, уже после арестов в Петросовете, Ленин почувствовал ярость, истинную ярость, когда прочитал интервью, данное премьером американскому журналисту Диллону для "Дэйли ньюз" сразу же после расстрела московского восстания.
"Русскому обществу, – говорил Витте американцу, – недостаточно проникнутому инстинктом самосохранения, нужно было дать хороший урок. Оно должно было обжечься. После этого оно-то и запросило помощь у правительства. Мы откликнулись на обращение. Мы помогли. Бунт подавлен".
Ленин, когда только узнал об этом интервью, приехал к Вацлаву Воровскому тот жил в меблированных комнатах "Париж", на Караванной.
– Надо готовить прокламацию, срочно, – сказал Воровскому. – Вооруженное восстание – не самоцель, оно есть средство борьбы против тирании. Правительство не хотело удовлетворить требования рабочих, а точнее – по своей классовой сути – не могло. Что же остается пролетарию? Ему остается лишь одно – борьба, оружие, схватка с тупыми, злобными палачами. Витте добавил к тому, что сказал расстрельщик Дубасов, он до конца раскрыл план провокации. Как же не совестно Георгию Валентиновичу говорить нам: "Не надо было браться за оружие!"
– Дубасов? Его заявление? Где? – спросил Боровский. Он стал редактором "Новой жизни" по иностранному отделу, просиживал все дни за парижскими, английскими и американскими газетами, в ы т а с к и в а л оттуда сообщения, которые можно было пускать без цензуры, со сноской на информационное агентство, – было предписание иностранцев не цензурировать, не раздражать зазря во время борьбы за заем в Европе.
– Я у вас в редакции со стола взял, – сказал Ленин, положив перед Воровским "Матэн". – Свежий, пять дней назад вышел. Боровский раскрыл газету.
"В о п р о с к о р р е с п о н д е н т а Л е р у: Вы были в неведении по поводу декабрьских настроений в Москве!
А д м и р а л Д у б а с о в: Отчего же, мы знали все.
П ь е р Л е р у: А правительство?
Д у б а с о в: Правительство я информировал.
П ь е р Л е р у: Значит, в с е знали о том, что может случиться!
Д у б а с о в: Да.
П ь е р Л е р у: Как же тогда объяснить вашу позицию, господин адмирал!
Д у б а с о в: Мы предоставили дело ходу событий".
(Правительство кокетничало осведомленностью: оно никак не ожидало столь массового выступления московского пролетариата; оно было растеряно, однако стремилось извлечь политическую выгоду из сложившейся обстановки – пыталось толкнуть общество вправо.)
Боровский поднял глаза на Ленина. Его поразило лицо Ильича – оно было словно вырубленным из камня. Боровский замечал: Ленин порой выглядел очень молодо, никак не дашь тридцати пяти, а иногда – как сейчас – подавшийся вперед, напряженный, с прищуренными глазами, он казался стариком, так глубоки и резки были морщины, так с т р а д а ю щ и глаза.
– Кто будет писать? – спросил Боровский. – Вы?
– Нет. Посоветуйтесь с Горьким. Покажите ему материалы, переведите только – он не читает по-французски, можно обидеть невнимательностью, литератор человек особо ранимый. Прокламация нужна немедленно. Расстрел московских рабочих следует связать с арестами в Петросовете – звенья одной цепи.
...Ленин перевернул страницу блокнота.
Выступал эсер.
– Необходимо распечатать бюллетени Советов для того, чтобы рассылать их в сельские местности, надо знакомить товарищей крестьян с опытом работы петербургских, ивановских и московских рабочих!
"Молодец, – отметил Ленин, – разумная мысль. Вздуют беднягу в его ЦК: "никакой легальщины, мы – партия конспираторов".
Потом выступал меньшевик, говорил о необходимости координации работы всех партий в борьбе за демократизацию России.
– Не отказываясь от наших партийных установок, мы должны все вместе думать о будущем.
"Общее будущее с октябристами? – сразу же отметил Ленин. – Какая, право, безответственность, здесь собрались рабочие, а не лоббисты".
– Мы должны привлекать всех желающих сотрудничать с Советами, всех без исключения, любого члена общества, если только намерения, с которыми к нам идут, искренни.
"А как вы проверите "искренность" намерений? Как можно в Совет звать в с е х? Звать можно только тех, кто представляет интересы класса!"
Потом говорил еще один кадет, снова уповал на объединение "культурных слоев" для "закрепления достигнутого в революционном процессе". Его сменил беспартийный, из недоучившихся, резко требовал отменить входные билеты в императорские театры.
Потом бабахнул либерал – из т е о р е т и к о в:
– Граждане! Безответственность многих выступавших ораторов ярче всего проявляется в том, что они обходят практическую осуществимость народовластия через "революционное правительство" или через Советы. Можно ли мечтать об этом? Да, мечтать можно, но провести в жизнь нельзя! Либеральная интеллигенция, крестьянство, пролетариат – революционны, но революционная кооперация трех этих элементов под флагом вооруженного восстания невозможна, немыслима! Из каких же тогда элементов может возникнуть та новая власть, о которой не устают твердить революционные партии и особенно большевистская фракция? Чем могла бы оказаться такая власть? Диктатурой пролетариата? Да разве можно говорить об этом в России?! Ее смоет волна контрреволюции!
Это выступление Ленин записал целиком, напрягся – вот оно, начало с х л е с т а, повод к выяснению позиций, к размежеванию. Однако слова не просил, внимательно слушал бойкого меньшевика – тот, возражая по существу вопроса о власти, по форме извинялся перед либералом, повторяя все время как заклинание: "Предыдущий оратор должен понять!" Он дискутировал, цеплялся за слова либерала, увещевал, а надобно бить, наотмашь бить!
Ленин выступил перед закрытием заседания, когда в зале прибавилось рабочих – наступало время окончания первой смены, восемь вечера; несмотря на то что работать начинали в шесть, но шли из цехов не домой, сюда шли.