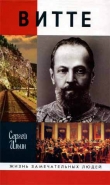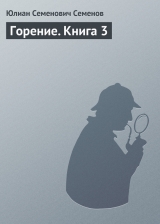
Текст книги "Горение (полностью)"
Автор книги: Юлиан Семенов
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 99 страниц)
Дзержинский знал, что в одиннадцать часов, когда шум, по словам Винценты, будет отчаянный, когда каждый станет принадлежать только своему столу и своей компании, когда все окутается табачным дымом и хозяин, Казимеж Новаковский, выпьет которую по счету рюмку воды, изображая, что это водка, в корчму войдет маленький, чернобородый Адам, остановится возле пана Казимежа и громко спросит:
– Фазанов мне Владислав не оставлял?
Это был пароль.
Потом Адам должен сесть к вешалке, взяв у пана Казимежа большую кружку с черным пивом, и сделать два глотка. После этого Дзержинский мог подойти к нему и сказать:
– Если у вас будут фазаны, я бы с радостью купил их для моего друга Юровского.
Эта партийная фамилия Матушевского была отзывом: Адам помогал переправлять нелегальную литературу, когда жандармы начинали особенно усиленно ш у р о в а т ь пассажиров на границе.
(– У них есть провокатор, – провожая Дзержинского, сказал Матушевский. Они слишком хорошо чуют запах наших книжек.
– И заграничная агентура, – добавил Дзержинский. – Мы, к сожалению, обращаем на нее мало внимания, а она в Берлине имеет большие связи – товарищи в Александровской тюрьме говорили мне...)
Пробило одиннадцать часов; Адама все еще не было, хотя дым щипал глаза, и Дзержинский с трудом сдерживал подступавший к горлу кашель, опасаясь больше всего, что снова, как там, на островке, в Сибири, ощутит тепло крови и не сможет скрыть ее, а здесь кровь сразу заметят, а откуда чахоточный – это яснее ясного для всех собравшихся: тут каждый второй служит на охранку, полицию, корпус жандармов, железнодорожную службу – сколько их, проклятых этих служб, в России-то?!
"Винценты сказал, что Адам помогает нам не столько за деньги, сколько из-за симпатии, – продолжал думать Дзержинский. – Контрабандист и симпатия к социалистам? Впрочем, вполне возможно: не ради ж интереса он жизнью рискует, таская через реку шерсть, зеркала и шевиот. Дали б человеку возможность кормить семью на честный труд – разве б пошел на преступление закона? Человека всегда подводят к грани; жизненные обстоятельства принуждают его преступить черту – этот Рубикон, обычный, маленький, житейский – пострашнее Рубикона Цезаря. Там – честолюбивое желание властвовать, здесь – старание прокормить семью. Наказывают проигравших и там и здесь одинаково, а какова разница в истоке преступления черты?"
Адам пришел в одиннадцать двадцать три.
В одиннадцать пятьдесят они пересекли запретную зону.
В одиннадцать пятьдесят семь тропку, по которой они шли, перегородили четверо: в руках поблескивали длинно отточенные ножи.
– Деньги, барахло, какое под куртками намотано, кидай к ногам, – сказал тот, что стоял в тени, – маленький, худенький, по голосу подросток. – Шум поднимете – перья пустим в ребра.
– Денег нет, – сказал Адам. – Что ж на своих-то, братья?
– Мы – не твои, – отрезал маленький. – Барин – ты, ты, длинный, выворачивай карманы.
– У меня есть двадцать девять рублей и восемнадцать марок, – ответил Дзержинский.
– Политик, – радостно сказал кто-то из бандитов. – Идейный, "граф", просто самый настоящий идейный. Нам за него отвалят, "граф", отвалят!
– Сними шляпу, – приказал маленький Дзержинскому.
Тот шляпу снял, прищурился яростно: попасться так глупо!
– Повернись к луне, – так же бесстрастно приказывал маленький, которого называли "графом". – Я хочу посмотреть на тебя.
Дзержинский повернулся к луне, сказав:
– И на этом кончим комедию, ладно?
– Ты в мае в Александровке красный флаг поднимал? – спросил "граф".
– Это тебя бил Лятоскович? – изумился Дзержинский.
– Ты поднимал флаг? – снова спросил "граф".
– Я!
– Пустите их, – сказал "граф", Анджей, брат Боженки. – Иди, Дзержинский. Воры помнят добро. Иди.
– Сколько тебе лет?
– Мне тысяча девятьсот два года от рождества Христова, – ответил "граф" и скрылся в камышах. Следом за ним исчезли остальные – без споров или вопросов. Шум слышался мгновение, потом стихло все, будто случившееся только что было миражем, вымыслом, дурным сном. 1903-1904 гг. 1
Новорожденный век подрастал, год шумливо грохотал за годом; юный "трехлеток" удивлял человечество, разучившееся уже, казалось, удивляться: хирург Боташов заявил о возможности операций на сердце, за что был изгнан из императорской военно-медицинской академии как шарлатан; инженер Попов обивал пороги военных ведомств, предлагая начать эксперименты, связанные с передачей голоса на дальние расстояния, но всюду получал отказ: "Нас не проведешь, голубчик, где ж это видано, чтоб голос из Москвы услышали в Берлине?! Дураков нет, на государственной службе люди сидят грамотные, нас вокруг пальца не обкрутишь"; жадно искал субсидий на изыскания, связанные с новой тормозной системой, путеец Матросов, – его гнали отовсюду, презрительно разглядывая бритое, а потому подозрительное лицо – какой нормальный человек бороду и усы стрижет? Ясное дело, социалист!
Ушлые газетные критики звонили во все колокола тревогу: вместо столь дорогого интеллигентному сердцу мелодизма стали рваться на подмостки распущенные хулиганы, дерзко именовавшие себя композиторами, всякие там Рахманиновы да Скрябины, – ничего своего нет за душою, одно подражание западным Равелям и прочим Дебюсси!
Того, кто по-своему, не на показ или эгоистично ("после меня хоть потоп") думал о судьбе России, подвергали гонению и травле, разрешенной, более того, поощряемой власть предержащими.
Несмотря на свирепые жандармские расправы, Россию потрясали крестьянские бунты, рабочие фабрик бросали работу, объявляя стачки; этому не могли помешать ни аресты, ни голод, ни полицейские штрейкбрехеры; бурлили университеты, особенно студенты, которые пришли в храмы науки на последние гроши, не порвав еще связи с теми, чьей кровью и потом капитал расширял "первоначальное накопление", начавшееся в России с опозданием в добрых две сотни лет, а потому особенно яростное, увертливое, прикрываемое словесами об "общем благе", классовой гармонии и русском единородстве. Родство-то было единое, в этом спору нет, только миллионы русских жили в бараках и темных, дымных избах, в "азиатчине и дикости", а сотни таких же вроде бы по крови "радели о будущем" в мраморных залах своих дворцов.
Когда прорывался сквозь свирепые полицейские запреты отчаянный вопрос: "Отчего же так? почему по-разному живем? до каких пор? кто повинен?" – ответ был готов заранее, отпечатан, размножен, вызубрен: "Виноваты социалисты, жиды, полячишки, смутьяны и прочие книжники". Однако поскольку повторялось это изо дня в день на протяжении многих десятилетий, а пропасть между власть имущими и угнетаемыми росла угрожающе, несмотря на аресты социалистов, ссылки "книжников и смутьянов", несмотря на ограничительные национальные цензы, народ постепенно переставал верить в спасительные слова официальных разъяснений. Люди искали правды, люди требовали, чтобы им объяснили истинную причину, которая рвала общество на сотни богатых и миллионы нищих.
Ленин (о нем и его партии вообще не поминали – не то что письменно, даже в разговоре запрещалось) напечатал в "Искре" "Письмо к земцам".
"Приводим полностью гектографированное письмо к земским деятелям, которое ходило по рукам... – писал Ленин: – "...Длинный ряд печальных и возмутительных фактов, молчаливыми свидетелями которых мы были за последнее время, мрачной тучей тяготеет над общественной совестью, и перед каждым интеллигентным человеком ребром ставится роковой вопрос: возможно ли далее политически бездействовать и пассивно участвовать в прогрессирующем обнищании и развращении родины! Хронические неурожаи и непосильное податное бремя в вида выкупных платежей и неокладных сборов буквально разорили народ, вырождая его физически.
Фактическое же лишение крестьянства всякого признака самоуправления, мелочная опека официальных и добровольных представителей "твердой власти" и искусственная умственная голодовка, в которой держат народ непрошеные блюстители "самобытных и законных начал", ослабляют его духовную мощь, его самодеятельность и энергию.
Производительные силы страны нагло расхищаются отечественными и иноземными деятелями при милостивом содействии играющих судьбами родины авантюристов. Тщетно "благодетельное правительство" рядом одно другому противоречащих и наскоро придуманных мероприятий силится заменить живую и планомерную борьбу экономических групп страны. Попечительное "содействие" и "усмотрение" бессильны перед зловещими предтечами хозяйственного и финансового банкротства России: земледельческим, промышленным и денежным кризисами – блестящими результатами политики случая и авантюры. Печать задушена и лишена возможности пролить свет хотя бы на часть преступлений, ежечасно совершаемых защитниками порядка над свободой и честью русских граждан. Один произвол, бессмысленный и жестокий, властно возвышает свой голос и царит на всем необъятном пространстве разоренной, униженном и оскорбленной родной земли, не встречая нигде должного отпора..."
Это очень поучительное письмо, – заключал Ленин. – Оно показывает, как даже людей, мало способных к борьбе и всего более поглощенных мелкой практической работой, сама жизнь заставляет выступать п р о т и в самодержавного правительства...
Мы не знаем пока, какой успех имело воззвание старых земцев, но почин их кажется нам во всяком случае заслуживающим полной поддержки...
Пошлем же привет новым протестантам, – а следовательно, и новым нашим союзникам. Поможем им.
Вы видите: они бедны; они выступают только с маленьким листком, изданным хуже рабочих и студенческих листков. Мы богаты. Опубликуем его печатно. Огласим новую пощечину царям-Обмановым. Эта пощечина тем интереснее, чем "солиднее" люди, ее дающие.
Вы видите: они слабы; у них так мало связей в народе, что их письмо ходит по рукам, точно и в самом деле копия с частного письма. Мы – сильны, мы можем и должны пустить
это письмо "в народ" и прежде всего в среду пролетариата, готового к борьбе и начавшего уже борьбу за свободу всего народа.
Вы видите: они робки... Покажем же им пример борьбы...
Будемте читать рабочим на кружковых собраниях о земстве и его отношении к правительству, будемте пускать листки по поводу земских протестов, будем готовиться к тому, чтобы на всякое поругание сколько-нибудь честной земщины царским правительством пролетариат мог ответить демонстрациями против помпадуров-губернаторов, башибузуков-жандармов, и иезуитов-цензоров. Партия пролетариата должна научиться преследовать и травить в с я к о г о слугу самодержавия за в с я к о е насилие и бесчинство против какого бы то ни было общественного слоя, какой бы то ни было нации или расы".
Слова ленинской правды, подобно семенам, падали в почву, подготовленную всем строем русской жизни, зажатой царской бюрократией, тупой, необразованной, а потому всего страшившейся; обманываемой пьяными попами; "обложенной" со всех сторон "патриотами черной сотни", для которых был лишь один идеал – "то, что раньше"; будущего страшились, опять-таки из-за темноты своей, а ведь где не думают о будущем – там предают не только настоящее, но и древность отдают в заклад, ту самую, которую представляют неким идеалом... Но разве прошлое может быть идеалом будущего, разве возможно жить по "отсчету наоборот"?!
Чего, казалось бы, проще: отдай, государь-батюшка, стареньким предводителям дворянств малую возможность влиять на малое же, но с соблюдением милых их либеральным сердцам французских "штучек" – чтоб можно было и собраться, и покритиковать, и попикироваться, чтоб можно было дать интервью, пожурить "нижние этажи" власти, намекнуть на этажи верхние, но таким намеком, который будет понятен лишь своим же, в л а д е ю щ и м, чтобы, одним словом, в противовес бюрократической машине организовался некий парламентский механизм, где можно было бы обсуждать и вносить предложения, как п о с о в р е м е н н е е сохранять привычное, капельку его модернизуя, не замахиваясь, спаси господь, на устои "самодержавия, православия и народности".
Чего, казалось бы, проще: отдай, царь-батюшка, либеральничающим промышленникам и финансистам хоть малую толику влияния на д е л о, позволь им самим решать, где, как и почем строить, держи их подле себя в качестве совещательного совета, чтобы к их слову прислушивался и министр финансов, и министр иностранных дел – они ж чиновники, они могут лишь п р о в о д и т ь, а эти-то денежки вкладывают, свои, кровные, а ты поди сумей их выжать, сумей подмазать губернатора, облапошить министра, обвести управляющего Департаментом, подкатиться к члену государственного совета, повалить конкурента, сунуть прессе, а при этом еще с рабочими управляться, держать в ежовых рукавицах, выплачивая им тысячную долю того, что они своим трудом отчуждают в бронированные сейфы банков.
Нет, не отдавал государь ничего тем, кто мог бы у д е р ж а т ь по-новому.
Чем объяснить это? Инерцией страха? Неумением приспосабливаться к развитию? Ленью? Желанием сохранить все так, как было раньше? Но раньше-то не было рабочего класса! Раньше не было лабораторий и университетов, где затевали т е м н о е всякие там Лебедевы, Тимирязевы, Павловы, Бахи, Мечниковы, Менделеевы, Сеченовы, Циолковские (этот хоть, блаженный, уехал в Калугу, в глушь – там пусть себе крылья строит, там – не страшно). Не было раньше той сцепленности – рабочие руки и поиск ученых, а ведь именно такого рода надежная сцепленность гарантировала более или менее стабильное государственное могущество – до тех пор, естественно, пока законы развивающегося капитала не сталкивали интересы Ротшильдов, Круппов, Морганов и Рябушинских в кровавую бойню.
Видимо, Николай II не то чтобы не хотел понять всего этого, – он не мог этого понять, поскольку образование получил келейное, домашнее; языкам был учен, латынь читал, но был лишен з н а н и я общественного, широкого, а потому балансировал между разностями мнений, полагая, что высшее призвание самодержца в том и заключается, чтобы балансом разностей сохранять существующее. Впрочем, получи он университетское образование, самое что ни на есть широкое, и в том, пожалуй, случае он бы все делал, дабы с о х р а н и т ь привычное; куда ни крути – самый богатый человек империи, ему все позволено, как же эдакого не держаться, как же не опасаться, что отберут?!
Старались всеми силами сохранить, законсервировать сельскую общину, полагая, будто ее замкнутость обережет крестьян от "зловредных влияний", не желая понять, что новый век, со всеми его техническими новшествами, окажется сильнее того уклада, где сообща голодали, сообща гнули спину на помещика, помирали только поврозь; общим было горе – счастья не было.
Пытались делать ставку на то основополагавшее общину, что превращало ее в замкнутый цикл – "решим кругом", "посидим рядком, поговорим ладком", "не надо сор из избы выносить"; эти горькие пословицы, возраст которых исчислялся столетиями, давали бюрократии надежду на с т а р о с т ь, на тех, кто помнил, как пороли крепостных, кто страх всосал с молоком матери, кто боялся окрика и внушал детям: "Тише надо жить, тише, не высовываться".
Община надежно сохраняла Россию от вторжения капиталистического, прогрессивного по сравнению с ней, земледелия. Но при этом, охраняя свою с а м о с т ь, русская община лишила крестьянина, да и не только его, тех общественных качеств, которые были присущи всем последовавшим за общинным землепользованием формациям. Не было в России истинного феодализма, не было, значит, и рыцарства, то есть гипертрофированного чувства собственной значимости. Не было классического капитализма; не было, таким образом, з а к о н о в, ибо капиталист на закон – дока, он под ним, под законом, с мужика и рабочего шкуру сдирает и пять потов гонит ради своей прибыли. Но – по закону же! По закону, утвержденному парламентами, рейхстагами, палатами депутатов, конгрессами и сенатами! Миновал Россию, ее хозяйственный уклад, империализм то есть кровавая и н и ц и а т и в а, переходящая в преступление, но, тем не менее, и преступления-то были инициативные, напирающие, резкие!
Все эти ипостаси общественного развития пришли в Россию с громадным опозданием, но – пришли все же.
Прорубая тайгу, ложились версты железных дорог: государство, одной рукой опиравшееся на "идеологию темноты", второй рукой невольно разрешало "свет". Самодержавие вынуждено было понять, что без стальных магистралей не соберешь в единый кулак огромную державу. Хотелось бы, конечно, сохранить ямщицкие прогоны, да вот беда: подвели к русским границам со всех сторон рельсы, провели, окаянные, и даже через Персию и Кавказ стали тянуться, и кто?! лучший друг, любезный брат Вильгельм, кайзер прусский!
Парадокс самодержавия таился в его постоянной ущербной раздвоенности, в желании удержать, сохранить любой ценой старое, но, оказывается, старое это, столь милое сердцу, удержать можно только с помощью ненавистного, угрожающего, непонятного н о в о г о.
Происходило образование новых общностей, в первую голову промышленных, где надо было не к дедам прислушиваться, а к молодым инженерам. По ночам, в бараках рабочие внимали дерзким словам агитаторов, апостолов от социализма.
Разрушался уклад, сокрушаемый всевластным продвижением капитала. Самодержавие подвергалось давлению с двух сторон: те, которых угнетали, требовали хлеба, чтобы выжить; те, кто угнетал, заботились о патронаже сверхприбылям.
Шатался от полуночных веселий московский "Яр", северная столица жила шалой жизнью, засыпая лишь поутру; внешне все казалось незыблемым и прочным, но изнутри, незаметно и постоянно, как весенние ручьи в мартовском лесу, разрушалось старое, привычное, казавшееся устоявшимся; воздух был наполнен ожиданием нового; перемены, которых ждали классы общества, различные в главном, были едины в одном: "Дальше так быть не может".
Время китайских стен кончилось: двадцатый век раздвинул границы, расшатал их, сделав мир, волею людей труда и разума, маленьким и общим – со всеми его заботами, страхами и надеждами.
Старые мудрецы и юркие авантюристы, окружавшие трон, общались с блаженными, доносчиками, спекулянтами, агентами охранки, послами, попами, не умевшими прочесть священное писание; авантюристы жадно искали ту идею, которая могла бы к а р ь е р н о выделить их в глазах государыни (она императором верховодит, главное – ей в масть угадать); и получилось так, что д о л г а я задумка графа Балашова, издателя, землевладельца, державшего капиталы в Лионском банке, идея о том, что "хорошая война" встряхнет и объединит общество, была близка к реализации: вовсю шла подготовка к "шапкозакидательской" битве на дальневосточной окраине.
В этой предгрозовой сумятице, чреватой преддверием раската, только Ленин и его партия, обращаясь к русским рабочим, называли путь, единственно радеющий о национальной гордости великороссов, единственно определяющий реальную, а не химерическую перспективу развития исстрадавшегося народа, который силою и обманом понуждали угнетать другие народы и терпеть при этом своих единокровных, жестоких и трусливых, а потому особенно опасных угнетателей.
...Збигнев Норовский пропустил Дзержинского в полутемную, сырую комнату.
– Вот здесь, – сказал он. – Погодите, я зажгу свет.
Он запалил фитиль в большой керосиновой лампе-"молнии", поднял ее и, осветив потекшие стены, заржавевшие типографские станки, листки бурой бумаги на цементном полу, сказал:
– Это все можно убрать за день. Наймете людей – вылижут.
– Тут в два счета чахотку наживешь.
– Я не нажил. Выпустил запрещенных русскими Мицкевича и Словацкого – а живой.
– Вы же не стояли у набора.
– А где же я стоял, по-вашему? Но я не навязываю – найдите помещение лучше. С вас такие деньги заломят – ой-ой! Пойдемте, я покажу комнату шеф-редактора.
Он прошел мимо станков, поднялся по разбухшей от сырости деревянной лестнице, толкнул ногой склизлую дверь: в маленькой комнатке было большое, во всю стену, окно, выходившее на реку. Отсюда был виден Вавель, громадный краковский замок, возвышавшийся над городом, и два моста, переброшенные через коричневую, мутную воду.
– Как кабинет? Здесь можно сочинять поэзию, которая останется на века! тяжело отдуваясь, сказал Норовский. – Такой вид чего-нибудь да стоит!
– Сколько вы хотите за аренду?
– Сколько я хочу за аренду? – переспросил Норовский. – Это зависит от того, что вы здесь намерены печатать, пан Доманский.
– Какое отношение это имеет к оплате?
– Прямое. Если вы начинающий поэт и решите печатать вирши, я возьму одну плату, – начал перечислять Норовский, – если вы, к примеру, задумаете выпускать крапленые игральные карты и не станете регистрироваться в австрийской полиции, я запрошу совсем другую цену; если вы хотите издавать для контрабандной спекуляции учебники на польском языке, запрещенном в школах Польши, я пойду советоваться к юристу.
– А если я хочу выпускать ту литературу, которая поможет Польше учить своих детей на родном языке? – спросил Дзержинский.
– Тогда я вообще не сдам вам помещение.
– Почему?
– Потому что мы никогда не сможем учить наших детей польскому языку в школах, покуда есть Россия, Пруссия и Австро-Венгрия.
– Смотря какая Россия, какая Пруссия и какая Австро-Венгрия.
– Не тешьте себя иллюзиями, пан Доманский: только малое меняется; большое всегда останется большим. После восстания я отгрохотал на русской каторге три года, а потом два года мотался по здешним тюрьмам: австрияки меня посчитали русским лазутчиком.
– Вы были повстанцем шестьдесят третьего года?
– Знамена, пьяный ветер свободы, лозунги... Где все это? Будто и не было. Каждому на жизнь дается только одна революция, потом наступает горькое похмелье. Лучше приспосабливаться, пан Доманский, лучше приспосабливаться. Пусть другие начинают: примкнуть никогда не поздно; отойти – сложней. Все наши беды проистекают оттого, что не умеем сдерживать порывы, не ценим устоявшееся; н а д е ж н о с т ь не сознаем за высшее благо.
– Ну, хорошо, а если я не внемлю вашим советам? – сказал Дзержинский. Сколько вы с меня заломите?
– С террором дело не связано? С призывами против русского царя?
– С призывами против русского царя связано, с террором – нет.
– Не хочу лишних хлопот. Царское Село заявит протест Вене, а отвечать придется Збигневу Норовскому: сильные мира сего расплачиваются за свой идиотизм жизнями маленьких людей, пан Доманский.
– Никто не будет знать, что мы здесь работаем. Если захотите, можно будет предъявить властям несколько книг. Мы издадим книги о том, как живут наши братья в Варшаве...
– Кто станет писать такие книги для вашей типографии? Такие книги издадут в Вене, у "Момзена и Фриша", а не у вас, пан Доманский. Или в Берлине – там помогут социалисты Либкнехта. Чем вы станете платить за хорошие книги о плохой жизни?
– Неужели вам не хочется помочь? Это ведь так просто – помочь. А как п о л н о вам станет жить, пан Норовский, если вы постоянно будете ощущать, что помогли. Отчего так счастлива кормящая мать? Оттого, что п о м о г а е т. Поэтому у нее глаза особенные, других таких нет.
– Как я понимаю, денег у вас мало?
– Денег у нас пока нет, – ответил Дзержинский. – Но они будут. Мы уплатим вам.
– Сколько человек станет здесь работать?
– Один.
– Кто?
– Я.
– Вы наборщик?
– Нет. Я пишу.
– Все пишут. Кто будет набирать? Верстать? Печатать?
– Дам объявление.
– Он даст объявление! Кто пойдет умирать в этот компресс?! – Старик вздохнул. – Конечно, в этот компресс пойдет один Норовский. Но за деньги! Понятно?! Я помогу, но за деньги! Жадный Норовский без денег не помогает, потому что у него на шее четверо внуков-сирот! И убогая дочь! Или вам не понятно, отчего я такой жадный?!
Норовский отошел к окну, уперся руками в раму.
– Зачем вы пришли? – тихо спросил он. – Мне было так спокойно эти годы. Зачем только вы пришли, хотел бы я знать? И зачем я остался таким же дураком в шестьдесят, каким был в двадцать?
– Это потому, что вы живете, пан Норовский. Живете, а не существуете.
...Следующие три дня Дзержинский, после того как кончал помогать рабочим, приглашенным Норовским для уборки помещения, садился за книги, газеты, письма из Королевства. Он должен был до конца точно понять, каким обязан стать первый номер газеты польских пролетариев. Из всей массы материалов – нищета рабочих, отсутствие какого бы то ни было законодательства, бесправие крестьян, всевластие русской администрации в Варшаве – надо было отобрать главные, определяющие лицо будущей газеты.
Особенно надолго он задумывался – обхватив голову сильными пальцами, словно бы впиваясь ногтями в кожу, когда в который раз уже перечитывал данные о народном образовании. На всю Польшу "русского захвата" был один университет – один на семь миллионов населения! И в этом единственном университете всего две кафедры, где преподавание велось по-польски – литература и морфология. При этом курс, посвященный Мицкевичу, Ожешко, Словацкому, был практически сведен к минимуму, имена великих мыслителей назывались лишь, но творчество их не исследовалось: "Дзядов" боялись, запрещали декламировать; проецируя далекое прошлое на день сегодняшний, считали, что оберегут от крамолы, не понимая, что запрещенное не оберегает, но, наоборот, возбуждает к знанию. Польское право, имевшее многовековую историю, изучали на русском, поверхностно, пропуская целые эпохи; математику, физику, химию – подавно. Польским ученым нечего было делать в Королевстве, бежали в Париж и Лондон от "моральной нагайки" великодержавного черносотенства. Ни одного польского исследователя – пусть семи пядей во лбу (Мария Складовска-то в Париже состоялась, не на родине!) – в ассистенты не пускали, не то что в доценты. Когда талантливые ученые обратились с просьбой к генерал-губернатору позволить читать лекции в университете на родном языке по тем предметам, которые были не обязательными, факультативными, их, продержав пять часов в приемной, грубо выставили, пригрозив Сибирью, коли еще раз посмеют "дерзить" и поднимать голос на единственный для всей Империи язык – других нет, не было и не будет!
Дзержинский тянулся рукой к куреву, вертел в холодных пальцах тонкий "зефир", крошил черный, проваренный с медом табак, но усилием воли заставлял себя прятать папиросу в пачку: к своему здоровью он относился отстраненно, как к некоей данности, ему не принадлежавшей, – больной, что он сможет сделать для партии, какую пользу принесет полякам?!
Лицо его болезненно морщилось, когда он исследовал политику царского правительства по отношению к начальным школам: преподавание велось только на русском; несчастных семилетних человечков, привыкших дома говорить на родном языке, пороли и ставили "на горох" за акцент. Частные школы, где часть предметов позволялось изучать по-польски, были лишены дотаций; попечителями туда назначались, как правило, "хранители", ненавидевшие "ляхов" глубинной ненавистью темных, малограмотных держиморд.
В судах неграмотный польский крестьянин обязан был держать ответ на русском языке; бедолагу обирали секретари, поднаторевшие в писании кассаций и жалоб; прошение, составленное на польском, к рассмотрению не принималось: изволь только на государственном языке излагать, на родном – ни-ни!
Запрещались представления драмы и комедии на польском; книги, после жестокой цензуры, издавались тиражом ограниченным; Людвиг Шепаньский, выпускавший "Жице", печатал повести и стихи эстетские, проникнутые надмирным индивидуализмом – ему р а з р е ш а л и, этот не опасен; позволяли и Станислава Пшибышевского – "настроенец", он г л а в н о г о не трогал, а вот Болеслава Пруса боялись, каждую страницу на свет смотрели – не прячет ли что между строк: пишет с болью, но не для себя и про себя, а про тех, кто кругом, и не для эстетов – для читателей. Послушным критикам было предписано творчество этого мастера не замечать – будто и нет, а то и побранить за туманность и "эпигонство" – термин-то уж больно хорош, ибо непонятен, с непонятным каждый согласится, кому охота себя дураком и неучью выставлять?!
Всем этим великодержавным царским бесстыдством пользовались разного рода оппозиционные группы в Польше – каждая по-своему. Партия "разумной политики", иначе именовавшаяся "реалистической", предлагала разъяснительную, постепенную работу с петербургской администрацией, уповая на "здравомыслящие силы, стоящие подле Трона нашего обожаемого монарха, от которого злые бюрократы с к р ы в а ю т; стоит только пробиться к нему, принести ему просьбу верноподданную, и все мигом, само по себе решится!".
"Лига народова" уповала, наоборот, как и "Лига независимости Польши", на поддержку Франции и Англии в борьбе против "проклятых москалей" – нелюдей, татарву, темень. И та и другая оппозиционные группы были, как считал Дзержинский, не столь опасны польскому рабочему движению в силу открытой своей несостоятельности. Труднее было с ППС, с социалистами, которые шли на борьбу с самодержавием под красным знаменем, гнили на акатуйской каторге, состояли в Международном социалистическом бюро, пользуясь поддержкой Бебеля и Каутского, признанных вождей социал-демократии. Все, казалось бы, правильным было в борьбе ППС – и опора на рабочих, и разъяснительная пропаганда среди крестьян, но работу они вели лишь среди польских рабочих и только для них. Русских, которые тяжелее других страдали под царским гнетом, вроде бы и не было. Болезнь национализма с годами не исчезала – наоборот, росла вширь: ППС призвала бойкотировать русские театры, потому что это, по ее мнению, вело к русификации польского и литовского населения. Бойкотировать Пушкина, Чернышевского, Чехова и Горького!
Дзержинский спокойно не мог видеть эту листовку "папуасов", поднимался из-за стола, мерил свой кабинетик быстрыми шагами, глаза жмурил – ярился.
Альфой и омегой борьбы для него было точное понимание главенствующей роли русского рабочего класса, который принимал бой против царизма первым, который вел за собою национальные отряды социал-демократии, который боролся за свободу трудящихся всех национальностей. Без победы русских рабочих, считал Дзержинский, смешно и глупо думать о возможности победы пролетариев Польши.
Встретившись в Берлине с Розой Люксембург, Мархлевским, Тышкой и Адольфом Барским, он получил от них часть прокламаций, которые выпускали комитеты в Королевстве за время его ареста. Особенно восхищался он одной: когда жандармы избили петербургских студентов, Варшавский комитет СДКПиЛ распространил листовку в ответ на националистическую, призывавшую не оказывать "москалям" поддержки – "Чем больше они станут перебивать друг друга, тем лучше полякам!". Варшавские социал-демократы писали: "Пусть наши студенты отвечают гробовым молчанием на героическую борьбу русских студентов! Пусть наш студент и интеллигент пребывают в спокойных и горделивых мечтах о польском национальном восстании, пусть хоронят они себя в лишенном общественной жизни патриотизме! Мы, польские рабочие, протягиваем руку русским братьям! Пусть смело идут они на бой за свободу, пусть верят, что польский пролетариат не оставит их в борьбе!"