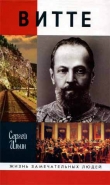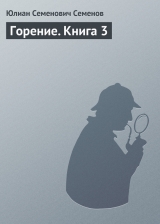
Текст книги "Горение (полностью)"
Автор книги: Юлиан Семенов
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 99 страниц)
– Егор Саввич, – положив себе балыка, спросил Глазов, – вы деньги из Петербурга не только от единомышленников получаете, но из министерства внутренних дел тоже?
– Окститесь, Глеб Витальевич, бог с вами, – ответил Храмов, наливая по второй. – Только от патриотов, от одних, как говорится, патриотов великорусской идеи, кому земля дорога и старина наша гордостна, кто тщится сохранить дух и землю от чужекровного растворения.
Выпили вторую, закусили, углубились в осторожное закручивание следующего блина.
– Так вот я и говорю, Егор Саввич, – продолжал между тем Глазов, – что деньги, которые вам переводит наше министерство, слишком открыто идут. Если б один я знал номера счетов, а то ведь и мои сотрудники знают, а у каждого сотрудника жена есть брат, отец, ближайший друг, и у каждого из вышепоименованных случаются домашние торжества, день ангела, пасха опять же. От одного – к другому пошло, а там ведь и не остановишь.
– Да господи, Глеб Витальевич, – разливая по третьей, пророкотал Храмов, откуда эдакий вздор к вам пришел?
– Вы не страшитесь меня дослушать, Егор Саввич. Не суетитесь, не надо, не вашего это у р о в н я – суетиться. Водку мы допьем и всю икру съедим. Вы только сначала меня дослушайте. Дурак у вас в министерстве сидит. Пень стоеросовый. Вы меня туда продвиньте, Егор Саввич. Я ведь не сразу к вам пришел, не простым путем я шел к "Союзу Михаила Архангела". Я ведь сначала уповал развалить наших противников изнутри, руками их же самих. Это – трудно. Почти невозможно. Сломать им голову по плечу общенациональной силе, а ваши легионы – это первые ряды, их крепить надо! Иначе наши трусливые, безлинейные политиканы все социалистам отдадут. Махонькие люди у нас полицейской стратегией занимаются, без полета и дерзости, правде в глаза боятся заглянуть! Нам надо позиции занимать, Егор Саввич. А для этого необходимо, чтобы опорные пункты в Петербурге уже сейчас оказались в руках людей умных. Я к числу таких людей, увы, отношусь. Будьте здоровы!
Храмов выпил свою рюмку, не спуская глаз с полковника.
– Почему "увы"? – трезво поинтересовался он, без обычной своей суетливости.
– Потому что у нас в Департаменте хорошо жить тому, кто от дела, как от чумы. Никаких волнений – живи себе, как корова в стойле. Наша бюрократия дела шарахается, Егор Саввич! Разве нет? У нас хороший чиновник тот, кто угадывает мнение столоначальника! За свое-то мнение бьют. Головы ломают, учат: "Тише, тише, не высовывайся!" А на этом социалисты и хватают нас за руку! Идут к рабочему и говорят: "Высовывайся, громче, ты можешь все, а тебе не дают!" Им верят! А разве ваш "союз" не может обратиться к народу с таким же призывом: "Действуйте, братья!"? Разве за вами не пойдут?! Еще как пойдут! Но организация нужна. И – у р о в е н ь.
– Интересно думаете, – откликнулся Храмов и налил еще по одной. – Горестно только, прямо, что называется, мрак сплошной.
– Это ли не мрак? Мне б вам ежедневные сводки дать прочесть, Егор Саввич. Если все обработать, честно разъяснить да на стол выложить – волосы станут дыбом.
– А позвольте полюбопытствовать, Глеб Витальевич, – прочувственно спросил Храмов, – как говорится, что на уме, то и на языке: вы Владимир Ивановича-то, Шевякова, бедолагу горемычного, зачем на тот свет отправили?
– Будьте здоровы, Егор Саввич, – сказал Глазов, чувствуя, как бледнеет, и понимая, что этот вопрос – решающий. – За ваше благополучие.
Выпивая медленно и тягуче холодную водку, Глазов просчитал три возможных ответа, закусил пирожком и ответил – неожиданно для Храмова – вопросом:
– Дворник Хайрулин у вас состоит в дружине?
Храмов неторопливо закусил таким же пирожком, просчитывая, видимо, свой ответ, покачал головой и улыбнулся – отошел в оборону:
– Почем я знаю? Дворников в Варшаве много, я и не ведаю, про какого Хайрулина вы говорите.
– Про того, который обрезанный, – жестко ответил Глазов. – Кто по-русски ни бельмеса, коран поет и в бане парится по четвергам. А мил друг ваш Владимир Иваныч, бедолага Шевяков, коли бы сейчас мог вашей поддержкой пользоваться, дров бы наломал, бо-ольшущих поленьев. Он бы за вами и дальше во всем следовал, а я не стану. Я вас одерживать буду – для вашей же пользы. Вашу наивную, чистую, столь пугающую просвещенных европейцев искренность, подобно о б л е к а т ь – это я готов. Но не запамятуйте – я к вам трудно шел, а уйду того легче.
Назавтра Храмов уехал в Петербург и Москву, повстречался там с доктором Дубровиным, с Александром Ивановичем, председателем и основоположником "союза", вместе с ним нанес визит врачу тибетской медицины Петру Александровичу Бадмаеву, на квартире которого и произошла встреча "истинно русских патриотов" с генерал-майором Треповым Дмитрием Сергеевичем, сторонником и единственным, пожалуй, последовательным проводником "беспощадного курса" – патронов на демонстрантов отпускал вдосталь и с либералами не заигрывал: сажал и приказывал держать в сырых подвалах.
Трепов имел р у к у – был вхож и к государю, и к великому князю Николаю Николаевичу.
...Храмов сел в обратный поезд, имея в кармане копию рескрипта, назначавшего Глазова чиновником для специальных поручений при начальнике Особого отдела департамента полиции. 17
Тук-тук, здравствуй, друг...
Тук-тук, кто ты, друг?
Надо прижаться ухом к холодной стене и ждать ответа, надо ждать такого же короткого перестука острыми костяшками пальцев, ждать терпеливо, настороженно, ищуще.
– Я – "Смелый". Арестован на сходке эсдеков, кто ты?
– Юзеф. Где арестовали тебя?
– Холодная, тринадцать.
– Кто был хозяином явки?
– Збигнев. А тебя взяли на конференции в лесу?
"Мог ли он знать о конференции? Квартира на Холодной провалена за два дня до нашего ареста".
– Кто тебе об этом сказал?
– Сосед.
– Как его зовут?
– Михаил Багуцкий.
"Миша! Значит, он рядом!"
– Пусть он простучит мне.
– Его перевели. Кажется, на второй этаж, в седьмую камеру. Если хочешь снестись с ним, попроси надсмотрщика Провоторова – он нам помогает.
– Слишком ты разговорчивый.
– А ты осторожный.
Дзержинский улыбнулся, подумав: "Он прав; с этой проклятой конспирацией я могу разучиться верить людям".
– Перестучи мне вечером, после ужина.
Сосед откликнулся быстрыми ударами:
– Провоторов и в обед ходит. Так что можешь меня проверить и раньше.
Провоторов отнес записку Багуцкому. Тот прислал ответ через час: "Дорогой Юзеф, можешь верить "Смелому", ты его знаешь по Янине. ("У Янины был склад нелегальщины. Ага, там был молодой паренек, кажется, Франц – очень быстрый и резкий. Такой должен взять себе в псевдо именно "Смелого".) Юзеф, через человека, который передал эту весточку, можно выходить на связь с городом".
Почерк Багуцкого. Все верно. Связь с волей налажена – это счастье.
Назавтра Провоторов передал Дзержинскому первую весточку от товарищей:
"Юзеф, "Лига Народова" и "национал-демократы" сходятся все ближе. За "Лигой" такие силы, как Генрих Сенкевич, а был и Стефан Жеромский. Пока мы и рядовые ППС сидим в тюрьмах, "Лига" может выдвинуться в первый ряд, как сила, выступающая за поляков – рабочих в том числе. В Варшаве ходит по рукам документ, который я тебе пересылаю. Ознакомившись, напиши текст, мы размножим. "Эдвард".
"Эдвард". Это значит, что запасной Варшавский комитет начал работу. Значит, дело продолжается. Значит, выходят прокламации, собираются манифестанты, ширятся забастовки, распространяется литература.
"По поводу того, что "Лига" страшнее, "Эдвард" перегнул. – Дзержинский думал сейчас спокойно, впервые за месяц в тюрьме спокойно. – Самое страшное, когда национализм базируется на почве социализма, – он тогда проникает в поры общества. Национализм буржуазии – корыстен, это драка за место под солнцем, за кусок пирога. Особенно к этому липнут слабенькие поэтишки и ущербные журналисты: им во всем и во всех видятся москали, которые "не дают ходу". В Петербурге, впрочем, наоборот: тамошним националистам нет страшнее зверя, чем поляк или еврей, – от них для него все беды".
Дзержинский сел к "глазку" спиною, положил на колени листки папиросной бумаги, принесенные Провоторовым, и углубился в чтение, затылком ощущая настороженную тишину за дверью.
"В Совет Министров.
Проникнутые глубоким сознанием, что гражданский долг по отношению к нашему народу требует от нас изложения действительного положения дел в Царстве Польском, мы, нижеподписавшиеся, основываясь на мнении широких слоев населения и с их согласия, заявляем в порядке, указанном в Именном ВЫСОЧАЙШЕМ Указе Правительствующему Сенату от 18 февраля 1905 г.,
следующее:
1) Система управления, применяемая в Царстве Польском в течение последних 40 лет, преследовала цели обрусения края. Исполнители сей системы, ставя себе невозможную для достижения цель, именно уничтожение польской народной индивидуальности, вовсе не считались с природными и экономическими особенностями цивилизации, с его традицией и культурою.
Русские власти, однако ж, не достигли ни одной из преднамеренных политических целей, но напротив вызвали противоположные последствия: они объединили польское общество во всеобщем неудовольствии, в проникающем все глубже и глубже сознании испытываемой обиды, в ненависти к применяемому к нам правительственному режиму и к его исполнителям.
2) Когда последняя война и вызванные ею смуты во всем Государстве еще рельефнее обнаружили отрицательные стороны административного режима и недостатки государственного строя, а также необходимость коренной его реформы, – в польском обществе возникло убеждение, что в момент коренного преобразования государства должна, наконец, измениться и система управления в нашем крае. Польский народ ожидал, что правительство удовлетворит накопившимся жгучим нуждам края и требованиям населения. С умеренностью, считавшеюся со всевозможными затруднениями в многочисленных записках отдельных лиц, в заявлениях разных общественных групп, а также посредством русской прессы (к посредничеству которой необходимо было прибегнуть по поводу стеснения цензурою польской печати) обосновывалась необходимость тех изменений в системе , управления, которые доставили бы Царству Польскому возможность свободного развития.
3) Между тем опубликованные постановления Комитета Министров, а равно мотивы к ним свидетельствуют, что сие учреждение в лице большинства его членов не сумело или не пожелало стать на почву более широких задач правительства, что в столь важный момент, по столь важному вопросу Комитет Министров не проявил достаточной решимости для принципиальной постановки этого дела. Постановления Комитета, вводя лишь кажущиеся изменения или льготы, не изменяют существенно системы управления краем, но, напротив, систему эту укрепляют и узаконяют. Комитет Министров, правда, осудил обрусительные цели, насколько они, по мнению Комитета, бесплодны, но сей системы своими постановлениями отнюдь не отменяет, а лишь смягчает наиболее бессмысленные, затрагивающие сферу частных отношений.
Постановления Комитета Министров, не признавшие права многомиллионного народа, обезоружили умеренных людей в борьбе с анархией.
4) Нынешняя система управления краем вызвала всеобщее противодействие нашего народа.
В борьбе принимает участие и крестьянское население. Ныне польские крестьяне, оставаясь в полнейшем согласии с образованными слоями общества, защищают свои национальные права.
Проявления беспорядков в среде рабочих при забастовках и терроре составляют последствие того же самого режима, который лишает нас возможности иметь культурное воздействие на массы. Так как беспорядки, вызывающие нередко кровавые столкновения, разоряют край и причиняют ему тяжелые бедствия, то политически зрелые элементы горячо желали бы иметь возможность предупреждения таковых, но раздражению рабочего класса они не могут противопоставить никаких действительных данных относительно возможности достижения лучшего будущего на почве закона, ибо такое будущее не предвозвещается ни образом действий местной администрации, ни правительственными распоряжениями. Местная власть оказывается бессильною, способною еще к жестокому подавлению внешних признаков неудовольствия, но она уже не способна к охранению общественного спокойствия, к обеспечению личной безопасности и к предупреждению смут.
5) Мы еще раз положительно заявляем, что для установления нормальных отношений поляков к России необходимо: предоставить нашему краю законодательную и административную автономию; признать польский язык официальным во всех отраслях гражданского управления и в суде, а равно языком преподавания во всех учебных заведениях края; предоставить местному элементу управление Царством Польским и обеспечить за населением гражданскую свободу.
Не нам решать вопрос об интересах Русского государства и русского народа. Но мы не можем поверить, чтобы эти интересы требовали дальнейшего сохранения такого режима, который не достиг ни одной из своих целей и который, напротив, вызвал столь опасные и плачевные не только для нас последствия.
Исполняя свой долг по отношению к нашей совести и к нашему народу, мы констатируем, что пренебрежение нуждами Царства Польского и отказ нам в правах и учреждениях, которые составляют необходимость для нашего национального и культурного развития, неминуемо должны вызвать усиление борьбы поляков с действующим режимом и увеличение силы анархии. Мы за все это не берем на себя ответственности.
По поручению
граф Любомирский
граф Тышкевич
Генрих Сенкевич",
Кончив читать, Дзержинский отправил с Провоторовым на волю странную "папироску" – товарищи удивились, прочитав: "Пришлите мне книги Гизо и о Гизо – все о "третьем сословии". Юзеф".
Подпись его, и рука его.
Послали.
"И. Э. Дзержинскому.
X павильон Варшавской цитадели.
Мой дорогой!
Теперь, продолжая предыдущие мои письма, я хочу описать тебе впечатления, которые я получаю здесь, рассказать, чем живу. Четверть часа прогулки – это ежедневное развлечение. Я с наслаждением бегаю по дорожке и не думаю тогда ни о солдате с винтовкой, ни о жандарме, вооруженном саблей и револьвером, стоящих по обоим концам тропинки. (Вероятно, я очень смешно выгляжу со своей козьей бородкой, с вытянутой шеей и продолговатым, острым лицом.) Я слежу за небом. Иногда оно бывает совершенно ясное, темно-голубое с востока, более светлое с запада, иногда серое, однообразное и столь печальное; иногда мчатся тучи фантастическими клочьями – легкие, то опять тяжелые страшные чудовища, несутся вдаль, выше, ниже; одни обгоняют другие с самыми разнообразными оттенками освещения и окраски. За ними виднеется мягкая, нежная лазурь. Однако все реже я вижу эту лазурь, все чаще бурные осенние вихри покрывают все небо серой пеленой свинцовых туч, И листья на деревьях все больше желтеют, сохнут, печально свисают вниз, они изъедены, истрепаны, не смотрят уже в небо. Солнце все ниже и появляется все реже, а лучи его не имеют уже прежней животворной силы. Я могу видеть солнце только во время прогулки, ибо окна моей камеры выходят на север. Лишь иногда попадает ко мне отблеск заката, и тогда я радуюсь, как ребенок. Через открытую форточку вижу кусочек неба, затемненный густой проволочной сеткой, слежу за великолепным закатом, за постоянно меняющейся игрой красок кроваво-пурпурного отблеска, за борьбой темноты со светом. Как прекрасен тогда этот кусочек неба! Золотистые летучие облачка на фоне ясной лазури, а там приближается темное чудовище с фиолетовым оттенком, вскоре все приобретает огненный цвет, потом его сменяет розовый, и постепенно бледнеет небо, и спускаются сумерки. Чувство красоты охватывает меня, я горю жаждой познания и (это странно, но это правда) развиваю это чувство здесь, в тюрьме. Я хотел бы охватить жизнь во всей ее полноте.
Будь здоров, мой брат. Обнимаю тебя крепко.
Твой Феликс".
Лишь на третий день Провоторов смог передать Дзержинскому посылку с воли книги. Это не "папироска", это книги, пойди их проволоки сквозь охрану – здесь в тюрьме никому не верят, ни чужому, ни своему.
Заметил, как вспыхнули глаза арестанта – подивился: что в ней, в книге-то? Не хлеб, не табак, не детское письмецо...
...К предмету истории Дзержинский относился особо. Началось это с того, что отец ему, пятилетнему, перед смертью начал читать Плутарха, и мальчик на всю жизнь запомнил, как это интересно – и с т о р и и других людей, иных веков, странных привычек и нравов. Потом мама рассказывала ему, как отец точно и странно определил историю:
– Мы умеем все – до удивительного быстро – облекать в гранит: не успеешь родиться – пожалуйте в землю. Единственно, что в силах охранить память человеческую – это искусство, живопись, музыка и разные и с т о р и и, которые не претендуют на то, чтобы стать "всеобщей историей", но именно в силу этого ею и становятся.
Во втором классе гимназии (Феликс, тогда мечтал сделаться ксендзом) в учебниках классической истории, которая с детства стала для него сводом увлекательных рассказов об и н т е р е с н о м, он отыскивал описание жизней религиозных бунтарей, начиная с Христа и кончая Лютером. Потом увлекся Спартаком, Эразмом Роттердамским, Кромвелем. Он обратил внимание, что все гении – вне зависимости от меры их религиозности – были на редкость беспутными людьми, шатунами, которые легко бросали достаток, дом, спокойствие и отправлялись по свету в поисках истины. Дзержинский подумал тогда, что история хранит очень мало имен, она выборочна в отборе и запоминает только тех, кто смог выявить себя, доказать свою мечту на деле, как случилось с Костюшкой, Байроном, Мицкевичем, Лермонтовым, Кибальчичем, Нансеном, Складовской-Кюри ведь беспутные были люди, с точки зрения обывателя, привычного к у с т о я в ш е м у с я.
Дзержинский еще раз прочитал великих историков, когда начал вести рабочие кружки, а в третий раз вернулся к ним, как к спасительному источнику, в камере ковенской тюрьмы: помимо разума, в истории заключен оптимизм, неподвластный устрашающей поступательности точных наук.
Сейчас предмет истории вновь был его спасением, отключением от одиночества, вовлечением в жизнь, приобщением к будущему: особенно в связи с письмом "Лиги" в Совет Министров – за это надо бить, но бить оружием интеллигенции – знанием.
Гизо серой тенью проскользил по французской монархии, по взлету буржуазии – в банке и производстве, по ее общественной выявленности – в прессе и парламенте, он был похож в своей концепции на "Лигу".
Дзержинский прочитал книги, присланные с воли, – исследования о Гизо и самого Гизо, как цикл интересных историй, а потом попросил у х о р о ш е г о стражника Провоторова перо и бумагу.
Писал Дзержинский на маленьких листочках, "выжимая" из Гизо, из литературы о нем, что может пригодиться в близком будущем, а он верил в будущее, иначе в тюрьме нельзя, иначе – раздавит, втопчет, сломит и уничтожит.
"Середина" в системе исторического развития – средние классы. Средние классы должны пользоваться в народе влиянием и перевесом, – утверждал Гизо, их существование обеспечивает нации прочность; они есть полезный балласт страны. Отсутствие их лишает страну равновесия, конституцию – силы, историю последовательности и заставляет нацию, претерпевая тысячу переворотов, неудач и потрясений, колебаться между деспотизмом и анархией.
Средний класс это, прежде всего, класс граждан, не обремененных ни чрезмерным трудом, ни праздностью: это – граждане, которые имеют и занятия и досуг. Это класс граждан, имеющих состояние, но не чересчур большое. Бедность создает рабство, а рабство обращается в раболепство или в мятеж. Богатство создает обособление, – считал Гизо, – оно делает человека настолько могущественным, что он перестает нуждаться в других и не обращает на них внимания, если гордость не побуждает его порабощать или унижать их. Богатство ставит человека вне нации, так как он мало нуждается в ней и мало заботится о ней. Члены средних классов должны руководить обществом, создавая м н е н и е. Мнение – это то, что в с е г о в о р я т, что повторяют везде в виде уступки общей мысли, из какого-то уважения к ней. Во все эпохи истории м н е н и е оказывает незримое влияние на поступки людей, влияние все более возрастающее, по мере того как у людей является больше средств прислушиваться друг к другу. Но мнение не всегда выражает общую волю. Напротив, часто общая воля смиряется мнением. Мнение представляет собою то, в чем люди решаются и могут признаваться друг другу. Мы не говорим о том, что есть в нас дурного. Мнение не выражает нездоровых и гнусных сторон народной воли. Оно выражает только идеи, и идеи относительно порядочные. Почему именно средний класс создает мнение? Потому что низший класс умеет только чувствовать, а говорить не умеет. Высший класс может только мыслить; его недостаток – неспособность чувствовать вместе с народом, отсутствие связи с ним, невозможность знать ясно, отчего народ страдает, чего он требует, чему противится. Вот почему мнение создает исключительно средний класс. "Мнение – царь мира", как сказал Паскаль; оно правит миром, лишь только появляется, какова бы ни была форма правления.
"Середина", найденная Гизо в истории, была "найдена" им и в политике. Его политика представляет управление государством среднему классу. Он должен править, во-первых, при помощи мнения, им же создаваемого, а затем – через прямое участие в ведении общественных дел. Управление при помощи мнения и представительное управление – вот двойная форма идеального, по мнению Гизо, строя.
Дзержинский, составляя конспект, посвященный теоретику "середины", тщательно исследовал философскую подоплеку Гизо, нравственную первооснову выразителя мелкобуржуазной стихии.
Гизо считал, что в е р х о в е н с т в а не существует потому, что ничья воля не имеет силы закона, пока она является только волей. Недостаточно сказать "я хочу", чтобы быть правым и чувствовать себя таковым. "Все мы сознаем в душе, что наша воля становится законной, лишь подчиняясь живущей в нас способности правильно смотреть на вещи. Существует только одно верховенство, мешающее кому бы то ни было стать его обладателем. Это верховенство разума". Верховенство должно принадлежать разуму для того, чтобы ни одна воля, единичная или всеобщая, не могла претендовать на него. Верховенство должно принадлежать разуму еще и потому, что он является началом единства, которое может найти нация вне чисто абсолютной монархии. Паскаль сказал: "Множество, не сводимое к единству, создает беспорядок; единство, не заключающее в себе множества, является тиранией". После устранения тирании остается свести множество к единству, свести многообразие чувств к единому суждению, к ясной идее, другими словами – к разуму. Средний класс должен управлять потому, что он создает мнение, то есть разум. Разум и традиция имеют законное право на существование: традиция – это тот же разум. Разум умственная "середина", традиция – "середина, непрерывно проходящая через историю". Традиция – это преемственный разум; она сохранилась благодаря своей разумности; ее разумность доказывается самым ее сохранением. Ей не надо других доказательств, лучших оправданий, иных прав. "Уцелеть – значит доказать твое право на существование". (Здесь Дзержинский поставил три восклицательных знака, написал на отдельном листке: "Философия ужа! Браво, Горький!")
Итак, в мире – по Гизо – есть две законные вещи: разум и история; а стало быть, две "середины", которые средний класс – сам в своей сущности "середина" – должен ясно различать и понимать. Вся политика Гизо представляется теорией "средних классов", отданной в услужение аристократической политике. Задачи, поставленные себе, Гизо не разрешил, а задача его была двойная: поддерживать традицию и развивать "свободу". Это заставляло Гизо вести параллельно две политики: "сопротивления" и "освобождения". "Сопротивление" было не чем иным, как консервативной политикой. Цель сопротивления – "урегулировать свободу". Нужно не обуздывать постоянно обнаруживающееся в народе брожение, порождаемое нуждами, стремлением, страданиями, идеями, мечтами и химерами; не следует пренебрежительно относиться к выражению всего этого в народных речах и в декламациях прессы, а следует дать ему законный исход и правильную форму, допустить законное его выражение и тем побудить его выражаться спокойно. Вся задача и заключается в переводе свободы из буйного состояния в нормальное, считал Гизо. Всего сильнее он восставал против того, что называл "духом 91 года". Это был дух революции.
"Теория "золотой середины" Гизо, – записывал Дзержинский, – разбилась при столкновении с жизнью: сословие работающих восстало против тех, кто создавал м н е н и е для с е б я, во имя своих интересов: трудились – миллионы, стригли купоны – тысячи; неравенство классов чревато взрывом, равновесие невозможно. Опыт Гизо, его упование на средний класс, должен стать объектом исследования с.-демократии Польши и России, ибо наверняка петербургские Гизо будут стараться примерить модель Гизо на разлагающееся тело империи. История – форма исследования вероятии будущего".
Во время прогулки сунули незаметно "папироску". Вернувшись в камеру, Дзержинский, радуясь весточке с воли, "папироску" развернул, прочитал листовку, не поверил глазам, прочитал еще раз:
"Рабочие! Сегодня на рассвете на гласисе Варшавской цитадели казнен типограф Марцын Каспшак.
Воздвигая для Каспшака виселицу – первую в нашей стране с минуты учреждения "демократической" Государственной думы, – преступное царское правительство бросило рабочему классу кровавый вызов.
Принимая этот вызов преступного правительства, рабочий класс ответит на него удвоенной боевой энергией!
Рабочие! Неужели вы оставите без ответа смерть Каспшака!!
Варшавский комитет
Социал-демократии Королевства Польского и Литвы.
Варшава, 8 сентября 1905 года".
Марцын, Марцын... Седой, добрый, лучеглазый Марцын... Как же это так?! Ты ведь такой человек, Марцын, что без тебя плохо жить на этой земле. Есть такие люди, которые обязательно должны жить до тех пор, пока живешь ты. Тогда не страшно, если ты где-то рядом, и тебя можно найти, и прийти к тебе, сесть на табуретку в твоей кухоньке, выпить с тобою чаю, выплакать тебе свое горе, и отступит отчаяние, и не будет так одиноко и пусто. Ты ведь не для себя жил, Марцын; поэтому-то и ж и л. Ах, Марцын, зачем тебя нет?
Ночью в камеру к Дзержинскому втолкнули "новенького", Казимежа Гриневского, боевика из ППС. Был Казимеж избит немилосердно, верхняя губа вспухла, выворотилась синим, в белых пупырышках мясом, левый глаз затек, ухо было красно-желтым – полыхало жаром.
– Что, товарищ, совсем плохо? – спросил Дзержинский, когда стражник скрежещуще запер дверь. – Сейчас, браток, сейчас, я оденусь, потерпи минуту.
Налив в миску воды, Дзержинский намочил полотенце, переданное с воли Альдоной, – мягкое, вафельное, не измученное тюремной карболкой, осторожно обмыл лицо Гриневского, потом снял с него башмаки, положил на койку и достал из столика металлическую невыливайку с йодом: поскольку стекло в камере не позволялось, йод он держал в невыливайке, но всегда при себе – помнил побои во время первого ареста, помнил, как загноилась вся спина, оттого что ни у кого из товарищей не было чем промыть ссадины, оставшиеся после ударов березовыми, свежесрезанными палками.
– Крепись, браток, – сказал Дзержинский, присев на койку Казимежа, сейчас больно будет.
– Что у тебя?
– Йод.
– Лей. Там снес – так уж это снесу, – попытался улыбнуться Гриневский, но застонал сразу, оттого что губу резануло тяжелой, рвущей болью.
– Щипи руку, – посоветовал Дзержинский. – Когда сам себе делаешь больно, тогда не обидно ощущать ту боль, что другой тебе приносит.
– Индивидуализм это, – попробовал пошутить Гриневский, – и частничество.
– Ишь, марксист, – ответил Дзержинский, сильно сдавив руку Казимежа, оттого что понимал, как ему больно сейчас, когда шипящий йод проникал в открытые белые нарывчики на вывернутой губе.
Через десять минут, закончив обработку ран (Дзержинский выучился этому специально, в Мюнхене посещал курсы, знал, что в тюрьме никто не поможет, если сам арестант не научится), он раздел Гриневского, укрыл его двумя одеялами знал по себе, что после побоев сильно трясет, – и начал тихонько, ласково поглаживать Казимежу голову, от макушки – к шее; это, говорили мюнхенские доктора, действует лучше любого снотворного.
И Гриневский уснул.
А Дзержинского "выдернул" на допрос Андрей Егорович Турчанинов. 18
– Вспомнили? – спросил поручик, предложив Дзержинскому папиросу. – Или нет?
– Конечно, вспомнил.
– Странно. Говорят, у меня жандармская, то есть незапоминающаяся, внешность.
– Верно говорят. Но у меня память противоположная жандармской – я обязан запоминать то, что вижу и слышу, не полагаясь на бумагу.
– Многое помните?
– То, что следует помнить, – помню.
– Знаете, где ваш давешний собеседник?
– Какого имеете в виду?
– Пилсудского.
– Не знаю никакого Пилсудского.
– Феликс Эдмундович, побойтесь бога, он же ваш идейный противник, а вы покрываете.
– Повторяю: никакого Пилсудского я не знал и не знаю.
– Значит, как между собою – так свара, а если против нас – тогда всем обозом?
– У вас ко мне есть конкретные вопросы?
– Нет. Есть предложение – не изволите ли выслушать мою историю?
– Слушаю.
– Я, Турчанинов Андрей Егорович, сын учителя словесности Владивостокской второй мужской гимназии, поручик артиллерии, причислен к его императорского величества корпусу жандармов после сражения у Мукдена. Там я был, изволите ли видеть, по иную сторону баррикады, нежели чем ваш друг Пилсудский. Кстати, из его миссии ничего не вышло – слыхали? Мы туда отправили одного из лидеров национальных демократов, господина Романа Дмовского, он такую характеристику выдал Пилсудскому, что от него шарахнулись японцы: как-никак монархия, они микадо чтут, а тут социалист со своими услугами... Существует некая кастовость монархов: воевать – воюют, но хранят корпоративную верность в основополагающих вопросах, не желают окончательного крушения, только частичных уступок жаждут.
– Верно, – согласился Дзержинский, изучая тонкое, с ранней сединой на висках, лицо поручика. – Хорошо мыслите.
– Я продолжу? – спросил Турчанинов.
– Да, да, извольте, – ответил Дзержинский; он поймал себя на том, что глаза этого жандарма понравились ему – в них не было потуги на внутреннюю постоянную игру, которая обычно свойственна чинам из департамента.
– Я пришел в этот кабинет после нашего поражения под Мукденом, пришел с открытым сердцем, ибо видел на фронте измену, граничившую с идиотизмом, государственное предательство пополам с тупостью. Я пришел сюда, считая, что смогу принести благо родине, пользуясь полицией, словно воротком, в достижении общегосударственных патриотических целей. Но увы, здесь никто не хочет заниматься охраной общества – в истинном понимании этих слов, потому что нельзя карать тех, кто объявляет войны, выносит приговоры, издает законы, инструмент власти не может восстать против власти же; часть не в состоянии подняться против целого.