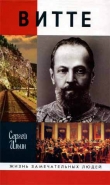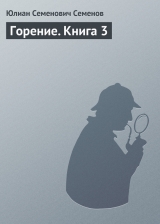
Текст книги "Горение (полностью)"
Автор книги: Юлиан Семенов
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 79 (всего у книги 99 страниц)
Я люблю его. Он такой молодой, чистый, и все будущее перед ним открыто. Час спустя привели ко мне офицера Калинина. Молодой и сильный, он старался не обнаруживать этого. Он не пробудет в каторге шесть лет – это так нелепо, бессмысленно. Он – интеллигентный, молодой, сильный – должен перестать жить, должен быть совершенно отрезан от мира. Никто не может с этим примириться. В особенности он, который, быть может, и бессознательно, верит в превосходство своего ума, в силу своей воли, в свою способность к великим, могучим делам. Люди пойдут за ним, а не он за людьми. Поэтому ему противны партия и партийность. Воля человека – это все. Он красив, молод, интеллигентен – что же может противостоять ему? А эти бессмысленные стены... Он не хочет их. Он знает только себя и сам будет нести ответственность за свои поступки; он не думает об общественном мнении; ему противна только "грязь". "Это грязь" – вот вся его критика. Он "прямолинеен": все, что бы я ни сделал, – сделал я, и поэтому я не знаю угрызений совести. В этом чувствуется сила молодости, немного рисовки и, возможно, много сомнений в самом себе. Во всяком случае, тип любопытный и интересный. Это человек, который может подняться очень высоко, но и пасть очень низко; если его посетит минута слабости, тогда он скажет себе: "Эта слабость – это я, этот путь – мой путь".
...Весна. В камере светло, много солнца. Тепло. На прогулке ласкает мягкий воздух. На каштановых деревьях и на кустах сирени набухли почки и уже пробились зеленые, улыбающиеся солнцу листья. Травка во дворе потянулась к солнцу и радостно поглощает воздух и солнечные лучи, возвращающие ее к жизни. Тихо. Весна не для нас. Мы в тюрьме. В камере двери постоянно закрыты; за ними и за окном вооруженные солдаты никогда не оставляют своих постов, и по-прежнему каждые два часа слышно, как они сменяются, как стучат винтовки, слышны их слова при смене: "Под сдачу состоит пост номер первый"; по-прежнему двери открывают жандармы, и по-прежнему они выводят нас на прогулку. Как и раньше, слышно бряцанье кандалов.
...Неделю тому назад в одном из коридоров, на печке в уборной, найдены браунинг и несколько пуль. Приехал жандармский полковник Остафьев, созвал жандармов, угрожал им, упрекал, что они плохо наблюдают за нами, что поддерживают с нами сношение; грозил, что всех расстреляет, упечет на каторгу, закует в кандалы, за малейший пустяк будет отдавать под суд. Нескольким он надавал пощечин. Они не протестовали. Об этом они не хотят рассказывать нам. Им стыдно. Но они еще больше сближаются с нами. По этому поводу мне написал один из товарищей: "В связи с этим я вспомнил одно событие, о котором мне рассказывал очевидец. Вы слышали, должно быть, что в 1907 году в Фортах ужасно издевались над заключенными. Всякий раз, когда попадался до мерзости гадкий караул, заключенные переживали настоящие пытки. В числе других издевательств был отказ в течение многих часов вести в уборную. Люди ужасно мучились. Один из заключенных не мог вытерпеть, и, когда он захотел вынести испражнения, заметивший это офицер начал его ругать, приказывал ему съесть то, что он выносил, бил его по лицу. Тогда тоже все молчали, ограничившись тем, что не позволили ему выйти из камеры одному и вышли с ним вместе, чтобы не дать его бить. Когда я возмущался, очевидец в ответ спросил: "А что было делать? Если мы сказали бы хоть одно слово, нас бы всех убили, выдавая это за бунт".
В 1907 году, когда я сидел в "Павиаке", солдат ударил одного заключенного, разговаривавшего во время прогулки с другим через окно. В это время по двору гуляли сорок человек. Один из них хотел было броситься на солдата, но другие оттащили его в сторону. Мы потребовали тогда замены этого солдата другим, тюремные власти тоже на этом настаивали, но караульный начальник не дал на это своего согласия и стал угрожать нам. Когда один из заключенных начал против этого протестовать, солдат замахнулся на него штыком, другие заключенные заслонили его от рассвирепевшего солдата, но все вынуждены были уйти с прогулки. Когда вскоре после этого солдат убил выглянувшего в окно Гельвига, вызванный нами прокурор Набоков издевался над нами, заявляя: "Вы ведете себя возмутительно. Следовало бы вас всех расстрелять". Возможны ли при таких условиях какие-либо протесты? Каждый такой протест может вызвать только резню. Каждый чувствует в такой атмосфере только свое бессилие и переносит унижения или в отчаянии бросается сломя голову, сознательно ища смерти.
Я сижу теперь с Дан. Михельманом, приговоренным к ссылке на поселение за принадлежность к социал-демократии. Он был арестован в декабре 1907 года в Сосковце. Он рассказал мне о следующем случае, очевидцем которого являлся: в конце декабря приходят утром в тюрьму в Бендзине стражник с солдатом, вызывают в канцелярию одного из заключенных, некоего Страшака – прядильщика с фабрики Шена, внимательно осматривают его с ног до головы и, не говоря ни слова, уходят. После полудня является следователь, выстраивает в ряд шесть заключенных высокого роста, в том числе Страшака, приводят солдата, и следователь приказывает ему признать среди них предполагаемого участника покушения на шпика. Солдат указывает на Страшака. Этот Страшак, рабочий, ни в чем не был замешан, ни с какой партией не имел ничего общего. Солдат был тот самый, который приходил со стражником утром и предварительно подготовился к ответу. Страшака повесили...
Прошел день 1 мая. Празднования в этом году не было. А у нас ночью с первого на второе кого-то повесили. Была чудесная лунная ночь, я долго не мог уснуть. Мы не знали, что недавно был суд и что предстоит казнь. Вдруг в час ночи началось движение на лестнице, ведущей в канцелярию, какое обыкновенно бывает в ночь казни. Пришли жандармы, кто-то из начальства, ксендз; потом за окном прошел отряд солдат, четко отбивая шаг. Все, как обыкновенно... Повесили рабочего-портного по имени Арнольд...
Так прошло у нас 1 мая. Это был день свиданий, и мы узнали, что в городе первое мая не праздновали. Массам еще хуже: та же, что и прежде, серая, беспросветная жизнь, та же нужда, тот же труд, та же зависимость... Некоторые рекомендуют теперь приняться исключительно за легальную деятельность, то есть на самом деле отречься от борьбы. Другие не могут перенести теперешнего положения и малодушно лишают себя жизни... Но я отталкиваю мысль о самоубийстве, хочу найти в себе силы пережить весь этот ад, благословлять то, что я разделяю страдания с другими; я хочу вернуться и бороться..." "Так что же случилось-то?!"
День Герасимова начался как обычно: камердинер "Прохор Васильевич" принес в кровать стакан молока и ломтик сыра с огурцом; после этого полчаса генерал просматривал газеты; начинал с эмигрантских, ленинских, плехановских и черновских, потом бегло пролистывал дубровинское "Русское знамя" – нет ли каких пикантных скандалов; после этого изучал биржевые полосы официозов; работал с карандашом, тут глаз да глаз, ошибка дорогого стоит.
После этого "Прохор Васильевич" в течение десяти минут разминал загривок центр подагрических болей, – там сокрыты все грехи юности; переизбыток шампанского, злоупотребление острыми блюдами мстят соляным панцирем, который то сожмет сосудики, то отпустит, а уж если погода резко меняется, то хоть ложись и помирай.
– Круче, круче разминай, – стонал Герасимов, подставив шею камердинеру. Как вешать – так умел, а соль разбить – пальчики бережешь?!
– Да господи, Александр Васильевич, вас ведь жалею! По себе знаю, как больно позвонки мять...
– А ты их где мнешь?
– В баньке, где ж еще... С Никитой хожу каждый четверг, в этот день татаре греются, они доки напускать пар с травками, как в раю сидишь... Но Никитка меня не руками мнет, он по мне ногами ходит, пяткой ввинчивает...
– На неделе меня с собою возьмешь...
– Господи, Александр Васильевич, дак ведь там одне простолюдины!
– Я тоже не граф, Прохорыч. Мне среди вашего брата сподручней, вы уж коли бьете, то в морду, а не промеж лопаток...
...Приняв душ, отправился в охранку; адъютант ждал, шаркая ногами от нетерпения; заговорщически улыбнувшись, протянул папку, на которой было вытиснено золотом: "Весьма экстренно".
– Интересно? – спросил Герасимов, не торопясь водружать на переносье пенсне. – Или сплетня какая?
– Думаю, в высшей мере интересно, Александр Васильевич.
– Коли так, скажите, чтоб мне аглицкого чайку заварили в маленькую чашечку, посмакуем.
Адъютант оказался прав: срочная телеграмма из Саратова заслуживала самого пристального внимания. Прочитав ее, Герасимов подумал: "Неужели второй Азеф? Вот счастье, коли б так!"
...Начальник саратовской охраны полковник Семигановский докладывал шифрованной телеграммой, что известный террорист, член боевой организации эсеров Александр Петров обратился к начальнику тюрьмы, где он содержится ныне с предложением начать работу против ЦК и особенно Савинкова; вопрос об оплате не поднимает, просит лишь об одном: устроить побег ему и его ближайшему другу Евгению Бартольду, сыну фабриканта, одному из самых богатых людей Поволжья, тоже эсеру.
Герасимов попросил адъютанта связаться с департаментом полиции; на место Трусевича пришел его заместитель Зуев; Максимилиан Иванович изволил распрощаться со столь дорогим ему креслом шефа секретной службы империи, – не все коту масленица, будет знать, как своим палки в колеса ставить; с Зуевым можно иметь дело, хоть и трусоват, но понимает, кого можно з а м а т ь, а кого рискованно.
Из департамента вскорости сообщили, что Александр Иванов Петров, он же "Хромой", он же "Южный", он же "Филатов", действительно является известным боевиком в эсеровском терроре, к революции примкнул в девятьсот пятом году, был поставлен Азефом и Савинковым на динамитную лабораторию; во время взрыва, произошедшего по вине Любы Марковской – не уследила за смесью, – искорежило стопу; в беспамятстве попал в полицию, продержали сутки, перевезли в тюремный госпиталь, там о т п и л и л и ногу, гангрена; за месяц потерял двенадцать кило, кожа да кости; тем не менее грозил военный суд, виселица; время лихое даже шестнадцатилетним набрасывали веревку на худенькие, детские еще кадыки, а безногого б вздернули без всякого сострадания.
Спас Бартольд: организовал побег, вынес друга из лазарета, погрузил на лодку, поднялся по Волге до маленького городишка, сдал своему родственнику, известному по тем временам хирургу; тот не только залечил гангренозную культю, но и сделал вполне пристойный протез; после этого Петрова вывезли за границу, в Париж; там встретили как героя, еще бы: и ногу потерял, и бежал из-под виселицы, и границу пересек на протезе, хотя был объявлен во все розыскные листы империи как особо опасный преступник.
...Герасимов долго тер лоб, собравшийся толстыми, нависающими друг на друга морщинами; потом, тяжело опершись об атласные подлокотники, поднялся с кресла и подошел к своему особому сейфу, где хранились донесения Азефа и еще трех других, самых доверенных агентов, которых вербовал лично он, и никто другой о них не знал (кавказский эсдек, эсер из Эстляндии и киевский меньшевик).
Пролистав папки с донесениями Азефа (последнее прислал за месяц до бегства из Парижа), нашел кличку "Хромой"; это и есть безногий Петров, кто ж еще?!
Азеф сообщал, что Александр Петров в сопровождении группы боевиков выезжает в Россию, чтобы повторить кровавый маршрут Стеньки Разина; намерены пойти террором по Волге, поднять мужиков против дворянства, понудить помещиков бежать из города, а затем подвигнуть крестьян на самозахват пустующих земель. Давая оценку этому плану, утвержденному ЦК в его отсутствие (видимо, уже не доверяли, понял Герасимов, следили за каждым шагом), Азеф высказывал опасение, что дело может оказаться достаточно громким: "Провинция сейчас более бесконтрольна, чем центры, Волга – регион взрывоопасный, судя по всему, грядет голод. Советовал бы отнестись к моему сообщению серьезно. "Хромой" может быть легко опознан – ходит на протезе, ногу оторвало в нашей динамитной мастерской, фамилии его я не помню, хотя встречался дважды, в пятом еще году. Он худощав, волосы вьющиеся, длинные, ниспадающие чуть не до плеч, глаза пронзительно-черные, лоб небольшой, гладкий, без морщин, словно у девушки, на левом веке черная родинка, вроде мушки, что ставят кокотки полусвета".
Герасимов попросил сотрудников поднять корреспонденцию, отправленную им по империи из охранки месяц назад; саратовское отделение не назвал, остерегаясь, что вовремя не предупредил волжан о тревожном сигнале Азефа, – берег агента, да и потом, Саратов – не Петербург, зачем таскать каштаны из огня чужому дяде?! Был бы товарищем министра, отвечал бы за всю секретную полицию империи, – другое дело, а так "служба службой, а табачок врозь".
По счастью, сведения Азефа – в измененном, конечно, виде, со ссылкой на некоего секретного сотрудника "Потапову", – были отправлены в Саратов; спустя неделю на основании его, Герасимова, информации Петров со спутниками был взят на явке – с динамитом и револьверами.
Лишь после этого Герасимов встретился с новым директором департамента полиции Нилом Петровичем Зуевым.
Выслушав генерала, тот поднял над головой руки, будто защищался от удара:
– Это ваш человек! – Зуев всегда норовил самое сложное от себя отодвинуть, передав другим; никакого честолюбия, только б спокойно дожить до пенсии. – С вашей подачи этого самого Петрова взяли, уровень высок, птица из Парижа, саратовцы с таким не справятся, вызывайте-ка его к себе, Александр Васильевич, и посмотрите сами, на что он годен!
Поначалу Герасимов – как это было испокон века заведено – отказался ("зачем мне присваивать лавры волжан; полковник Семигановский и сам прекрасно справится"), заранее зная, что Зуев попросит еще раз – теми же словами, но в несколько ином тоне (должны угадываться приказные или же недоумевающие нотки); после этого следовало соглашаться, попросив конечно же оказывать новому делу не только постоянное внимание, но и посильную помощь (некая форма привычного бюрократического па-де-де – с приседанием, жеманством и поклоном).
Вернувшись в охранку, сразу же отправил шифротелеграмму в Саратов с просьбой откомандировать Петрова в северную столицу первым же поездом в отдельном купе, загримированным, в сопровождении трех филеров.
После этого обошел свое здание, нашел большую комнату, окна которой выходили во двор, попросил вынести рухлядь, подобрал мебель – удобную кровать, письменный стол, два кресла, этажерку для необходимой литературы – и распорядился, чтобы белье постелили магазинное, никак не тюремное, при этом пошутив: "Если театр начинается с вешалки, то наши спектакли следует начинать разыгрывать на улице, у парадного подъезда в зрелищный дом".
Когда Петрова доставили в охранку, Герасимов зашел к нему в к о м н а т у, осведомился, нравится ли здесь гостю, выслушал сдержанную благодарность (хотя в голосе чувствовалась некоторая растерянность, ищущее желание понять ситуацию) и сразу перешел к делу:
– Господин Петров, я открою свое имя после того, как вы подробно напишете мне о вашей работе в терроре. Интересовать меня будет все: ваши товарищи по борьбе с самодержавием, руководители, подчиненные, явки, транспорт. Вы, конечно, понимаете, что устраивать побег из каторжной тюрьмы – дело противозаконное, я буду рисковать головой, если, поверив вам, пойду на риск. Чтобы я смог вам поверить, надобно исследовать ваши показания, соотнеся их искренность с документами архивов. Если результат будет в вашу пользу, я выполню все, о чем попросите. В случае же, если мы поймем, что вы вводите нас в заблуждение, что-то от нас таите, что-то недоговариваете, – вы, конечно, знаете печальный опыт с бомбистом Рыссом, – я возвращу вас в Саратов. Оттуда будете отправлены в рудники. Сможете выжить – на здоровье, я человек незлобивый. Но когда поймете, что наступил ваш последний миг, – вспомните эту комнату и наш с вами разговор: последний и единственный шанс, второго не будет.
– Я напишу все, что умею, – ответил Петров, по-прежнему сдержанно, хотя глаза его лихорадочно мерцали и лицо было синюшно-бледным. – Не взыщите за стиль, это будет исповедь.
Через два дня, когда Герасимову передали тетрадь, исписанную Петровым, он обратился к знакомому графологу, доктору Николаевскому:
– Анатолий Евгеньевич, поглядите, пожалуйста, страничку. И пофантазируйте про человека, который ее писал. Сможете?
– Надо бы взять в лабораторию, – ответил Николаевский. – Почерк вашего пациента весьма занятен...
Герасимов покачал головой:
– Нет, в лабораторию не получится... Да ведь я и не прошу определенного ответа... Меня вполне устроит фантазия, приблизительность...
Сняв очки, Николаевский склонился к тетрадке и словно бы п о п о л з глазами по строкам; брови высоко поднялись, а ноздри странно трепетали. (Так же было с пианистом Де Близе, когда приезжал с гастролями; Герасимов сидел в первом ряду, ему это очень запомнилось; только в концерте было еще слышно, как Де Близе тяжело сопел, замирая над клавишами, будто на себе шкаф волок, а графолог, наоборот, задерживал дыхание, словно плыл под водою.)
– Ну, что я вам скажу, Александр Васильевич, – не отрываясь от строк, медленно заговорил Николаевский. – Писал это человек волевой, с крутым норовом, невероятно самолюбивый, – видите, как у него "в" и "ять" летят вверх?! Гонору тьма! Человек достаточно решительный – круто нажимает перо в конце слова. Склонен к некоторому кокетству, – заметьте, эк он, шельмец, закручивает шапочки заглавных "р" и "г"...
...Герасимов несколько раз сжал и разжал кулак, стараясь поточнее сформулировать фразу; наконец нашел:
– А вот с точки зрения надежности... Я понятно говорю? Он верен? Можно положиться на автора этих строк?
– Повторяю, в почерке ощущается сила... Не скажу, конечно, что к вам обращается ангел...
Герасимов затрясся от мелкого смеха:
– Так мне ангелы не нужны, Анатолий Евгеньевич! Мне как раз потребны дьяволы... Значит, думаете, можно рискнуть на откровенный разговор с этим п о ч е р к о м?
Данные из архивов подтвердили информацию, отданную Петровым. Два адреса, куда, по его словам, должен был подойти транспорт с динамитом и литературой, оказались проваленными провинциальной агентурой, так что проверить искренность "Хромого" на деле не удалось, – саратовцы переторопились, поскольку полковник Семигановский мечтал поскорее получить внеочередного "Владимира".
Тем не менее, приняв решение начать серьезную работу, Герасимов поднялся на чердак, сел к оконцу в креслице, заранее туда поставленное, и, приладившись к биноклю, начал наблюдать за тем, как себя ведет Петров наедине с самим собой.
Смотрел он за ним час, не меньше, тщательно подмечая, как тот листает книгу (иногда слишком нервно, – видимо, что-то раздражает в тексте), как морщится, резко поднимаясь с постели (наверное, болит культя), и как пьет остывший чай. Вот именно это, последнее, ему более всего и понравилось: в Петрове не было жадности, кадык не ерзал по шее и глотки он делал аккуратные, к р а с и в ы е.
Вечером Герасимов постучался в дверь комнаты (сказал филерам на замок не запирать), услышал "войдите", на пороге учтиво поинтересовался: "Не помешал? Можно? Или намерены отдыхать?" – "Нет, нет, милости прошу".
– Спасибо, господин Петров. Давайте знакомиться: меня зовут Александр Васильевич, фамилия Герасимов, звание – генерал, должность...
– Глава санкт-петербургской охраны, – закончил Петров. – Мы про вас тоже кое-что знаем.
– В таком случае не сочтите за труд написать, кто в ваших кругах обо мне говорил и что именно, ладно?
– Знал бы, где упасть, подложил бы соломки... Вот уж не мог представить, что жизнь сведет именно с вами...
– Расстроены этим? Или удовлетворены?
– Про вас говорят разное...
– Что именно?
– Говорят, хам вы. Людей обижаете.
– Людей? Нет, людей я не обижаю. А вот врагов – это верно, обижаю. У меня к ним нет жалости!.. Такова судьба: или они меня, или я – их... Логика, никуда не денешься...
– Это – понятно, – кивнул Петров. – С логикой не поспоришь.
– Господин Петров, мы прочитали ваши записки. Они нас устраивают. Я человек прямой, поэтому все сразу назову своими именами: вы нам не врали... Слава богу... Но вы не объяснили, что побудило вас обратиться в саратовскую охрану с предложением стать нашим секретным сотрудником. Я хотел бы услышать ответ на этот вопрос.
– Отвечу. Вам имя Борис Викторович Савинков говорит что-либо?
– И очень многое, – ответил Герасимов; приняв решение п о в е р и т ь человеку, он не хитрил, не закрывался по-мелкому, работал на благородство, за агента стоял горой, защищал – если возникала необходимость – до самой последней крайности.
– Знакомы лично? Видали? Пользуетесь слухами? – продолжал спрашивать Петров, побледнев еще больше. – Что знаете о нем конкретно?
– Многое. Знаю, где он жил в столице, в каких ресторанах г у л я л, у кого одевался, с кем спал...
– Вот видите, – впервые за весь разговор Петров судорожно сглотнул шершавый комок – так пересохло во рту. – А я знал только одно: этот человек живет революцией. Он виделся мне, словно пророк, в развевающейся белой одежде, истощенный голодом и жаждой. Я был им болен, Александр Васильевич! Так в детстве болеют Айвенго или Робин Гудом! Дети, видите ли, идеалисты... Я когда учительствовал в деревне, малышей в классы брал – все равно сидят в избах без надзора... Знаете, чему я более всего поражался? Тому, как и что они рисовали, получив в руки цветной мелок – я это чудо специально из Москвы выписывал... Уж если у них кто герой – это обязательно красавец, рыцарь без страха и упрека, если силач – так нет никого сильнее... А когда меня в Париж привезли, когда начали таскать по революционным салонам, чтобы я демонстрировал свой протез, когда встретился с Борисом Викторовичем, пообщался с ним, так даже сон потерял с отчаянья... Это он здесь подвижник террора, а там ходит по кабакам с гвоздикой в петличке фрака и табун влюбленных дурочек за собою водит попользует и бросит, хоть на панель иди... Разве может человек идеи в Петербурге быть одним, а в Париже прямо себе противуположным?! Мы здесь ютимся в сырых подвалах – и счастливы, ибо верим, что служим революции, а Чернов на Ваграме целый этаж занимает, семь комнат, барский апартамент! Вот поэтому, вернувшись в Россию ставить террор на Волге, попав к вам в руки, я в одиночке отчетливо вспомнил Париж и моих т о в а р и щ е й по борьбе... Вспомнил, как они меню по десять минут разглядывали, прежде чем заказывать ужин, как вино пробовали, что им лакей поначалу наливал в рюмку для дегустирования, и сказал себе: "Эх, Санька, Санька, дурак же ты на самом деле! Ты этим барам от революции ногу отдал, а теперь голову хочешь положить за их роскошную жизнь?!" Вот, собственно, и все... Попросил ручку и написал письмо в охрану...
Герасимов накрыл своей ладонью холодные пальцы Петрова:
– Александр Иванович, не казните себя. Лучше поздно, чем никогда. Я рад знакомству с вами. Спасибо сердечное за предложение сотрудничать с нами. Давайте думать, какую сферу работы вы намерены взять?
Петров ответил не задумываясь:
– Я бы хотел бороться против боевой организации эсеров.
– Это очень опасно, Александр Иванович, вы же знаете, чем может кончиться дело... Если революционные баре поймут вашу истинную роль – патриота державы, ставшего на борьбу против новых жертв, сплошь и рядом ни в чем не повинных, дело может кончиться казнью...
– То, к чему я пришел, окончательно. Согласитесь вы с моим предложением или нет, но я все равно сведу с ними счеты.
Герасимов заметил, как в глазах Петрова п о л ы х н у л о; такой не отступит; господи, а ведь это находка; хоть какая-то замена Азефу; если сделать его настоящим другом, если он поверит мне до конца, он сможет то, чего не успел Евно, а время в империи такое, что без террора не удержаться, надо постоянно п у г а т ь...
– Хорошо, Александр Иванович, ваше предложение принято. Теперь давайте думать о главном: как вас вытащить из тюрьмы? Вы же до сих пор сидите в карцере саратовской каторжной – для ваших друзей и знакомцев... Как будем решать вопрос с побегом?
– Думаю, всю нашу группу надо пускать под суд... Получим ссылку на вечное поселение, а уж оттуда – обратно, к вам... Полагаю, коли сошлют в селение, где нет политиков, это можно будет провести в лучшем виде, с вашей помощью.
– Ни в коем случае, – отрезал Герасимов. – С вами по делу идут Гальперин, Минор, Иванченко, букет террористов... Они тоже могут податься в побег, и тогда возможны новые жертвы... Нет, это не годится – пусть маленькие Савинковы получат свое сполна... А вот если вы попробуете симулировать сумасшествие...
– Как так? – не сразу понял Петров.
– Я дам вам книжки по психиатрии... Почитаете пару-тройку дней, вернетесь в саратовский карцер и сыграете п р и д у р к а... Просите свидания с вашей женою – королевой Марией Стюарт... Жалуйтесь, что вам мешают закончить редактирование Библии...
– Только Бартольда освободите, – задумчиво сказал Петров, – мне без него трудно... Он ведь как нянька мне... Хоть и барин, но человек чистейшей души, последнюю гривну отдаст товарищу, хоть сам голодать будет...
– С Бартольдом, думаю, вопрос решим... В конце концов, он не террорист, его действительно можно отправить на административную высылку...
– Спасибо... Поймите, это не прихоть, это для нашего дела нужно. Одному бежать – всегда подозрительно...
– Бартольд согласится помогать вам в вашем новом качестве?
Петров даже взмахнул руками:
– Господь с вами! Что вы?! Он наивный человек, взрослый ребенок, он с малышами в пряталки играет, боится, чтоб его сразу не нашли! Как можно?!
– Хорошо, Александр Иванович, считайте, что этот вопрос улажен.
– А как быть со мною? – Петров вдруг усмехнулся, обнажив прекрасные, словно белая кукуруза, зубы. – Ну потребовал я, чтобы Марию Стюарт впустили в камеру, ну отказали мне, а что дальше?
– Дальше придется стоять на своем. Бить, видимо, станут. Мы ведь в Саратов о нашем уговоре ничего не сообщим, пусть думают, что не сошлись, а то вмиг Бурцев объявится... Так что держитесь... Орите во все горло, пугайте тюрьму, слух пойдет, как вас мытарят, т о в а р и щ и начнут кампанию за освобождение, переведут в госпиталь, а там, думаю, сами оглядитесь... Тем более что через пару месяцев Бартольда можно будет под залог выпустить... Вам играть придется, Длександр Иванович, играть по-серьезному... Ну, подробности мы оговорим, когда вы почитаете книжечки и наметите для себя ту болезнь, которую для вас сподручнее имитировать...
Через неделю из Саратова телеграфировали, что "интересовавшее департамент лицо, по возвращении к месту заарестования, впало в мистическую депрессию. Возможна симуляция нервного заболевания, чтобы избегнуть суда. В отправке в психиатрическую лечебницу отказано. Принимаем меры, чтобы выяснить объективное состояние интересующего лица собственными силами. Нет ли каких дополнительных указаний?".
Герасимов ответил, что "означенное лицо" его не интересует, скорее всего он действительно ненормален психически, "внимания к нему впредь проявлять не намерен в силу его неуравновешенности, а также малой компетентности".
Долгие недели над Петровым издевались в карцере; однако линию он держал твердо, хотя и поседел от избиений и голодовок. Лишь когда начались обмороки (однажды с потерей пульса), тюремное начальство распорядилось, чтобы полутруп был отправлен в психиатрическую лечебницу.
Через семь дней после этого в лечебницу с передачей для "убогого" Петрова пришла девушка, назвавшая себя Раздольской Евгенией Макаровной; была на связи с Бартольдом, "бежавшим" из ссылки; в куске сыра была записка: "Ищу контактов с врачами, держись, вытащу!"
Прочитав эту записочку, Петров – впервые за последние месяцы – уснул и, не просыпаясь, спал девятнадцать часов кряду.
Когда об этом сообщили в Петербург – в психиатрической лечебнице работал провизор, завербованный охранкой, освещал настроение врачей, – Герасимов облегченно вздохнул: план близок к осуществлению; доктор Погорелов давно симпатизировал революционерам и вел как раз то отделение, где лежал Петров; подсказать – через третьи уста – Бартольду, что именно к этому лекарю и следует подойти, труда не составляло.
...Весь день Герасимов изучал сообщения из Парижа, готовил развернутый план для внедрения Петрова в высшие ряды партии эсеров, придумывал формы связей, которые ни в коем случае не будут раскрыты Бурцевым; настроение было приподнятое, чувствовал – грядет новая удача, к о р о н н о е дело, залог будущего; поработать бы с Петровым лет десять а там и пенсия – стриги себе купоны со счетов в банках!
Решив, что большую часть времени он будет держать Петрова в Париже, обосновав необходимость этого тем, что в Петербурге и Москве бомбистов уничтожили, зловредные очаги остались лишь на Западе, Герасимов был убежден, что вся информация министерства иностранных дел и заграничной агентуры департамента полиции будет стекаться к нему в кабинет, а отсюда – один шаг до беспроигрышных комбинаций на биржах. Информация, да здравствует информация, многия ей лета!
В случае нужды, если двор совсем уж начнет отбиваться от рук, – Петров тут как тут с чемоданом динамита. Попугаем. Царское Село вмиг образумится!
Ух, жизнь, господи, только б лучше не было, только б шло так, как идет!
...Звонок Столыпина был словно гром среди ясного неба, до этого никогда сам не звонил в охрану: в случае крайней нужды с премьером связывал секретарь, да и такое было раза два, не больше.
– Александр Васильевич, – глухо кашлянув, сказал Столыпин, – я бы просил вас приехать ко мне незамедлительно...
– Что-нибудь случилось? – осведомился Герасимов, ощутив тянущую ломоту в загривке.
– Да, – ответил премьер. – Случилось. "Вот почему революция неминуема!"
"...Сегодня должны казнить двоих: Грабовского и Потасинского. Последний сидит под нами и еще ничего не знает; говорил только, что утром ему предложили прислать священника для исповеди. Он ни о чем не догадывается; просил, чтобы пришел защитник, предполагает, что кассация отправлена в Петербург. Через час их возьмут...
...Среди наших жандармов вот уже несколько дней паника. Прошел слух, что на воле перехвачено письмо отсюда, в котором кто-то говорит о симпатиях, проявляемых к нам жандармами. Один из них арестован; сюда прислан шпик из охранки в мундире жандармского вахмистра.
...Сегодня совершенно не могу уснуть; час назад убрали от нас лампу; совсем уже светло, птицы громко поют, время от времени каркает ворона. Мой товарищ по камере спит неспокойно. Мы узнали, что утверждены два смертных приговора; сегодня ночью приговоренных не увели, – значит, уведут завтра. У каждого из них, вероятно, есть родители, друзья, невеста. Последние минуты... Они здоровы, полны сил и – бессильны. Придут и возьмут их, свяжут и повезут на место казни. Вокруг – лица врагов или трусов; прикосновение палача, последний взгляд на мир, саван и конец... Лишь бы скорее, лишь бы меньше думать, меньше чувствовать; блеснет мысль: да здравствует революция, прощайте навеки, навсегда. А для оставшихся завтра начнется такой же день, как и раньше. Столько уже людей прошло этот путь! И кажется, что люди уже не чувствуют, привыкли, это не производит на них никакого впечатления. Люди? Но ведь и я к ним принадлежу. Я не судья им; сужу о них по себе. Я спокоен, не поднимаю бунта, душа моя не терзается, как еще недавно. На поверхности ее тишина. Получаю известие – что-то дрогнуло... еще одна капля – и наступает спокойствие. А за пределами сознания... копится яд... Когда наступит время, он загорится местью и не позволит теперешним победителям-палачам испытать радость победы. А за этим мнимым равнодушием людей, быть может, скрывается страшная борьба за жизнь и геройство. Жить – разве это не значит питать несокрушимую веру в победу? Теперь уже и те, которые мечтали об убийстве – как возмездии за преступление, чувствуют, что эти мечты не могут быть ответом на преступления, совершаемые постоянно, уже ничто не уничтожит в душе тяжелых следов этих преступлений. Эти мечты говорят только о непогасшей вере в победу народа, о страшном возмездии, которое готовят себе теперешние палачи. А в душах современников все усиливаются боль и ужас, с которыми связано внешнее равнодушие, пока не вспыхнет бешеный пожар за тех, у кого не было сил быть равнодушным и кто лишил себя жизни, за покушение шакалов на высший инстинкт человека – инстинкт жизни, за тот ужас, который люди должны были пережить.