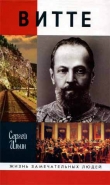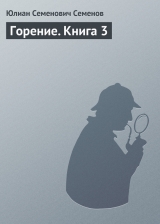
Текст книги "Горение (полностью)"
Автор книги: Юлиан Семенов
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 48 (всего у книги 99 страниц)
П. Н. Д у р н о в о. – Если будем, подобно графу Витте, считаться с отдельными сословиями, мы впадем в ошибку.
Г р а ф С. Ю. В и т т е. – Я предлагаю пополнить проект только тем, чтобы об отклоненных предложениях доводилось до сведения Государя Императора.
В. В. В е р х о в с к и й. – Странно писать в законе о том факте, чтобы не делать секрета от Государя Императора. Ваше императорское величество всегда можете потребовать всякие сведения. Но помещать об этом особое постановление было бы странно...
П. Н. Д у р н о в о. – Постановления о доведении до высочайшего сведения не должны быть вносимы в законодательные акты.
Е г о И м п е р а т о р с к о е В е л и ч е с т в о. – Оставить, как в проекте. Далее..." 24
Попов пил тяжело, не хмелел, только глаза его начинали высвечиваться изнутри какой-то жалостливой прозрачностью. Серебряные часы Павла Буре лежали на столе с открытой крышкой; было уже девять сорок. В охрану надлежало вернуться через пятьдесят минут – Сушков к этому времени должен все п о д г о т о в и т ь. Попов с трудом сдерживал себя – хотелось подняться, сунуть Леопольду Ероховскому кредитный билет, насладиться его унижением и, не дав руки, бежать к себе: уж он-то знает своих молодцов, уж он-то знает Павла Робертовича. Объяснять ему, правду про Стефу открыть – нельзя, никому нельзя, самому себе кто петлю накидывает? Грозить можно и намекать, на операцию намекать, а им, костоломам, не до операций, особливо если хлебного примут, здоровы водку жрать, сукины дети. Но и уйти сейчас невозможно, потому что Ероховский расходится трудно, необходимо слушать его умности, жалобы на собратьев, на власть, которая не может о б е с п е ч и т ь, на дороговизну (хотя от предложенных за услуги денег отказался: "Искусство нуждается в правопорядке – только поэтому я вам помогаю. Анархии театр не надобен, черни угодны непрофессиональные балаганы на площадях"). Пьет он тоже хорошо, но, видимо, последнее допивает: агентура сообщила, что Ероховский начинает закладывать с утра, поправляется портвейном, страдает, ждет обеда, чтобы со щами пропустить стакашку, тогда только расходится, начинает каламбурить, записывает что-то в блокнотик, потом – и чем дальше, тем быстрее – скисает, норовит поспать, но спит плохо, тревожно и с вечера пьет чуть не до рассвета так долго не выдержит, так можно года два продержаться, а он уж полтора разменял.
Попов нетерпеливо присматривался к Ероховскому, но нетерпение он умел скрывать за небрежной заинтересованностью, похохатывал добродушно, когда Ероховский громил имперские порядки, заботливо предупреждал сдерживаться в откровениях с малознакомыми людьми, особенно левых убеждений: "Нам же потом напишут, а мне вас защищай!"
– Вы мне скажете, где теперь Стефа? – спросил Ероховский. – Я бы ее навестил, паспорт мне позавчера выдали... В Кракове актрисуля?
– Рядом с Краковом. В Татрах, – ответил Попов. – В санатории... Вы, наверное, п р о х о д и л и с ь, а, пан Леопольд? Мне говорили, что все актрисы должны непременно отдаться либо режиссеру, либо драматургу, без этого, рассказывают, в вашем мире невозможно...
– Если бы, Игорь Васильевич, если бы...
– Коли б она была вашей, не стали б ее уговаривать за границу бежать?
– Конечно, нет.
– И моей бы просьбе отказали?
– Отказал бы.
– А где же общечеловеческая гуманность? Где подвижничество?
– В охранном отделении, – ответил Ероховский. – Жандармы этими вопросами занимаются и учат общество, как следует понимать истинную гуманность.
– Слушайте, а к вам т о в а р и щ и не подваливали еще, пан Леопольд? Не просили написать что-нибудь эдакое про Красное воскресенье, про "Потемкина", про ту же Лодзь?
– Соглашаться?
– Непременно. Это было бы восхитительно, мы бы с вами Петербургу нос утерли: у них был вождь рабочих – Гапон, а у нас выразитель рабочих чаяний Ероховский.
– А потом бы как Татарова – ножом в шею.
– Так ведь Татаров двурушник, он и вашим и нашим. Слушайте, пан Леопольд, я хочу предложить вам эксперимент...
– Повесить кого-нибудь?
Попов заколыхался, забулькал, чокнулся с Ероховским, медленно выцедил, понюхал корочку, закусывать не стал.
– Хотите посмотреть, как вешают? Я устрою.
– Не хочу.
– Отчего?
– Запью.
– Да вы и так пьете втемную.
– Я в открытую пью, Игорь Васильевич, про того, кто пьет втемную, говорят: "Он и капли в рот не берет". Скажите мне правду, полковник, как на духу скажите: спасти империю сможете или все покатилось? Скажите честно: есть надежда, или пора направлять стопы в Париж, пока здесь резать не начали – всех под один гребень?
– С чего это вы?
– Да с того, что я по городу хожу, а не езжу на дутиках, как вы. С того, что ем и пью в открытых местах, где люди г о в о р я т, а не на тайных квартирах, где отставной жандарм прислуживает. Оттого, что я в театре за кулисами работаю, а не в ложе бенуара сижу, – все оттого, Игорь Васильевич...
– А я еще к тому же читаю сводки, пан Леопольд, в которых записаны разговоры подстрекателей революции, и я в курсе их планов, знаю, где у них склады оружия и литературы, а ведь ничего – спокоен. Пусть шумят, пусть кулаками машут. Больше машешь – скорей устанешь. Да и зрителям надоест: в театр ходят для того, чтобы дождаться момента, когда ружье выстрелит. А если не пальнет? Да пропади пропадом такой театр, тьфу на него! Недовольны? А дальше что?
– А дальше вся вера вытравится, вот что...
Попов приблизился к Ероховскому и, разозлившись, медленно ответил:
– А плевать на веру! Плевать, пан Леопольд! Важно держать в руках, важно знать, важно, чтобы порядок был, чтобы боялись... Вера... Для этого церкви есть и костелы, чтобы верою заниматься, не наше это дело – вера... Наше дело правопорядок...
Он удовлетворился впечатлением, которое произвели его слова, и достал из кармана пачку фотографических портретов, бросил на стол.
– Постарайтесь-ка воспроизвести ваш разговор с пани Стефой об ее зеленоглазом рыцаре...
– Я не умею воспроизводить, Игорь Васильевич... Вы же принесли фотографические картонки, давайте я погляжу. Вы меня об этом хотите просить?
– Именно об этом, пан Леопольд, – ответил Попов и разбросал портреты Ганецкого, Пилсудского, Дзержинского, Варшавского, Уншлихта, Василевского, почти всех, словом, эсдеков и социалистов; анархистов и максималистов в расчет не брал.
Ероховский заинтересованно разглядывал лица, особенно долго изучал глаза.
– Выразительные персоны, – заметил он. – Каждый индивидуален.
Попов сыграл: взяв фотографический портрет Василевского, написал карандашом на обороте: "Этот – искомый". И расписался. Протянул карандаш Ероховскому. Тот карандаш взял, отложил портреты Пилсудского, Ганецкого и Дзержинского, тронул их пальцами, будто спирит какой, впился глазами, замер...
Попов осторожно посмотрел на часы: десять двадцать. Надо ехать. Как можно скорее. Там должно быть все в порядке. Они не посмеют переступить. А если? Он представил себе Стефанию вместе с Павлом Робертовичем, и темное животное желание родилось в нем. Но это было мгновение, потом он вспомнил, какая Стефа была веселая, когда началась их связь, какая она была ласковая и как умны были ее странные, какие-то шальные разговоры за кофе, когда она сидела строгая, причесанная перед тем, как попрощаться и уйти на репетицию.
– Этот, – сказал Ероховский и ткнул пальцем в портрет Дзержинского. По-моему, она говорила о нем... Мне кажется, он.
– Пишите, – лениво посоветовал Попов. – Я бьюсь об заклад, что не он. Я на другого поставил, сами видели. Дюжина шампанского, идет?
Ероховский, приняв игру, вывел на обороте портрета Дзержинского: "Этот искомый". Расписался лихо, как человек, который лишен права должностной, ответственной подписи.
"Ах, пташечка, ах, миленький мой, – подумал Попов, – вот ты У меня и в кармашке, главаря опознал, да еще с какой разборчивой росписью – поди отопрись... "Спасете империю?.." Покуда я умею с вами эдак-то играть, конечно, спасем, куда деться?"
Поцеловался с Ероховским трижды, поблагодарил за дружбу, ощутил прикосновение его сухих губ и вдруг неожиданно почувствовал внутри холодный ужас: а ну, коли опоздал к Стефе?! Явственно привиделось белое лицо Павла Робертовича, трепетные его синеватые ноздри и длинные, пушистые ресницы, скрывавшие пронзительно-черное безглазие.
Кучеру Грише хрипло приказал:
– Гони, чтоб искрило!
Запахнул пальто, воротник поднял: начался нервный, быстрый озноб, зубы клацали.
В охрану вошел стремительно, едва сдерживаясь, чтобы не побежать по коридору, не выдать себя своим: нет ничего страшнее, как своим приоткрыться, они живо перепилят.
На втором этаже почувствовал тяжелое сердцебиение: ему показалось, что он услышит крики Стефы сразу же, как только повернет в закуток, ведущий к кабинету, но там была тишина, страшная, ч р е в а т а я.
"Если дверь заперта – значит, опоганили, скоты, не устояли, – жалобно подумал Попов. – Врать будут все, она тоже – поди проверь".
Он рванул на себя дверь и чуть не упал – дверь заперта не была. В кабинете никого. Попов не сразу заметил разбитое окно, осколки на паркете, темные пятна крови. Поначалу он только диван и увидел, пустой диван, без нагого тела, испытал поэтому облегчение, умильное и слезливое. И лишь после разум его объял все детали, Попов бросился к окну, глянул вниз – он был уверен, что непременно увидит на булыжниках распластанную Стефанию с подвернутой под грудь левой рукою, а правая выброшена вперед. Он помнил такое, арестантка в Орле сиганула, тогда последних по "Черному переделу" подбирали, крикливые были, гордые, на "вы" требовали, а той дал пощечину стражник, она и о п р о т е с т о в а л а самоубиением.
Попов выбежал из кабинета, прогрохотал по коридору, не скрывая дыхания, сунулся к Павлу Робертовичу – пусто, дверь тоже не заперта, на столе бумаги разложены, на подоконнике – остатки ужина, пустые штофы.
Сбежал вниз, спросил вытянувшегося унтера Кузовлева:
– В какой кабинет прошел доктор?
– Никак нет, не проходил! Только тюремный фельдшер Яковлев!
– Куда пошел?
– К ротмистру Сушкову, ваше благородие!
Попов взбежал на третий этаж, пнул ногой дверь: Стефания лежала на диване, лицо и руки обмотаны бинтами, кровь медленно проступала у висков, нос торчал из повязки заострившийся и до того белый, что казался белее бинта.
– Выбросилась? – спросил Попов и не узнал своего голоса.
– Нет, – ответил Павел Робертович, – только норовила. Изрезалась несколько.
– Все вон! – еще тише сказал Попов. – Вон отсюда, свиньи!
Офицеры и фельдшер Яковлев вышли из кабинета на цыпочках. Попов приблизился к дивану, страшась, заглянул в бинт, увидел глаза женщины – в них металось что-то быстрое, непонятное.
Попов взял двумя пальцами шинель, которой была укрыта Микульска, приподнял полу и увидел, что женщина совершенно голая, а руки и грудь в ссадинах и тяжелых, бурых синяках.
Он сглотнул ком, мешавший дышать, подкрался к двери, привалился к ней плечом, воровски, мягко повернул ключ, потянул ручку на себя, убедился, что заперто, вернулся к Микульской, достал из кармана фотографический картон Дзержинского, поднес его к глазам женщины и, заметив, как зрачки заметались, выдохнул, прокашлялся, хотел сказать что-то торжествующее, но не смог – комок в горле мешал. Он сбросил со Стефании шинель и начал быстро, лихорадочно раздеваться...
...Он понял, что Микульска мертва, не сразу, он не мог поначалу поверить в это, потом вскинулся, сорвал с лица женщины бинты, увидел ее открытые глаза, порезы, царапины, бездыханную грудь; схватил со стола стекло, лежавшее на сукне, приволок его к дивану, положил на лицо Стефании – стекло не помутнело.
В голове завертелось, затылок стал легким. Попов, ослабев враз, с трудом доволок стекло до стола, положил его на сукно, почувствовал, как тело покрылось цыпками – он не переносил звука, который возникал при соприкосновении сукна и стекла. Потом начал одеваться, по-прежнему чувствуя легкость в затылке.
Застегнув воротничок, позвал тихонько:
– Стефа... Стефочка...
Подошел к двери, отпер замок, вышел в коридор.
В кабинете Сушкова слышались голоса. Распахнул дверь: Павел Робертович заметил его первым, поднялся. Следом за ним, оправляя френчи, поднялись Сушков и поручик Зволяньский.
– Ну, что будете делать, ублюдки? – спросил Попов, чувствуя усталость в веках и верчение в голове. – Она же умерла. Вы же мне покойницу передали...
– Игорь Васильевич, господь с вами, она со... – начал было Сушков.
– Молчите, только молчите, – перешел на фистулу Попов, – молчите только! Отправляйтесь и поглядите! Вы поглядите на ее тело! На грудь! Руки! На лицо! Вы убили ее, ублюдки! Вы ее убили!
Лицо Попова было неживое, мучнистое, глаза шарили по комнате, словно бы следили за играющим котенком: вверх-вниз, направо-налево, вверх-вниз...
– После того, – чувствуя страх, оттого что Попов как-то странно хлопал себя по карманам, быстро сказал Сушков, – когда я отказал ей во встрече с вами, она ведь вас добивалась, ее никто пальцем не трогал...
– Не трогал?! А разделась она сама?!
– Мы выполняли приказ, Игорь Васильевич, мы ее готовили, по вашему указанию готовили. Мы не ждали, что она сунется головой в стекло, – ответил Павел Робертович, – да и не померла она, бабы – игруньи, она нам здесь тоже смерть изображала, сейчас мы ее приведем...
Павел Робертович структурою был попроще – он не понимал, что происходит с Поповым. Однако Сушков в своей давешней догадке утвердился и опасался только первых минут, когда человек в шоке, тогда эмоции могут возобладать; потом, когда разум вступится, не страшно. Надобно немедленно отвлечь его на д е л о, понял Сушков, иначе он может кордебалет устроить, палить начнет и вправду.
– Игорь Васильевич, если случилось непоправимое, ее надо немедленно отвезти домой и оставить там – Бах все взял на себя, мы ее обернем жертвою революционеров.
Попов непонимающе посмотрел на него, но по карманам себя хлопать перестал, молвил только:
– Все вон отсюда...
Через два часа Сушков вернулся в свой кабинет. Попов допивал бутылку, лицо его стало еще бледнее.
Не дав Сушкову доложить, он убежденно, со странной усмешкою, сказал:
– А стекло вы у ней на квартире забыли разбить, пинкертоны...
– Разбили, – ответил Сушков, – как же без этого, конечно, разбили... Только я до сих пор не могу взять в толк, откуда она узнала ваше подлинное имя?! У меня впечатление сложилось, что она знала вас отменно – как о близком сказала, будто прорвало ее...
– Сушков, я, покуда вы меня замещали, с агентом сидел, с хорошим агентом, нас видали с ним, я от него данные взял, а вы здесь арестантку убили... Я приехал, когда она мертвой была – вон Яковлев, фельдшер, акт написал, читайте, на столе. Я знаю, что вы за моей спиной делаете, Сушков. Не надо. Вы меня любите, Сушков, вы мне будьте как собака, ладно? Вы мне палец в глаз не вводите: "Знала, близкий, открылась, потянулась".
Сушков испугался:
– Я к тому, Игорь Васильевич, что вокруг вас заговор был, вы грозою революции обернулись, Бах через нее норовил вам бомбы в ложу засунуть... Мы это докажем, Игорь Васильевич, только отдохните, на вас лица нет...
– Я отдохну. Обязательно. А вы ответьте мне четко – "готов быть вашей собакою". Ну, отвечайте.
– Готов быть вашей собакою, Игорь Васильевич, – ответил Сушков, подошел к шкафу со стеклянными дверцами и достал оттуда еще одну бутылку водки...
– Это вы для кого? – спросил Попов, не разжимая рта.
– Для вас...
– Почему вы решили, что я намерен пить?
– Я думал, вам надо успокоить нервы.
– Это виновным должно нервы успокаивать. А виновный у нас кто?
Сушков потупился, чтобы скрыть ненависть во взгляде, он знал, что Попов заметит эту ненависть, ее дурак не заметит, а Попов не дурак, он змея, он животное, он чувствует, как баба.
– Виновный-то у нас кто? – не унимался Попов. – Я теперь от вас подписной ответственности буду требовать.
– От меня персонально или...
Сушков сдался. Попов понял это. Он принял условия игры. Что ж, пусть покажет, как он намерен играть.
– От офицеров охраны...
– Мне больно называть виновников, Игорь Васильевич, и тот и другой зарекомендовали себя – до настоящего прискорбного случая – с самой хорошей стороны...
– Объяснения у них отобрали?
– Нет еще.
– Отберите и передайте мне. Копий не оставлять, дела не заводить. Фельдшер Яковлев должен выдать вам справку, что Микульска была освобождена в его присутствии: вызван же он был по причине сердечного приступа, дама не смогла пережить радости. Свяжитесь с околотком, где живет Микульска... Жила... Как только сведения о ее смерти придут в участок, отправьте туда Павла Робертовича, пусть он поможет начальнику сыскной Ковалику в расследовании обстоятельств ее умерщвления неизвестными преступниками, скорее всего связанными с эсдеками, которые решили, что несчастная во всем призналась нам во время допроса...
Когда Сушков вышел, Попов сразу же открыл бутылку, налил в стакан, выпил до дна и тут же налил еще.
Рано утром вызвал Турчанинова, – Сушкову фамилию Дзержинского нельзя было отдать, мог выйти по этой цепочке на правду, на то, как выкрали Казимежа Грушевского, как его, Попова, в з я л и в ложе кабаре на документах, – и сказал кратко:
– Андрей Егорович, вы против Дзержинского работали, побег ему делали, если не ошибаюсь, накануне высочайшего манифеста? Так вот озаботьтесь тем, чтобы он был немедленно заарестован – любыми средствами. Перекройте границу так, чтобы мышь не проскочила, он не должен попасть на съезд русских.
– Почему вы решили выделить одного Дзержинского из всей партии?
– Потому что он и есть партия – во всяком случае, организационное ее начало... И вот еще что... Попробуйте через агентуру подбросить им идею, что граница перекрыта, что его ищут...
– Что это даст?
– Нам это даст то, что он пойдет через контрабандистов. Вопросы есть?
Турчанинов склонил голову, спросил взглядом разрешения выйти, удалился неслышно.
Потом Попов вызвал поручика Ерохина:
– Возьмите из регистрационного отдела фотографические снимки Дзержинского, размножьте, передайте всем своим людям, работающим по контрабанде. Дзержинский пойдет в ближайшие дни через границу. Он будет вооружен. Не надо ждать, покуда начнет отстреливаться. Военное положение у нас: сейчас тот случай, когда Дзержинский мне нужен не живым, но мертвым.
...Только после этого поехал домой, на заботливый вопрос жены, как себя чувствует, не ответил, прошел в кабинет, лег на тахту не раздеваясь, отвернулся к стене, закрыл глаза и сразу же увидел Стефанию. Поднялся, задернул шторы, снял башмаки и галстук, снова тяжело упал на тахту, глаза закрыл не сразу, а опасливо, постепенно, но, как только веки смежились, Стефания пошла к нему, искристо, белозубо улыбаясь. Попов потянулся к ней руками, ему было приятно смотреть на нее, он хотел позвать женщину, пальцы его коснулись платья. Он страшно закричал и открыл глаза: перед ним стояла жена.
– Что ты, родной?! Я хотела ботинки взять, чтоб Машка почистила. Ну что ты? Совсем замучился на службе! Спи, Игоречек, отдыхай...
– Дура! – чужим, бабьим голосом крикнул Попов. – Пошла вон отсюда!
Но Стефании он больше не видел. Дышалось тяжело, и в груди что-то ворочалось, подкатываясь к горлу... 25
Турчанинов пришел на конспиративную квартиру вечером, протянул Дзержинскому свежий оттиск газеты:
– Читали?
– Нет еще. Что-нибудь интересное?
– Микульску убили.
Дзержинский, взявший было газету, опустил ее на колени, лицо сделалось морщинистым, желтым.
– Ее нашли мертвой дома, – скрипуче продолжал Турчанинов. – Обратите внимание на две последние строчки: "Предполагают, что убийство совершено одной из революционных групп из мести актрисе, которая всегда отличалась лояльностью по отношению к властям". Судя по тому, что вас предписано арестовать незамедлительно и разосланы шифрограммы на границы, Попов хочет связать все в один узел с вами. Я думаю, обвинят в этой смерти социал-демократов...
– Да при чем тут все это... Какой хороший человек ушел, какой несчастный, талантливый, беззащитный человек, – глухо откликнулся Дзержинский. – У вас папиросы есть?
Турчанинов протянул пачку "Лаферма", дождался, пока Дзержинский неумело раскрошил табак, зажег спичку, дал прикурить.
– Кто ведет дело? Попов? – спросил Дзержинский, глубоко затягиваясь.
– Не считайте врагов дурнями. Дело ведет сыскная полиция.
– Кто именно?
– Имеете подходы? – спросил Турчанинов.
Дзержинский – лицо по-прежнему желтое, в морщинах, не отошел от новости повторил вопрос раздраженно:
– Кто именно, Андрей Егорович?
– Ковалик, начальник сыскной.
– Что за человек?
– Знающий человек. Когда едет на фурмане по Воле, жулики издали шапки ломают, кланяются в пояс.
– С охранкою связан?
– А кто с нею не связан? – усмехнулся Турчанинов. – Впрочем, Ковалик, как и все сыскные, изнанку знает не по донесениям "подметок", а, что называется, лицом к лицу. Посему, можно предположить, охрану он не жалует.
– Возраст, связи, увлечения, пороки, достоинства, привязанности, происхождение? – устало перечислил Дзержинский. – Что о нем известно?
– Вам бы контршпионажем заниматься, Феликс Эдмундович... Странно литератор, на юридическом лекции не посещали, откуда в вас это?
– Обстоятельства гибели Стефании неизвестны?
– Только то, что написано в газете. В охране об этом говорят глухо, но...
– Что?
– Не знаю... Когда слишком глухо говорят, значит, есть к тому основания... А что касается Ковалика – право, я не готов к ответу. Но я пришел по иному поводу: не вздумайте ехать на съезд через западные границы: вас схватят. Не вздумайте просить о помощи контрабандистов: у охраны там полно агентуры, вас отдадут.
– Я никуда не поеду до тех пор, пока не рассчитаюсь с Поповым! Мы не простим Попову убийства Микульской. Он за это ответит.
– При чем здесь Попов? Не поддавайтесь чувствованиям, Феликс Эдмундович.
Дзержинский покачал головой:
– Это не чувствование. Это убежденность.
– Какой смысл Попову убивать Микульску, господь с вами?!
– Не будем спорить. – Дзержинский поднялся с кресла резко.
Турчанинов подумал: "Хочет собраться, сейчас лицо закаменеет". Он помнил такие метаморфозы во время первого допроса, когда впервые увидел Дзержинского в арестантском халате, с руками, затекшими от кандалов. Лицо его тогда отражало все, что происходило в душе. Турчанинов подумал, что с такого-то рода свойством трудно жить в подполье. А подумав, сказал арестанту об этом. Дзержинский рассмеялся: "Неужели вы думаете, что мы намерены всю жизнь провести в подполье?! Вопрос свержения вашего режима – вопрос лет, а не столетий. Вы уже кончились, вас только инерция держит. Я ж для них, для товарищей, живу, не Для вас".
Турчанинов был прав: Дзержинский отошел к окну, постоял минуту, потом так же резко, как вставал, – обернулся: лицо было другим уже, рубленым, несмотря на врожденную мягкость черт.
– Кто выезжает вместе с Коваликом на место преступления?
– Не понимаю...
– Ковалик приезжает на происшествие не один?
– Конечно, не один. После того как в сыск поступает тревога от околоточного, отправляется старший сыщик, врач, делопроизводитель. Когда преступление относится к числу кошмарных, вызывают прокурора и мастера по фотографическому портрету.
– Вы можете узнать фамилии всех людей, которые были вызваны на квартиру Микульской? Зто не поставит вас в затруднительное положение?
– Поскольку никто из н а ш и х к этому делу интереса не проявлял, видимо, вашу просьбу я смогу выполнить.
(Поскольку на самом-то деле охрана проявляла особое внимание к делу Микульской, но Турчанинов об этом не знал, его и н т е р е с был зафиксирован, доложен Попову – ротмистр Сушков п о д с у е т и л с я, ибо введение любого нового фигуранта в гибель актрисы было на руку ему, – и по указанию начальника охранки ротмистр Турчанинов был взят под контрольное филерское наблюдение. Случилось это уже после того, как Турчанинов позвонил по известному ему телефону и назвал фамилии прокурора Усова, фотографа Уланского, врача Лапова, принимавших участие в осмотре трупа Микульской и описании места происшествия.)
...О том, что сапожник Бах пропал, Уншлихт узнал через два дня после того, как тот отправился к Микульской. Сообщил об исчезновении Баха кройщик кожевенного производства пана Шераньского, которого звали Фра Дьяволо из-за того, что он был слеп на левый глаз и носил постоянно черную повязку.
– Ты его проводил до Маршалковской? – спросил Уншлихт. – Ты видел, как он встретился с женщиной?
– Видел. Своими глазами видел.
Уншлихт хмуро поправил:
– Глазом.
– Мой один двух ваших стоит, вон пенснёй-то зыркаете, а прочитать без стекла не можете, – беззлобно ответил Фра Дьяволо, привыкший к тому, что над ним подшучивали товарищи.
– А что дальше?
– Ничего. Она кабриолет остановила, пригласила Яна, они сели да и уехали.
– Тебя же просили сопроводить их до ее квартиры...
– Кто ж знал, что она кабриолет возьмет? Откуда у меня на фурмана деньги? Полтинник дерут, а я в день всего сорок три копейки выколачиваю.
– Она, женщина эта, нормально выглядела? Не запыхалась? Не бежала?
– Так она ж барского вида, чего ей пыхать? Шла как шла, в кринолинах, и туфельки на ней из шевро, фасона "лорю"... Бах у нас парень видный, грамотный, по-иностранному умеет, – может, заперлись и ни на какой вокзал не поехали.
– Ту барыню в кринолинах убили.
– Что?! Такую красавицу!!
– Возвращайся в Мокотов, смотри зорко – нет ли филеров. Найди Збышка, передай, что я буду ждать его в кондитерской "Лион" к девяти часам. Если он увидит у меня в правой руке журнал, пусть не подходит. Пусть тогда найдет возможность встретиться с Мечиславом или Якубом – надо передать Юзефу, что по всем линиям объявлена тревога.
– Якуб – это Ганецкий?
– Хорош конспиратор! Нет у нас фамилий, имена есть! Только имена, понятно?!
– Понятно. Прости.
– Мама простит, охранка – нет. Теперь так... Если поймешь, что с Мечиславом и Якубом нельзя увидеться из-за филеров, тогда отправляйся в газету "Дневник". Возьми объявление, спрашивай в редакции, где можно решить дело с рекламою, понятно? И после того, как пообвыкнешь – там много народа толчется, – зайди в комнату номер пять, спроси господина Варшавского и передай ему все, что я тебе говорил.
(Адольф Варшавский-Барский теперь жил по надежным документам, открыто выступал в левых газетах со статьями, разъяснявшими позицию социал-демократии, Дзержинский настаивал на том, чтобы Варшавский по возможности избегал контактов с подпольем: надо иметь надежную точку легальной опоры в городе, набитом после введения военного положения казаками, черносотенцами, филерами. Дзержинский как-то сказал: "Революция, которая не умеет защищаться, обречена на гибель". Именно он создал особую группу народной милиции, которая занималась наблюдением за охранкой, выявляла провокаторов, кучеров, развозивших по домам жандармов, филеров. В маленьких городах выявление провокаторов было несравнимо более легким делом. Листовки оповещали рабочих о том, кто связан с охранкой, предупреждали от контактов. В крупных центрах такого рода работа была значительно труднее, но тем не менее велась постоянно.
Именно члены этой группы, проинформированные по каналам Мечислава Лежинского и Якуба Ганецкого, установили, что дом сапожника Баха находится под постоянным филерским наблюдением, что оттуда никого уже третий день не выпускают: ни старика отца, ни сестру Баха, ни племянника. Ясное дело засада.)
Мечислав Лежинский пришел к доктору Лапову на квартиру, представился, как и предложил Варшавский, репортером "Дневника", подарил "пани докторке" букетик мимоз и спросил позволения "пана доктора" задать ряд вопросов по поводу кошмарного преступления на улице Вспульной.
– Волка ноги кормят, – чарующе улыбнулся Лежинский, – если не обскачу коллег – меня обскачут. Дело столь ужасно, что завтра, убежден, все газеты сообщат о нем. Но никто, по моему разумению, не решился потревожить вас, все сидят верхом на пане Ковалике и ясновельможном прокуроре Усове.
Когда Дзержинский задумывал операцию, он рассчитывал на то, что Лапов молод и первый выезд на такое преступление не мог на него не повлиять, такого рода выезд считается у медиков п р е с т и ж н ы м, – следовательно, доктор находится под сильным впечатлением от увиденного, а поделиться ему не с кем в Варшаву перебрался совсем недавно. Судя по тем крохам информации, которые собрал Уншлихт, доктор Лапов родился в семье заводского мастера, с трудом выбился в люди. Уншлихт полагал, что это – главное звено, за которое должен ухватиться Мечислав Лежинский. Ганецкий и Варшавский считали, что основной упор надо сделать на сенсационность, надо с ы г р а т ь такой интерес, который зажжет и самого Лапова. Дзержинский, однако, не согласился ни с Уншлихтом, ни с Варшавским. "Механическое проецирование социального происхождения на мораль, – возражал он, – неправильно, порочно. Если следовать логике Уншлихта, тогда я не заслуживаю доверия – дворянин. Якуб Ганецкий тоже – из торговцев. В то же время провокатор "Яма" в Домброве самый что ни на есть пролетарий, сын рабочего. Механика не сопрягается с личностью, Юзеф, это опасный путь полагать, что происхождение определяет честность или бесчестие. Я не согласен и с Адольфом оттого, что он и Якуб делают ставку на сенсационность. А что, коли доктор Лапов скептик? Это у медиков распространено, они в нас поначалу потроха видят, потом уж все остальное. Я бы предложил обратиться к его профессионализму, к тому, какую роль нынешнее судопроизводство уделяет медицинской науке, а мы-то знаем, какую роль оно уделяет науке и что это за "наука" – кулак околоточного, пытки в камере, провокация. Думаю, если Мечислав сможет заинтересовать доктора умением с л у ш а т ь, если Мечислав предварительно повстречается с Николаем (он ведь посещает лекции на медицинском факультете), повертит с ним вопросы, тогда, быть может, Лапов начнет говорить".
– Я надеюсь, что пан доктор, – продолжал Мечислав, – согласится рассказать мне, что с точки зрения науки выделяется во всем этом кровавом деле, что поразило пана доктора более всего...
– Право, я не знаю, возможно ли мне беседовать с репортером прессы, я ведь раньше никогда не приглашался полицией в качестве эксперта...
– Я готов ничего не печатать до того, покуда это не будет признано целесообразным.
– Но вы покажете мне то, что напишете?
– Конечно. Хотите процензурировать? – усмехнулся Лежинский.
– Хочу, – согласился Лапов. – Приучен.
– Между прочим, в Англии цензура запрещена с 1695 года, и нас на триста лет обскакали.
– И в медицине лет на сто, – поддержал Лапов. – А что касается д е л а, то оно странно в высшей мере... Простите, не имею чести знать ваше имя...