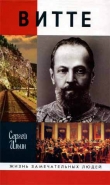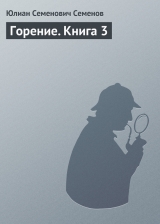
Текст книги "Горение (полностью)"
Автор книги: Юлиан Семенов
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 54 (всего у книги 99 страниц)
– Амэрикэнз больше, – заметил Джон Иванович, – американец еще дальше сверкал пятками, чем француз.
– Ты про своих-то, Джон Иваныч, помолчи, вы во время этого бега душу потеряли, страдания лишились, равно как и счастья, сплошная арифметика, а не жизнь.
– Так отчего нас обогнал француз? – поинтересовался Дзержинский.
– Оттого что там, после того как Наполеонов свалили, наши коллеги к власти пришли. Они все и отрегулировали, они, люди дела!
– И вы убеждены, что при нынешнем положении в России сможете все перерегулировать?
– А как же?! Конечно, сможем!
– Из чего строится наш государственный бюджет, Кирилл Прокопьевич? спросил Дзержинский мягко. – Загните пальцы.
– Вы всё к себе клоните, Феликс Эдмундович...
– Да и вы не к дяде, Кирилл Прокопьевич. Два миллиарда российского бюджета составлены из пятисот миллионов, что дает водка, пятьсот – железные дороги, триста – таможня и четыреста – прямые налоги. И все! Азиатчина это! Тьма! Позор! Царь контролирует через государственный, то есть его, банк все финансовые операции, царь владеет двумя третями железных дорог, владеет девяноста процентами всех телеграфных проводов, царю принадлежит треть земли и две трети всех лесов в государстве, Кирилл Прокопьевич! Царь – самый крупный в России финансист, капиталист и землевладелец! И вы полагаете, он поделится с вами правами на монополию?! Полагаете, на конкуренцию согласится?!
– Вы про Думу-то, про Государственную думу отчего не помянули, Феликс Эдмундович?! Ведь она теперь должна будет обладать законодательными правами! У нас теперь финансовая комиссия будет! Мы законы сможем проводить через нее, мы сможем и монополию ограничить! И не как-нибудь, не бунтарски, а по закону, по манифесту того же государя!
– О законе после, Кирилл Прокопьевич. Странно только: умный, деловой человек, инженер, а мало-мальски аналитического подхода к закону – ни на грош... Ладно, об этом еще поговорим... А как вы – буде получится – проведете через Думу ломку бюджета?
– Кардинально.
– Хорошо. Это просто-таки замечательно, вам за это Россия в ноги поклонится...
– Теперь поклон отменен, нет дэмокрэтик, – заметил Джон Иванович. Теперь, как в Юнайтэд Стэйтс, надо свистеть тем, кого лубишь...
– Ладно, посвистим, – согласился Дзержинский. – Значит, вы намерены так переписать бюджет, чтобы на народное образование не один процент, как ныне, был выделен, а десять? На пенсии – не три процента, а пятнадцать? На армию расписано тридцать процентов – сократите до десяти? На полицию сейчас отпущено семь. Сократите до одного? Кто вам это позволит, Кирилл Прокопьевич? Вас же в Сибирь за такое укатают! Перекраивая бюджет, надобно поднимать руку на налоговое обложение, Кирилл Прокопьевич! А кто вам позволит это провести? Царь! Ведь сейчас крестьянская семья из пяти душ получает в год триста девяносто рублей, а налогов платит триста восемьдесят шесть! Одно налоговое обложение на сахар, который мы у вас хрупаем, дает семьдесят миллионов прибыли в казну! В царскую казну, Кирилл Прокопьевич! Табачный налог – пятьдесят миллионов прибыли! И вы полагаете, что царь вам свои барыши отдаст?!
– Так он почти столько же тратит, чтобы этот барыш выколотить, Феликс Эдмундович! Он в каждой деревне фискальную службу держит. Им же платить надо!
– Значит, вы готовы возместить царю убытки? Из своих доходов?
– Не все, но часть – готовы.
– Значит, ваш рабочий должен будет получать еще меньше?
– Отчего?
– Так откуда ж вы деньги на воспроизводство получите? Царю отдай, себе оставь, а дальше что?
– Если всю правду рабочим открыть, они поймут, что лишь высокая производительность даст им заработок.
– А почему они вам должны верить? Какие вы можете дать гарантии?
– Ну что вы все норовите меня с рабочими поссорить, Феликс Эдмундович?!
– Я?! Вы сами с ними в ссоре, Кирилл Прокопьевич, вы п р и н у ж д е н ы будете ж а т ь, иначе концы с концами не сведете! И жизнь сама затолкает вас под бок к царю, которого вы так браните, у него станете солдат для усмирения просить.
– Что ж, по-вашему, мы ничего не добились и выхода нет?
– Вы кое-чего добились, да и то пока на словах..,
– Отчего вы так слепо, так озлобленно отвергаете манифест? Ну ладно, ну верно, булыгинская Дума, которая только графов в Думу пускала, дрянная была, но и мы против нее выступали. И добились своего! Ведь манифест прямо говорит: "Привлечь к участию в Думе те классы населения, которые ныне лишены избирательных прав".
– Неверно! – Дзержинский ожесточился. – Не надо так, Кирилл Прокопьевич! В манифесте сказано иначе: "Привлечь к участию в Думе в м е р е в о з м о ж н о с т и те классы, которые ранее были лишены прав". А что такое в о з м о ж н о с т ь? Это закон. А разве царь отменил булыгинский закон, который и вы бранили? Разве новый закон распубликован? Царь спрятался за формулировочку "в мере возможности", а вы согласились с этой заведомой уловкой! Ваши-то теперь пройдут в Думу, а рабочие – нет! Понизят выборный ценз: раньше, чтоб голосовать, надо было полторы тысячи недвижимости иметь, а низведут до тысячи. А рабочий в год получает триста. На пять душ! Раньше был конфликт между лагерем царя и бюрократов, с одной стороны, и всеми – с другой, а ныне начнется конфликт между лагерем царя, бюрократов, октябристов и кадетов – с одной, а рабочим и мужиком – с другой стороны. Вы к тому же передеретесь в своем лагере, а рабочему с мужиком драться не за что – голы, босы и голодны. Значит, решение социального спора будет оттянуто на какое-то время, но все равно решать придется, Кирилл Прокопьевич.
– Ну хорошо, а какой выход вы предлагаете?
– Валить царя. Валить бюрократию. Требовать Учредительное собрание, нацеливать народ на республику.
– Которая предпишет меня обобрать, – заключил Николаев.
– Если вы будете посылать казаков с нагайками против тех, кто требует Учредительного собрания для выработки демократической конституции, – конечно! И чем больше станете поддерживать царя, тем больше накопится гнева. Операцию надо делать тогда, когда можно больного спасти.
Николаев хмыкнул:
– Россия... Все по Евангелию: "Сеете много, а собираете мало, едите, но не в сытость, зарабатывающий плату зарабатывает для дырявого кошелька..."
– Иоиль? – спросил Дзержинский.
– Именно... Сам народ во всем виноват, проклят от бога, варягов прогнал по чванливой дурости, царям-ублюдкам руку сосал, умывал слезами, голодал, а хоругви носил, и мы же, те, кто хочет приучить людишек к делу, оказываемся во всем виноватыми, а?!
– Ясно, – согласился Джон Иванович и продолжил, путая русские слова с английскими: – Это угодно хистори, с этим ничего не сделаешь. У вас, в Рашиа, каждый следующий против предыдущего: Кэтрин зе Грейт была против Питера, Анна Ивановна против Кэтрин, Пол Первый, внук, против Питера и Кэтрин, Александр против Пола, обещал все сделать, как раньше, как при грандмазер, а повел свое, начал делать "бритиш стайл", английский стиль, Николай зе Фёст против английский стиль, он за стиль богдыхан, побольше вешат, поменьше говорить! Александр Второй против Николая – дал реформа в стиле "амэрикэн", возвратил из ссылки декабрьских революшиониерс, его взорвали, Александр Третий все отменил, что сделал Второй, теперь Николай Второй выделил вам то, что отобрал его папа...
– Во какого образованного американца держу, – деревянно рассмеялся Николаев. – У них про это только два профессора на всю Америку знают, а в Россию приехал – сразу думать научился!
– Нам нужен иксчейндж, обмен, – согласился Джон Иванович. – Мы у вас учимся думать, а вы у нас – работать... Мы тупая нация, мы боимся размышлять, чтобы не нарушить то, что ви хэв, что имеем.
– Поди на него обижайся, – сказал Николаев, оборотившись к Дзержинскому. Если б своих выставлял, а то всем вдовам по серьгам, не чванится... Да, тупые-то вы тупые, но ваши б фермеры не стали, как наши, помещичьи усадьбы жечь.
– Стали бы, – убежденно возразил Дзержинский.
– Оттого, что национальный характер у нас такой – что не так, сразу кровь пускать и дом палить?
– Нет. Дело не в национальном характере, а в социальных условиях. Что могло помочь крестьянину в его варварской, немыслимой нужде? Образование. А что для этого сделано царем? На сто человек десять грамотных, как же можно урожай собрать, если о б ы ч а й правит мужиком, а не наука?! А инициатива? Ведь деревня отдана исправникам, старостам, стражникам, становым! На каждого мужика сорок тысяч пиявок, право слово! Кредит? Черта с два! Кулак правит на селе, дает ссуду под такой процент, что и Шейлоку не снился! А сколько у мужика земли? Десятина? Две? Треть у царя, остальное у помещика, а он арендную плату взвинтил до того, что земля стоит пустая, а крестьянину, голодному, босому, это видеть невмоготу! Он миром просил у помещика – тот ему отказал, под свист пуль отказал. Вот и начали жечь! И не с тупого и слепого зла, нет, Кирилл Прокопьевич! Нам известно, что в мужицких комитетах стали говорить: "Коли не пожжем усадьбы, дадим кров казакам да солдатам, а так они придут, а жить под открытым небом, а под открытым небом долго не протянешь".
– Но сколько денег зазря пропадет?! Сколько добра, Феликс Эдмундович! Усадьбы – это ведь с р е д с т в а!
– А мужик отвечает: "Ноне стена на стену встала, кто повалит, тот и победитель, и грошей считать нечего! Коли мы победим – таких апосля хоромов настроим, какие барам не снились, и не для их эти хоромы будут, а для наших детей!" Попробуйте возразите! Отправляйтесь в бунтующие уезды – искать далеко не надо, в Псков поезжайте, в Новгород, в Курск, в Эстляндию, в Люблин постарайтесь с мужиком найти общий язык, обратитесь к нему со своей программой! Я посмотрю, что из этого станется!
– А вы сможете? – хмуро спросил Николаев. – Вы с ними поладите?
– Поладим. Потому что мы требуем справедливого, Кирилл Прокопьевич!
– То есть?
– Равенство, отмена частной собственности на средства производства, национализация.
– А кто мне тогда шпалы будет поставлять?! У меня и так все сроки срываются, оттого что не могу шпал дождаться, казенных начальников тьма, а отвечать некому. А коли национализируете все? Тогда уж и вовсе никто не ответит. "Наше" – значит ничье, Феликс Эдмундович.
– Ну, а коли "наше" – сиречь государственное?
– Да разве можно на нашей хляби построить государство, коим управляет сообщество думающих?! Разве без кнута можно в России? Разве добром да уговором нашего брата прошибешь? Согласен, во тьме живем. Согласен, живем плохо, но в сказки ваши Марксовы не верю.
– Хи из прагматик, – вставил Джон Иванович. – Верит только тому, что есть...
– Вы что больше всего на свете любите, Кирилл Прокопьевич?
– Водку, – усмехнулся тот.
– Больше всего на свете вы любите строить свои железные дороги, Кирилл Прокопьевич. Но чтобы их строить, вам приходится хитрить, устраивать банкеты, выпрашивать кредиты, льстить одним, подмасливать других – разве нет? Лишь демократическая республика позволит вам творить по-настоящему.
– Джон Иванович, давай штоф, – сказал Николаев. – Дзержинский меня разбередил.
– Не надо, Кирилл Прокопьевич, вам еще со мной придется помучиться...
– Я уж намучился... Свободы вам мало, бюджет для народа плохой, царь мне конкурент... Прав Джон Иванович, прав: дайте хоть на том закрепиться, что с такой кровью получили. Разве можно из деспотии да в республику? На Западе вон сколько лет к свободе готовились!
– Неверно. Или есть свобода, или нет ее вовсе, – мы на этой точке зрения стоим.
– Это Ленин говорит.
– Правильно говорит Ленин.
– Утопии он проповедует. Я работать хочу, а мне руки вяжут! Я надеюсь, понимаете, Феликс Эдмундович, я истинно, верующе надеюсь! Не забирайте моей веры, не надо, не отдам. Вы затвердили себе: "Нет свободы, нет прав, нет гарантий". Не надо бы так, Феликс Эдмундович. Вспомните, как мы первый раз встретились, вспомните! Вы ведь тогда бесправным были, и мне это о-очень не нравилось, нечестно это было и низко: бомб у человека нет, револьвера тоже пошто за книжку Маркса сажать в острог?! Но сейчас... Спокойно разъезжаете, не таитесь, как равный с равными живете...
Дзержинский поднялся, отошел к окну, поманил Николаева.
– Это кто? – спросил он, когда Николаев стал рядом. – В сереньких пальто? Инженеры? Артисты балета? Филеры это! Они за кем следят? За вами? Или за Джоном Ивановичем? Они за мной следят, Кирилл Прокопьевич, они меня на вокзале ждали, а вы меня от ареста спасли – во второй уже раз. И в третий должны будете. Как, вывезете меня из свободного, демократического Петербурга в Финляндию, а? Или не станете? 34
Есин оказался человеком невероятно резким в движениях, маленького роста, очень худой, без шеи, с огромной головою, посаженной прямо на туловище. Одет он был кричаще: длинный пиджак с покатыми, по последней моде, плечами никакой ваты; брюки до того заужены, что прямо хоть на сцену, танцевать лебедя; ботинки остроносы, непонятно, как в мысках умещались пальцы, чисто китайскую ступню надобно иметь. Большой человек не человек; настоящий, то есть живучий, должен быть маленьким, ему тогда на свете у м е с т и т ь с я легче, меньше неудобств окружающим доставит.
...Глазов не перебивал Есина, слушал молча, доброжелательно, полагая, что сможет до конца понять собеседника: когда человек с о л и р у е т, он куда как больше выявляется, он ведь сам за собою идет, без чьей-либо помощи; не зря ведь актеры так монолог чтут – выигрышен.
– Слежу, что у вас творится, – жарко продолжал Есин, – и только диву даюсь: шумим, братцы, шумим! А как стояла единая и неделимая, так и будет стоять – никуда не сдвинется, ничто не изменится! Я вам скажу, господин Трумэн, вот что: и американский фермер и русский мужик одним миром мазаны, дурни дурнями, только американского отдрессировали, а наш еще темный – вот и вся разница. И тому и другому власть нужна, как же без власти?! Я бы на месте царя подкинул земли мужику, помог плугами, пусть банк пошевелится, вы необоротистые, а потом надобно поднять размер подати и понизить закупочные цены на хлеб – чистый бизнес. Почему вы медлите? Чего царь боится, солдаты ведь ему принимают присягу?!
"Ишь как распоряжается, – подумал Глазов, – тебя бы, канашечку, в Россию вернуть, ты бы там посоветовал!"
– Я вам скажу, господин Груман, что в моем бизнесе – он, конечно, не очень велик, я стою сорок тысяч долларов, – все решает сметка: смикитил вовремя, кредит взял, деньги вложил – и считай прибыль!
– Бизнес ваш каков? – спросил Глазов.
– Разный...
– Это как понять?
– Купля-продажа, – по-прежнему уклоняясь, ответил Есин, словно бы смущался чего-то. – Посредничаю, господин Груман, посредничаю. Там без этого нельзя. Русские всегда хотят сами – во всем и везде сами, и чтоб другому перепоручить – никогда!
– Давно изволили уехать из России?
– С родителями. Отец старовер, молиться дома не позволяли – уехал, ну и мы за ним... Я за русскими газетами слежу, всю торгово-рекламную полосу прочитываю, жду, когда и у вас посредники появятся, мы бы тогда огромные дела начали проворачивать, огромные!
– Для огромных дел миллионы потребны, а у вас всего сорок тысяч...
– Ну и что? Консул поможет, у нас все на взаимности – он мне, я – ему, и потом, деньги тут не столь важны, господин Груман, тут главное убаюкать партнера. Я вот раз взялся продать партию галстуков, надо мной все смеялись, говорили, что погорю, фасон из моды вышел, а я на этом деле заколотил десять тысяч! Мысль моя работала так: поскольку галстуки прошлогодние и уступили их мне поэтому за две тысячи, а не за семь, в Нью-Йорке их никому не всучишь: пуэрториканцы носят платочки из шелка, евреи – шарфы, негры ничего не носят, американцы начали следить за парижской модой. Но ведь есть провинция! Как к ней подкрасться? Очень просто. В обычную провинцию – а это почти вся Америка надо пролезть через самую захолустную провинцию. А какая самая захолустная провинция? Прерии. Кто там живет? Пастухи. Их называют ковбои. А что любят ковбои? Песни и женщин. Я нанял двух бездомных артисточек, одну русскую, тоже раскольница, отец с матерью привезли. Она за двадцать лет даже "хлеб" по-английски говорить не научилась, дикая девка, а вторую – француженку, стыда – ни на грош, заключил с ними контракт на гастроли, напечатал афиши про двух "звезд", американцы только "звезд" любят, это у них так великих артистов называют, и повез их в прерии; песни о галстуке, который носят русские мужики и французские буржуа, мои девки сочинили бесплатно. В Америке, доложу я вам, клюют на заграничное так же, как в России. На свое плевать им и забыть, дикие люди, я ж говорю! Так вот, вывез я моих девок в прерии, дал три концерта в Денвере, два в Далласе, есть у них такой вшивый городишко, они нефть ищут, нет там никакой нефти, бум это у них называется, когда ищут не то, что нужно, и не там, где есть, и продал партию галстуков, и заключил контракт на такой же фасон, вернулся в Нью-Йорк, продал исключительное право той же фирме, у которой брал рухлядь, и положил деньги в банк! Я просто не понимаю, почему русские купцы не могут пойти к царю и объяснить ему, что пора дать свободу торговли! Это же выгодно!
– Объяснят еще, – скрипуче согласился Глазов, – всему свое время.
– Нет свое время, – разгорячившись, Есин впервые за все время начал говорить с акцентом. – Как это говорят у вас: "Каждому овощу свое время"? Правильно говорят. В России все правильно говорят, только неверно делают!
– Экий вы колючий, господин Есин... Простите, запамятовал ваше имя-отчество, – сказал Глазов, хотя прекрасно знал, что Есина зовут Митрофан Кондратьевич и что отец его не был старовером, а просто-напросто бежал из-под суда после растраты на Прохоровской мануфактуре.
– Там меня зовут Майкл, – ответил Есин, – а вообще-то я Михаил Константинович...
– Михаил Константинович, я бы хотел прервать вас, рассказать, чего мы ждем от вашей работы...
– Фирма Есина сделает любую работу, господин Груман, особенно если надо кого перехитрить! Может, спустимся выпьем кофе, скоро время ланча?
– Какое время? – не понял Глазов.
– Там говорят "ланч-тайм", обеденное время: жрут по минутам, одно и то же, как племенные быки...
– В ресторане неудобно говорить... У немцев тоже, знаете ли, "мальцайт", сейчас не протолкаешься.
(Глазов понял, что своим "мальцайтом" он хотел взять реванш за "ланч-тайм", и ему сделалось стыдно этого: перед кем хвастал?)
– Ну что, тогда договорим здесь. Пожалуйста, слушаю вас.
– Мы ждем от вас подробного отчета о том, как будет проходить съезд социал-демократов в Стокгольме, Михаил Константинович.
– Кого? Социал-демократов? Которые убили Плеве?
– Плеве убили социалисты-революционеры.
– Да? Странно, там говорили, что социалисты...
– "Там" – это Америка? – поинтересовался Глазов.
– Да.
– Вы странно называете свою новую родину – "там", "они", "у них".
– А это там... у ни... – Есин рассмеялся, – это у нас принято; за океаном чистых нет, со всего мира по нитке, не сплотились еще, для американца штат дороже страны, а еще пуще – свой город. Они никогда не скажут "в Америке", они всегда "ин зис кантри" говорят, "в этой стране".
– Занятно... Так вот, Михал Константиныч, у нас в России, – выделил Глазов, – заинтересованы в том, чтобы вы своим острым, деловым умом вытащили главное – суть разногласий между двумя фракциями: Ленина и Плеханова, помогли нам понять, какие люди как себя ведут, с кем бы, например, вы смогли поговорить по своей методе: убаюкать, расположить, убедить...
– Кого завербовать можно? – уточнил Есин. – Вы это имеете в виду?
– Мы называем – "склонить к сотрудничеству". Но я не это имею в виду. Я хочу получить ваши рекомендации иного рода: с кем из участников съезда можно разумно говорить, кто, по-вашему, поддается логике, разуму, кто ближе по своей духовной структуре к деловому человеку...
– Это я сделаю, – пообещал Есин, – я чувствую человека сразу же, только мне его сначала надо расшевелить, дать выговориться, обсмотреть...
"Мои мысли повторяет, – подумал Глазов, – неужели похожи, а? Вот ужас-то".
– Ну и прекрасно, Михал Константиныч, коли так... В Стокгольме поселитесь в отеле "Рюлберг", я там от вашего имени номерок забронировал, там, кстати, русские будут жить, делегаты, Алексинский, Свердлов, возможно, Саблина и Джугашвили. Видимо, там же поселятся господа из Польши: Ганецкий и Варшавский...
– С поляками мне труднее, я их языка не знаю, только "матка боска"...
– Ничего, они говорят по-русски, а господин Варшавский знает к тому же английский. Я вас там по телефону разыщу и скажу свой адрес, только вы не записывайте его, ладно? И когда ко мне пойдете – оборотитесь, не топает ли кто за вами. Само собою, все паши счета будут мною оплачены незамедлительно.
Ероховский встретил Глазова оглушающе громким вопросом, не прикрыв даже дверь номера, – расконспирировал, идиот, махом:
– Вы из столичной охраны или варшавянин, коего я не встречал ранее?
Глазов даже вспотел от ярости, втолкнул Ероховского в комнату, потом чуть отворил дверь, глянул в щелочку – нет ли кого в коридоре, покачал сокрушенно головой:
– Нельзя так, Леопольд Адамович, здесь могут жить люди, знающие русский. И потом – без пароля, первому пришедшему, разве можно?
– Я с похмелья, Андрей Андреевич, с похмелья...
– С похмелья, а ведь Андрея Андреевича запомнили. Вы уж, ради бога, осторожнее себя впредь ведите.
– Слушаюсь, вашродь!
– Вы что эдакий колючий?
– Погодите, колючим меня еще увидите, я сейчас добрый, как воск, я податливый сейчас, Андрей Андреевич. Водки не желаете? Дрянная у немцев водка. Я весь этот "Кайзерхоф" обошел, пока-то отыскал бутылку, – мензурками наливают немцы, сущая фармакология, большая аптека, а не страна. Закусываете? Или холодной водою?
– Я не пью.
– Вовсе?
– Совершенно. Вообще-то на праздники могу, на масленицу или там на светлое Христово воскресение, но сейчас... Работы впереди у нас много, да и пост держу – грех. Игорь Васильевич предупредил, в чем будет заключаться ваша задача?
– В общих чертах, Андрей Андреевич, в общих чертах. Вы не взыщите, я пропущу рюмашку, а?
– Но чтоб последняя, ладно? А то вам завтра вечером уезжать на север, там встреч у вас будет много, интересных встреч, обидно, ежели вы в хмельном состоянии будете пребывать, – главное пропустите, а вам из этого главного впоследствии многое можно будет извлечь для своих реприз.
– Я реприз не пишу. Их пишут Элькин и Коромыслов, Андрей Андреевич. Ваше здоровье...
– И вам пусть будет хорошо... Простите, коли я не так что сказал.
– Дело в том, что репризы пишут те, кто не умеет работать за столом, их пишут летунчики, они на салфетках сочиняют. Я пишу пантомимы с куплетами, это совершенно другое, я меньше пяти копеек за строку не беру. Вы вот, к примеру, в каком чине?
– Да с чего вы взяли, будто я из охраны? – Глазов чувствовал себя с Ероховским неуверенно, раньше ему с такого рода агентами работать не приходилось, поэтому соврал, хотя врать не любил, сам ложь замечал, и другие, считал, не обделены таким же умением. – Я просто-напросто друг Игоря Васильевича и служу по ведомству иностранных дел.
– О, как интересно, – с наигранной веселостью откликнулся Ероховский, – а то "работа", "репризы". С "большого художника" надо было начинать... Я спрашивал вас про звание не зря, я хотел объяснить вам все предметно, я предметист, я верю ощущению во плоти, Андрей Андреевич. Ежели вы надворный советник, "ваше благородие", то Игорь Васильевич, ваш добрый знакомый из охраны, уже "высокоблагородие". Так и я по сравнению с Элькиным и Коромысловым. Впрочем, много я им дал, какие они "благородия"? Обыватели, горожане. Ладно, пес с ними... Съезд уже начался?
– Какой съезд? – спросил Глазов.
– Тьфу, черт! Он же мне запретил вам об этом говорить! – вздохнул Ероховский. – Он у нас такой конспиратор, такой осторожный... Вы его не наказывайте, ладно? Хотя вы же из иностранного департамента, он вам не подчинен...
– Леопольд Адамович, давайте-ка и я с вами согрешу, махну рюмашечку. Разливайте! А то у нас разговор как у слепца с глухонемым.
– Слава господу! – сразу же оживился Ероховский. – Я не умею говорить с трезвым коллегой, я ощущаю массу преимуществ, и мне обидно за свое высокое одиночество.
Чокнулись, выпили, долго дышали, мочили губы водой из-под крана.
– Напрасно водку ругали, вполне пристойное питье, – сказал Глазов.
– Чувствую затхлость. Не верю, чтоб немец желтый хлеб пустил на спирт. Немец со всего норовит урвать выгоду. Каким-то металлом отдает, не находите?
– Не почувствовал.
– А вы повторите.
– Да мне еще работать сегодня...
– И мне багаж паковать... Нуте-с, вашу рюмку.
Глазов рассчитал, что Ероховский после тяжелой пьянки скорее захмелеет, начнет разговор, станет в ы к л а д ы в а т ь с я. Он не ошибся.
– Все время бегу, Андрей Андреевич, бегу с закрытыми глазами, – жарко заговорил Ероховский, когда выпили по третьей. – Норовлю ухватить то, что является мне, вроде бы и ухватил, сажусь за стол, работаю сутки, потом читаю пантомима! А я норовил пиесу! Как Элькин с Коромысловым мечтали стать Ероховским, так и Ероховский метит в Мицкевичи. Но Элькин с Коромысловым – это я, это псевдоним, это сокрытие стыда, а Ероховский – очевидность, троньте меня, троньте! Ну? Я? Я. А не Мицкевич.
"Будет хорош с Воровским, – подумал Глазов. – Тот пишет о литературе, только б удержать этого Коромыслова-Мицкевича от рюмки, тогда выйдет толк".
– Это сознание правды, – продолжал Ероховский, – опрокидывает меня, превращает в парию. Ин вино веритас. А когда все выпил, не правда на донышке открывается, а череп, но с большими черными глазами и с верхней, не сгнившей еще губой – иначе усмешку не поймешь, череп ведь смеяться не может!
"Как мне осадить его? – продолжал думать Глазов трезво. – Мне бы только его осадить, тогда ему цены не будет".
– Строка должна являться, она как прекрасная дама, а вместо строк тебя окружают решетки, а за ними – рожи, красные, распаренные, луком пахнут! Я ищу себе отключений, я норовлю выскочить из нашей обыденности, я люблю риск, я хочу ощущать свою нужность, Андрей Андреевич... Вы меня понимаете?
– Я вас понимаю отменно, Леопольд Адамович. Я понимаю вас так хорошо потому, что наш с вами общий друг много говорил о вас. Он говорил, что вы очень доверчивы и любите риск. Поэтому-то я больше пить вам не дам...
– А я вас выставлю за дверь.
Глазов покачал головой:
– Не выставите. Ни в коем случае. Не выставите, оттого что нашего с вами общего друга вчера убили. И убили его те люди, к которым вы едете в Стокгольм, Леопольд Адамович.
Ероховский отвалился на спинку кресла, глаза его округлились, стали прозрачными, будто провели мягкой тряпкой и стерли пыль.
– Вы с ума сошли, – прошептал он.
– Я в своем уме. А бороться пьяным нельзя. Так что ложитесь спать, я к вам приду вечером и поведу вас откушать айсбайн, от него трезвеешь.
То, что Попов уже казнен, Глазов еще не знал: он получил сообщение из Петербурга, что агент "Прыщик" прислал ему личную шифрованную телеграмму о приговоре и о том, что сегодня все будет кончено. Глазов понял: Попов обречен, поэтому "Прыщик" тому ничего не сообщил, а сразу ринулся в департамент. Он понимал, этот ловкий "Прыщик", что, сообщи он Попову, сразу будет раскрыт т о в а р и щ а м и; он предложил сыграть Глазову. Что ж, Глазов сыграет. Ему ведь на руку казнь Попова. Он послал д е л о в у ю в департамент. Он не поставит "срочно", это ж само собой разумеется, этого дурак не поймет, а дурак в шифровальном отделе (пусть даже умный) все равно букве следует. Нет пометки "срочно"? Нет. Раз не поступало указания, чего ж начальство поправлять? У начальства на все свои резоны. Пока из департамента отправят в охрану, пока оттуда перешлют в Варшаву – часы-то идут... А успеют – молодцы, не посрамили чести мундира, спасли коллегу! И спас не кто-нибудь, а он, Глазов, ястребиный глаз! И этому дрыгачу, Ероховскому-Коромыслову, объяснить куда как просто: "Да, погиб, коли б не я вовремя подоспел. Его спас и вас спасаю: и ни-ни мне, назад отрабатывать поздно, в один миг т о в а р и щ а м отдам, ославлю на весь свет, как п о д м е т к у".
Вернувшись к себе в номер, Глазов принял касторки, чтобы к вечеру быть как стеклышко: надо было садиться за телеграммы, глядишь, что новенькое подойдет, ему новенькое перед Стокгольмом необходимо. А на доверчивом и добром Попове, коли его укокошат, можно поразительное дело оформить: "Либерал, гуманист, воробья не обидит, пал от рук революционных садистов, именующих себя социал-демократами, кто станет разбираться – русские ли, польские, одно слово, анархисты, террором действуют, руки в крови, тюрьма по ним тоскует, выдать их следует Петербургу – скопом, как кровавых и дерзких преступников, скрывающихся в Стокгольме от справедливого суда". 35
"Имею честь всеподданнейше просить Ваше Императорское Величество, для пользы дела, освободить меня от обязанностей председателя Совета Министров до открытия Государственной думы, когда я кончу дело о займе. Позволю себе всеподданнейше формулировать основания, которые побуждают меня верноподданнически поддерживать мою вышеизложенную просьбу.
1. Я чувствую себя от всеобщей травли разбитым и настолько нервным, что я не буду в состоянии сохранять то хладнокровие, которое потребно в положении председателя Совета Министров, в особенности при новых условиях.
2. Отдавая должную справедливость твердости и энергии министра внутренних дел, я тем не менее, как Вашему Императорскому Величеству известно, находил несоответственным его образ действия и действия некоторых местных администраторов, в особенности в последние два месяца, после того, когда фактическое проявление революции было подавлено. По моему мнению, этот прямолинейный образ действий раздражил большинство населения и способствовал выборам крайних элементов в Думу как протест против политики правительства.
3. Появление мое в Думе вместе с П. Н. Дурново поставит меня и его в трудное положение. Я должен буду отмалчиваться по таким действиям правительства, которые совершались без моего ведома или вопреки моему мнению, так как я никакой исполнительной властью не обладал. Министр же внутренних дел, вероятно, будет стеснен в моем присутствии давать объяснения, которые я могу не разделять.
4. По некоторым важным вопросам государственной жизни, как, например: крестьянскому, еврейскому, вероисповедному и некоторым другим, ни в Совете Министров, ни во влиятельных сферах нет единства. Вообще я неспособен защищать такие идеи, которые не соответствуют моему убеждению, а потому я не могу разделять взгляды крайних консерваторов, ставшие в последнее время политическим кредо министра внутренних дел.