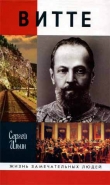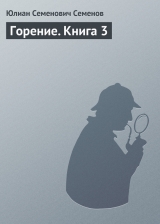
Текст книги "Горение (полностью)"
Автор книги: Юлиан Семенов
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 99 страниц)
Убийство Егором Сазоновым ненавистного Зубатову министра внутренних дел Плеве оказалось той счастливой, долгожданной каплей, которая переполняла чашу терпения.
Мысль его рвалась наружу, ему надобно было изложить все – самому же себе, чтобы потом, отстраненно, как в былые времена, когда властен был черкать документы подчиненных, обсматривать со всех сторон замысел, расчленять на десяток этапов, раздавать всю эту поэтапность столоначальникам, чтобы все делопроизводства Департамента готовили, рассчитывали и выверяли комбинацию каждый свою область, неизвестную другим коллегам, а потом уж свести все воедино, надписать красным карандашом – "разрешаю к исполнению" и начать утомительное, но, одновременно сладостное выжидание первых результатов.
Понял – в голове не удержать, слишком многотруден и хитер замысел, а столоначальников под рукой нет, поручить р а с ч л е н е н и е – некому. Без бумажки – таракашка, а с бумагой – человек – надо писать.
Писал по ночам, не зажигая света – благо, полнолуние было, строчки одна на другую не налазили. Читал написанное ранним утром, когда приносили газеты – он их пятнадцать штук выписывал, помимо журналов "Мир Божий", "Современный мир" и "Мир приключений". Читал вроде бы газету, а сам анализировал написанное на листочках. План получился литой, л о в к и й.
"1. Ситуация внутриполитическая такова, что империя идет к кризису.
2. Выявителем глубинных кризисных явлений в обществе служит с.-демократическая партия.
3. Выявителем стихийного взрыва являются с.-революционеры.
4. Нынешнее руководство Департамента полиции фиксирует события через серьезную осведомительную сеть, однако никаких контрмер не предпринимает; революционное движение не управляемо, после того особенно, как пришлось уйти мне.
5. Необходимо подтолкнуть события в том направлении, чтобы появился ш у м, который будет услышан Троном, несмотря на маньчжурскую канонаду.
6. Подтолкнуть надо оттуда, где силен был я, то есть из "обществ ф.-заводских рабочих". Требования – экономического порядка, обращенные к Государю; никакой революционности, наоборот, такого рода верноподданническое обращение рабочего люда положит конец смутьянам с.-демократам, с.-революционерам, польским бунтовщикам и прочей анархистской сволочи.
7. Показ силы ф.-заводского экономического движения, его преданности Трону заставит Власть начать более активную работу с "союзом ф.-заводских рабочих".
8. Провести работу с о. Гапоном в том направлении, чтобы он испросил возвращения к руководству движения того человека, который это движение начал, то есть меня.
9. Продумать вопрос о визите к Е. Превосходительству Трепову с тем, чтобы он взял на себя объяснение с Государем по поводу недальновидной политики, которую проводил покойный В. К. фон Плеве, сделав упор на то, что человек он был нерусский, а посему не понимал основополагающего принципа п о с т е п е н н о с т и.
10. Кандидатом на пост Министра внутренних дел не называть никого, предоставив сей вопрос на благоусмотрение Государя, чтобы не нарушить строй размышлений лиц, приближенных к Двору".
Планом Зубатов остался доволен; строчки залегли в память накрепко; привычка, как говорят, вторая натура; полиция верит слову написанному, устное – забывается, не документ это, интонаций в нем много, определенности мало.
Через неделю, о б к а т а в в голове тонкости, Зубатов написал письмо в Департамент полиции, с просьбой разрешить ему приехать в Санкт-Петербург для объяснений по поводу "возможности жить летом в Ялте по причине слабых легких". Разрешение пришло унизительное: дозволено было посетить северную столицу сроком на одни сутки. Озлился до холода в пальцах; успокоил себя: "Ладно, больше-то и не надо. Одно только надо – оторваться от филеров, но не нарочно, не умелостью, а придурясь, с извинением вроде бы". Это он умел – еще с тех времен, пока не был ренегатом, предателем, говоря проще; "Народная воля" законы конспирации чтила и учила им своих подвижников весьма тщательно.
Оторвался он от филерской бригады, которая "пасла" его в поезде, на Московском вокзале, оторвался легко, бросив пустой, потрепанный чемодан извозчику, а после на людном углу с извозчика соскочив. Объяснение было точным: "чемодан сказал везти в "Асторию", а сам решил пройтись. Странно, что особы, охраняющие мою жизнь, замешкались, но не окликать же их, право!"
Двух часов "прогулки" хватило на то, чтобы повидать отца Георгия Гапона в церквушке за ним не следили; за ним только дома следили и в "обществе фабрично-заводских рабочих". Считали, что социалисты в храм не придут богохульники, а Гапон этого не любит.
Разговор с Гапоном был хороший, сердечный, хоть и грустный – помянули старое, посетовали на день сегодняшний и обговорили все на будущее: надо было начинать г р о м к о помогать Государю, поднимать народ под хоругви, идти на поклон к Заступнику, открыть ему глаза на грехи нерусских чиновников-супостатов, от которых и есть все зло по земле. Детали обсудили особенно тщательно, но л е г к о, не называя своими именами то, что задумали, – понимали друг друга с полуслова, с бессловесного взгляда понимали.
В Департаменте, куда явился Зубатов после встречи с Гапоном, получил ответ: проводить лето в Ялте "не рекомендовали"; причислен был, таким образом, к студентам, социалистам, чахоточным и евреям – тем запрещено было появляться в городе, через который царская семья следовала в Ливадию. Александр Иванович Куприн пытался было помочь бедолагам, написал письмо государю, а через два дня Иван Антонович Думбадзе, градоначальник, генерал-майор, рубаха-парень, анекдотчик и жуир, взмыленно мотался по Ялте, выспрашивая городовых, где Куприн г у л я е т. Нашел Александра Ивановича у порта, в кабачке Попандопулоса, отдал почтительно конверт с царским гербом. Куприн пьяно обрадовался, шампанского приказал дюжину, бахвалиться начал, конверт вскрыл и прочел вслух – поспешил спьяну-то: "Выпивая – закусывайте. Николай II".
...Ладно, Зубатов – не Куприн, он шуметь не будет, он тихо в Москву уедет, он теперь ждать будет. Он дождется – позовут. Униженно и тишайше. Тогда вернется, на белом коне вернется. 5
Расшифровав письмо от Розы, "доктора Любек", Дзержинский спустился в пустую залу типографии, запер дверь и, вернувшись в кабинетик, прочитал письмо наново:
"Твое письмо о создании Военно-Революционной организации во главе со "Штыком" очень нас порадовало: великолепный образец интернациональной борьбы поляков и русских против царизма.
Пожалуйста, информируй меня подробнее об этой работе – она в высшей мере перспективна. Сейчас я пишу " статью о том, как развиваются события дома. Если бы ты выкроил время, дорогой Юзеф, сел за стол (когда мы победим, будет издан специальный декрет, освобождающий тебя от организационной работы с предписанием отдаться литературе) и составил свой конспект того, что, с твоей точки зрения, наиболее важно из происходящего дома для читателя неподготовленного, не знающего ситуации в Польше, что, по-твоему, следует выделить и проанализировать – была бы тебе бесконечно благодарна. У меня гора матерьялов, но ты знаешь, как я верю твоему знанию, чутью и художнической обескоженности. Мне бы хотелось свести нашу с тобой точку зрения воедино.
Жму руку, Роза".
Ответ Дзержинский написал сразу же:
"Дорогой товарищ! Спасибо за обещание освободить меня от текучки. Добрыми намерениями вымощена дорога в ад – я тебе не верю. Со "Штыком" (запасная кличка "Офицер") я постоянно встречаюсь – очень славный и открытый человек: знает по-настоящему толк в деле.
По поводу твоей просьбы. Я, подобно тебе, веду хронологическую таблицу событий, которые нельзя позволить забыть потомкам. Не убежден, что мой конспект может открыть тебе что-то новое: твои статьи в нашей печати не только фиксируют сегодняшние события, но – подчас – поразительно точно угадывают события завтрашние. Тем не менее, готов выполнить твою просьбу. Начну отсчет с февраля 1904, с начала русско-японской кампании. Через полторы недели после начала войны мы, как помнишь, провели огромную рабочую демонстрацию на Маршалковской. Полиция, раненые, арестованные. (Ты славно написала об этом.) 14 марта – новая массовая демонстрация рабочих, проводили вместе с рядовыми пэпээсами. В марте устроило демонстрацию движение "за реальную политику" (не тебе говорить – по форме оппозиционное, по существу сволочное, мерзкое, буржуазно-соглашательское), однако факт есть факт, а нам факты замалчивать негоже. 27 апреля – защита типографии на Чистой (спасибо за листовку о Марцыне Каспшаке), на следующий день стачка каменщиков, все строительные работы в Варшаве замерли; через три дня громадные первомайские демонстрации на Новом Свете, аллеях Уяздовских, на Банковой площади. (Хорошо бы расширить твое выступление об этом – в свете нового времени.) Через два дня пэпээсовская студенческая молодежь, правого уклона, смешавшись с национально-демократической, вышла с требованием провозглашения конституции 1793 года (Что может быть страшнее националистической слепоты?!). Июнь-июль демонстрации рабочих, сильное антимобилизационное движение в рабочих кварталах. Семьи не намерены отдавать кормильцев в царскую армию, они не хотят получать похоронки из Маньчжурии. (Твоя прокламация об этом издана невероятным тиражом – 25000!!!) Через два дня после того, как Егор Сазонов убил министра фон Плеве, на Маршалковскую вышли тысячи наших и ППС с пением "Варшавянки". В августе – повсеместные демонстрации против военно-полевого суда над незабвенным Марцыном Каспшаком, стычки с полицией, всеобщая стачка строителей. (Я очень жду, что ты напишешь большую статью о Марцыне.) В сентябре демонстрации, организованные нами и левыми пэпээсами против еврейских погромов; огромные процессии во время суда над Каспшаком. В ноябре наши либералы вручили Дурново "записку" с пожеланием либеральных реформ; через день – вооруженная демонстрация наших и ППС. Потом – известная тебе история с провокацией правых папуасов, которые не могли спокойно относиться к контактам между рядовыми ППС и нами: черный день их демонстрации 13 ноября, трупы на улицах, траур в сердце. В декабре – всеобщая студенческая демонстрация в защиту Егора Сазонова; вылилось это шествие в массовое выступление, которое мы поддержали. Еще раз спасибо за твою прокламацию об этом – Сазонов честный человек, жаль, что такие погибают по милости эсеровских вождей. В этом году, в 1905, сразу после молебнов и елок повсюду расклеен царский рескрипт, запрещающий в Варшаве и Лодзи любые собрания, демонстрации, митинги. Сейчас готовим стачки и митинги – несмотря на угрозы. Я намеренно выделил Варшаву: столица – зеркало, в ней все видно. Об остальном допишу оттуда – завтра снова отправляюсь в Край, не забывай газету, пиши и заставляй писать товарищей постоянно.
Жму руку, твой Юзеф".
Потом Дзержинский цепко и споро просмотрел остальную корреспонденцию, сделал вырезки; он вел досье каждый день, не доверяя эту работу – пока бывал в Кракове – никому; сел за материал в номер; обхватив лоб узкой, сильной ладонью левой руки, замер над листом бумаги; несколько раз заглянул в русско-польский словарь – надо было перевести Ленина, его статья только что пришла из Швейцарии.
Закончив перевод, позвал пана Норовского: старик любил слушать, как Юзеф читает – будто декламирует поэзию в новой, модной в Италии манере футуристов-анархистов – рублено, сжато, резко.
– "Падение Порт-Артура подводит один из величайших исторических итогов тем преступлениям царизма, которые начали обнаруживаться с самого начала войны... Генералы и полководцы оказались бездарностями и ничтожествами... Офицерство оказалось необразованным, неразвитым... лишенным тесной связи с солдатами... Без инициативного, сознательного солдата и матроса невозможен успех в современной войне, – читал Дзержинский. – ...Царизм оказался помехой современной организации военного дела...
Связь между военной организацией страны и всем ее экономическим и культурным строем никогда еще не была столь теской, как в настоящее время...
Русский народ выиграл от поражения самодержавия. Капитуляция Порт-Артура есть пролог капитуляции царизма... Недаром так тревожится самая спокойная и трезвенная европейская буржуазия, которая всей душой сочувствовала бы либеральным уступкам русского самодержавия, но которая пуще огня боится русской революции..."
Дзержинский оторвался от переведенного им текста, улыбнулся Норовскому, внимательно слушавшему его, и продолжал:
– "Прочно укоренилось мнение, – пишет один из трезвенных органов немецкой буржуазии, – что взрыв революции в России вещь совершенно невозможная... Ссылаются на неподвижность русского крестьянства, на его веру в царя, зависимость от духовенства. Говорят, что крайние элементы среди недовольных представлены лишь маленькой горсткой людей, которые могут устроить путчи... и террористические покушения, но никак не вызвать общее восстание. Широкой массе недовольных, говорят нам, не хватает организации, оружия, а главное решимости рисковать собой. Русский же интеллигент настроен обыкновенно революционно лишь до тридцати примерно лет, а затем он прекрасно устраивается в уютном гнездышке казенного местечка..." Но теперь, продолжает газета, целый ряд признаков свидетельствует о крупной перемене. "Носителями революционного движения в новейшей истории давно стали крупные города. А в России именно в городах идет брожение... А если последует революционный взрыв, то более чем
мнительно, чтобы с ним сладило самодержавие, ослабленное войной на Дальнем Востоке". Да. Самодержавие ослаблено. В революцию начинают верить самые неверующие. Всеобщая вера в революцию есть уже начало революции. О ее продолжении печется само правительство своей военной авантюрой. О поддержке и расширении серьезного революционного натиска позаботится русский пролетариат".
Дзержинский улыбнулся Норовскому:
– Этот номер "Червоного Штандара" я должен распространить в Варшаве сам. Думаю, скоро мы переберемся туда все и будем издавать нашу газету открыто. Пан Норовский, прошу нафабрить усы – вас будут встречать с песнями!
В тот же день, только поздно уже вечером, Дзержинский попрощался с товарищами, которые провели его к границе, остался один, прислушался: не схваченная еще льдом река шумела, – как тогда, в Сибири, – единым, литым, морозным, мощным шумом.
Дзержинский поставил баул с литературой на землю, сложил руки у рта ковшиком, ухнул выпью: охотник, он умел имитировать крик птиц, гусей наманивал, селезней. Из заиндевелых камышей бесшумно выехала лодка. Человек, стоявший на корме, был мал ростом, но длинным веслом управлял ловко – даже капли ледяной, дымной воды, казалось, стекали бесшумно, а ведь на границе каждый звук громок и страшен.
Дзержинский поставил баул на сиденье, мягко ступил на днище, заваленное сеном; тоненькое тело лодки качнуло; Дзержинский развел руки, чтобы сохранить равновесие. Замер. Прислушался. Все было тихо, только дышал он прерывисто и, как ему казалось, громко, до невозможного громко.
– Садись, Дзержинский, – шепнул контрабандист.
Дзержинский рывком обернулся: имени его не имел права знать никто, кроме членов Главного Правления партии.
Контрабандист отбросил капюшон с лица: на Дзержинского глядели круглые, неподвижные глаза "графа", Анджея Штопаньского. Мальчишка почти совсем не подрос, только лицо стало морщинистым – от ветра, видно; здесь зимние ветры продувные.
– Что, сменил профессию? – спросил Дзержинский и подивился своему шепоту он был свистящим; так в спектаклях, которые дети на Рождество Христово разыгрывали в Дзержинове, говорили злые волшебники; Феликс всегда плакал, отказывался, хотел быть ангелом.
– Да. Банду разогнал – дармоеды, курвы, нелюди. Теперь революции служу: вашего брата через границу таскаю, дурю пограничников, сучьи их хари!
– Не смей ругаться.
– Тише ты!
– Прости...
– Прости, прости... Палить начнут, тогда узнаешь, как прощения просить.
– Как тебя зовут?
– Анджей. А тебя?
– Дзержинский.
– Дзержинский – имя-то есть?
– Ян.
– Не ври.
– Если ты служишь революции – забудь мою фамилию.
– Что же мне тебя, "господин революционер" называть?
– Называй Яном.
– Ты такой же "Ян", как я – "граф". Пригнись, от тебя луна тень дает.
Лодка ткнулась носом в шуршащие камыши. Анджей повернул весло – лодка стала.
– Сейчас у русских караул меняют, надо ждать.
– Память у тебя хорошая?
– Не жалуюсь...
– Вернешься на тот берег, поедешь в Краков. Найдешь улицу Сташицу, дом три. Спросишь товарища Мечислава. Или Йозефа. Скажешь, что от меня. Передашь, что я просил устроить тебя в рабочую школу на Ляшковской. Они знают. Жить будешь в моей комнате – кровать там есть.
– А жрать что буду?
– Тебя пристроят к работе.
– Нет, Ян. Меня жизнь обкатала. Не хочу перед мастером шапку ломать. Здесь – я себе хозяин, меня просят – не я.
– В переделки больше не попадал?
– Бог миловал.
– Попадешь – да еще с тем хвостом – на каторге погибнешь.
– А ты?
– Мне двадцать восемь, а не тысяча девятьсот четыре.
– Нет, Ян. Спасибо тебе. Здесь я – сам. Понимаешь? Я не верю людям. Особенно тем, которые дают работу. Пошли, теперь можно, они сменились.
– Анджей... Послушай. Людям надо верить. Это подчас трудно, но этому надо учиться. Без этого нельзя. Тебя ударила жизнь, но если б не было честных людей, мир бы кончился.
– Пошли, – повторил Анджей упрямо. – Мне переучиваться поздно. Ты сидел за рабочих, да? А я сел за сестру с братьями. Их люди сгубили, обыкновенные люди – никто руки не протянул. Пошли, время. 6
(а)
"В понедельник, 10 января, Петербург имел вид города, только что завоеванного неприятелем. По улицам постоянно проезжают патрули казаков. Там и здесь видны возбужденные группы рабочих. Вечером много улиц погружено в темноту. Электричества и газа нет. Аристократические дома охраняются группами дворников. Горящие газетные киоски бросают странное освещение на кучки народа...
Газет нет. Учебные заведения закрыты. Рабочие на массе частных собраний обсуждают события и меры сопротивления. Толпы сочувствующих, особенно студентов, осаждают больницы".
(б)
"Начинаются крестьянские восстания. Из различных губерний приходят известия о нападениях крестьян на помещичьи усадьбы, о конфискации крестьянами помещичьего хлеба, скота. Царское войско, наголову разбитое японцами в Маньчжурии, берет реванш над безоружным народом, предпринимая экспедиции против внутреннего врага – против деревенской бедноты. Городское рабочее движение приобретает нового союзника в революционном крестьянстве".
(в)
"Открытое письмо к социалистическим партиям России.
Кровавые январские дни в Петербурге и в остальной России поставили лицом к лицу угнетенный рабочий класс и самодержавный режим с кровопийцей-царем во главе. Великая русская революция началась... В сознании важности переживаемого исторического момента, при настоящем положении вещей, будучи, прежде всего, революционером и человеком дела, я призываю все социалистические партии России немедленно войти в соглашение между собой и приступить к делу вооруженного восстания против царизма. Все силы каждой партии должны быть мобилизованы. Боевой технический план должен быть у всех общий. Бомбы и динамит, террор единичный и массовый, все, что может содействовать народному восстанию... Отдав все свои сипы на службу народу, из недр которого я сам вышел (сын крестьянина), – бесповоротно связав свою судьбу с борьбой против угнетателей и эксплуататоров рабочего класса, я естественно всем сердцем и всей душой буду с теми, кто займется настоящим делом настоящего освобождения пролетариата и всей трудящейся массы от капиталистического гнета и политического рабства.
Георгий Гапон".
По поводу этого письма мы, с своей стороны, считаем необходимым высказаться с возможно большей прямотой и определенностью. Мы считаем возможным, полезным и необходимым предлагаемое им "соглашение". Мы приветствуем то, что Г. Гапон говорит именно о "соглашении", ибо только сохранение полной принципиальной и организационной самостоятельности каждой отдельной партии может сделать попытки их боевого единения не безнадежными...
Само собой понятно, что, перейдя с такой быстротой от веры в царя и от обращения к нему с петицией к революционным целям, Гапон не мог сразу выработать себе ясного революционного миросозерцания".
(г)
..."Репрессивное значение экстренных мер ослабело, как ослабевает новая пружина от долгого и неумеренного употребления. Игра не стоит свеч, говорит директор департамента полиции, г. Лопухин, всем своим докладом, который написан в своеобразно грустном и унылом тоне.
Замечательно отрадное впечатление на социал-демократа производит этот унылый тон, эта деловитая, сухая и тем не менее беспощадная критика полицейского, направленная против основного русского полицейского закона. Миновали красные денечки полицейского благополучия! Миновали шестидесятые годы, когда даже мысли не возникало о существовании революционной партии. Миновали семидесятые годы, когда силы такой, несомненно существовавшей и внушавшей страх, партии оказались "достаточными только для отдельных покушений, а не для политического переворота". В те времена, когда "подпольная агитация находила себе опору в отдельных лицах и кружках", новоизобретенная пружина могла еще оказывать некоторое действие. Но до какой степени расхлябана эта пружина теперь, "при современном состоянии общества, когда в России широко развивается и недовольство существующим порядком вещей и сильное оппозиционное движение"!
...Бедный Лопухин в отчаянии ставит два восклицательных знака, приглашая гг. министров посмеяться вместе с ним над теми бессмысленными последствиями, к которым привело Положение об усиленной охране. Все оказалось негодным в этом Положении с тех пор, как революционное движение настоящим образом проникло в народ и неразрывно связалось с классовым движением рабочих масс, – все, начиная от требования прописки паспортов и кончая военными судами. Даже "институт дворников", всеспасающий, всеблагой институт дворников подвергается уничтожающей критике полицей-министра, обвиняющей этот институт в ослабляющем влиянии на предупредительную деятельность полиции.
...Признавая полный крах полицейского крохоборства и переходя к прямой организации гражданской войны, правительство доказывает этим, что п о с л е д н и й р а с ч е т приближается. Тем лучше. Оно начинает гражданскую войну. Тем лучше. Мы тоже стоим за гражданскую войну. Уж если где мы чувствуем себя особенно надежно, так именно на этом поприще, в войне громадной массы угнетенного и бесправного, трудящегося и содержащего все общество многомиллионного люда против кучки привилегированных тунеядцев".
ЛЕНИН".
"В Заграничный Комитет СДПиЛ
Варшава, 13 февраля 1905 г.
Дорогой товарищ!
Посылаю Вам на открытке три адреса, – высылайте по ним из Берлина "Искру" от No84, "Социал-Демократ" и "Вперед". Это для Военно-революционной организации. Что будет с литературой для нас? Через Катовицы и вообще через Пруссию теперь почти невозможно действовать: граница обставлена прусскими войсками, и нельзя перевозить контрабандой даже шелка. Посылаем Вам нашу прокламацию, она будет издана в 5-10 тыс. экз.
Теперь о Военно-революционной организации и русских здесь, в Варшаве. Я налаживаю с ними связи, стараюсь узнать их силы, их самих, надо бы нам объединиться.
И вот какое дело: наш Южный комитет развил среди войск действительно колоссальную работу, революционизировал целые полки, их надо теперь сдерживать от восстания, к которому они страшно рвутся. Это не преувеличение. Подробно об этом не хочу писать и из конспиративных соображений и потому, что хочу это обследовать, чтобы все видеть и ко всему прикоснуться. Надо Вам сказать, что Южный комитет состоит теперь совсем из других людей. Они потеряли связь с нами, так как старый состав не оставил им никаких адресов. Состоит он теперь из семи человек: пяти русских и двух поляков. Парень, который сюда приехал, производит солидное впечатление.
О плане нашей работы в провинции Вас информирует Здислав Ледер. О работе в Пулавах и окрестных деревнях Вы можете судить по корреспонденциям. Я вскоре там буду. Пришлю подробную корреспонденцию. Мы думаем о Вильно, Белостоке, Лодзи, Пулавах, Ченстохове, Домброве.
Что касается меня, то я хочу остаться здесь, пока не урегулируются вопросы с типографией, с Военно-революционной организацией и с русскими. Затем поеду в Пулавы (два-три дня), Лодзь (две недели), Белосток, Вильно (две недели), Ченстохов, Домброву (две недели).
Адрес в Пулавы: "Институт". (Ключ тот же, что и лозунг – русский полный алфавит, завтра здесь допишу.)
Закажите агитационные брошюры для солдат в большом количестве – "Искру", "Социал-демократ".
Письмо это пойдет завтра или послезавтра. Корреспонденции, которые окажутся годными, отправьте немедленно в "Искру".
Юзеф". 7
Прочитав "Таймс", где описывались подробно беспрерывные стачки в Петербурге, Харькове и Варшаве, Зубатов вдруг ощутил звенящую пустоту в себе, и понял он, что это и есть настоящий ужас, предсмертье, погибель.
Он представил себе, как толпы рабочих врываются в охранку, бегут по коридорам в бронированные комнаты, где архивы хранятся, достают эти архивы, а там, что ни дело, то его, Зубатова, резолюция. Разные резолюции, тысячи их, но ведь и десятка хватит, чтоб в з д е р н у т ь; ужас рождает обострение памяти; страх – иное, страх на каждую "память" три "непамяти" выставит, страх цепляется еще, думает, как бы выкрутиться, спастись, изловчиться, а ужас – это последнее, это когда все до конца видится, вся п р а в д а.
Зубатов побежал, именно побежал, в церковь на Ордынке, обвалился на колени, истово взмолился: "Господи, спаси Россию! Господи, покарай злодеев, только Трон сохрани, только Государя нашего охрани, тогда и меня покарай, меня, того, кто все это, страшное, начал". (Как всякий, пришедший в политику а Департамент полиции большую политику в е р т е л, но без достаточной научной подготовки, без широкого знания, – Зубатов не мог понять, что не он начал-то, не Гапон, не десяток других его "подметок", начала жизнь, которая есть развитие от низшего к высшему, которая есть поступательность истинная, а не сделанная, и которая – как бы ни мешали ей – свое возьмет, ибо невозможно остановить рост, подчиняющийся законам основополагающим, извечным и справедливым.) Из церкви, не найдя успокоения в молитве, чуя полицейским умом своим, что Господь в его деле не помощник, Зубатов, отвертевшись от филера (сегодня один был, по случаю паники в северной столице другого охломона на серьезных смутьянов п о с т а в и л и, а не на него, отца политического сыска, государева слугу), сел на поезд и отправился в Петербург, послав с кучером жене записочку: "Поехал на моленье, в Лавру, если кто будет интересоваться успокой".
В северной столице – затаенной, темной, пронизанной ощущением незабытого еще ужаса кровавого воскресенья – Зубатов ринулся к Стрепетову, старому сотруднику, выкинутому после его отставки, но п о л ь з у е м о м у и по сей день Департаментом в целях финансового поддержания ("подметкам" только в исключительных случаях пенсию платили, чаще ограничивались "поштучным" вознаграждением или единовременным пособием).
– Где Гапон? – спросил Зубатов, проходя в маленькую, провонявшую кислой капустой комнату. – Гапон мне нужен, Стрепет.
– Гапон прячется, Сергей Васильевич. Его вроде бы укрывают. Фигурою стал у всех на языке.
– Кто укрывает?
– Эсеры, – неохотно ответил Стрепетов.
– Понимаю, что не Департамент. Кто именно?
– Еврей какой-то.
– Там много евреев. Какой именно? Ты не егози, Стрепет, не егози! Мы с тобой повязаны шнуром – меня затянет, и тебя потащит, я один греметь не намерен, понял?!
– Рутенберг вроде бы.
– Найди Гапона из-под земли, Стрепет! Из-под земли! Тогда спать будем спокойно. Ежели пойдешь в Департамент – через час со мной очную получишь, я молчать не буду. Ступай.
Гапон был в черных очках, в какой-то роскошной, но с чужого плеча енотовой шубе, стрижен наголо, брит до синевы – неузнаваем, словом.
– Вы понимаете, что случилось? – не поздоровавшись, спросил Зубатов. – Вы отдаете себе отчет в происшедшем? Вы чуете пеньку висельную?! Вы понимаете, что творите, продолжая звать к демонстрации и забастовкам?
– Это по какому же праву вы говорите со мной так? – ударил Гапон неожиданно спокойным вопросом. – Как смеете? Вы кто, чтобы так говорить со мною, а?!
Эти недели он скрывался у эсеров, спасибо Рутенбергу, прямо с улицы, во время расстрела демонстрации увел на квартиру. Когда первый озноб прошел, чаем когда с водкою отогрели, услышал про себя: "Знамя первой русской революции". Сначала-то и не понял, а как понял – сморило от страха, счастья, невесомой высоты – потерял сознание, обвалился на пол.
Придя в себя, глаз открывать не торопился, слушал. Говорили о том, как важно, что он попал именно к ним, к эсерам, к самой массовой революционной партии, которая вбирает в свои ряды всех борцов, всех тех, кто хочет дать мужику землю и волю; пусть "народный вождь фабрично-заводских" станет под знамена, это – количество и качество, вместе взятые.
И страх вдруг исчез в нем, вместе с памятью, с той, страшненькой, жандармской, когда инструкции получал и о т д а в а л Зубатову рабочих.
Страх исчез, потому что понял он – эти возьмут на себя в с е, он им нужен не так, как Департаменту, он им как знамя нужен. Это он может. Он поразвевается на ветру, от души поразвевается.
...Зубатов долго рассматривал лицо Гапона, силясь понять, что произошло с его агентом за эти дни, отчего такая перемена в нем свершилась, но ответить не мог себе – не привык, чтоб на его окрик отвечали таким вот властным, новым, в сути своей новым.
– Имейте в виду, – Зубатов решил играть привычное, – коли вы начнете, в случае ареста, валить на меня – я вас утоплю.
Гапон мелко засмеялся:
– Вон вы чего боитесь... Не бойтесь этого, Сергей Васильевич, мне теперь негоже в связях-то признаваться.
И тут только Зубатов понял все.
– Вы что ж, серьезно? – спросил он тихо. – Вы и раньше меня дурили?
– Раньше не дурил, – ответил Гапон деловито, с прежними интонациями маленького человека, привыкшего отвечать на вопросы начальника. – А теперь я не могу предать тех, кто поверил в меня. В меня вся Россия поверила, Сергей Васильевич, теперь я не просто Гапон, я Г е о р г и й Г а п о н теперь, понимаете?
– Вот что, Георгий Гапон, – тяжело сказал Зубатов, – пока не поздно, пока еще момент не упущен, собирайте всех своих фабричных, пишите государю, молите пощады и обещайте борьбу со смутой. Объясните, что примазались к вам чужаки, социалисты, иноверцы – от них все зло. Пропустите момент – ваши нынешние lрузья, узнав о том, кто вы есть, в острог же и отправят первого.