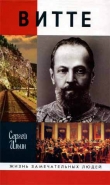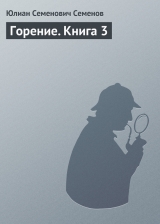
Текст книги "Горение (полностью)"
Автор книги: Юлиан Семенов
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 99 страниц)
– Ах ты, пся крев, змея подколодная! – крикнул Генрих. Дзержинский резко обернулся, услыхав, как лязгнул взводимый шахтером курок нагана.
– Не сметь! – сказал он.
Прухняк спросил глухо:
– Кто... Кому ты говорила? Кто тебя заставил?
– Никто меня не заставлял, – ответила Ядвига. – Вон, маленький меня заставил ейный, Зоськин. У нее в цицке молока нет, а он тихеньким растет. А урядник – добром, нешто он злое хотел? Он помощь дал...
– Ты пойди, гадина, посмотри кровь на снегу! Ты посмотри, посмотри! Твоих рук дело! – снова крикнул Генрих.
– Что вы еще говорили уряднику, Ядвига? – спросил Дзержинский. – Как его зовут?
– Урядник – как же еще?
– Идите, Ядвига, – сказал Дзержинский. – И если урядник станет вас спрашивать о чем-то еще – пожалуйста, придите к Зосе и расскажите, о чем он спрашивал. А Зося подскажет вам, что надо ему ответить. Если же вы скажете уряднику, что видели нас сегодня у Зоей, – ее посадят в острог. Понятно? Идите.
Когда женщина ушла, Генрих в тихой ярости сказал Дзержинскому:
– Добреньким стараешься быть?! А если Зоську сегодня заберут?! Вместе с младенцем?! Тогда что?!
– Не заберут.
– Интеллигентиком хочешь быть! – продолжал Генрих. – Добреньким, всем хорошеньким!
– Палачом быть не намерен, а интеллигентом всегда останусь. Стрелять в безграмотную, обманутую женщину не позволю никогда и никому – хоть ты сто раз рабочим себя называешь. Надо этой несчастной объяснить, что она делает, надо ее спасти, надо в человеке сохранить человека. Стрелять и дурак научится, особенно если ему браунинг выдала партия. Только для чего тебе оружие дано вот вопрос? Изменник, сознающий свою подлость и тем не менее предающий, – это враг, к которому нет пощады. А убогую-то, голодную... Калачей маленькому принесла...
Той же ночью Дзержинский узнал от члена Главного правления СДКПиЛ Якуба Ганецкого, что Антонов-Овсеенко ("Офицер", "Штык"), руководитель Военно-революционной организации РСДРП, прапорщик, изменивший "присяге и государю", пособник "полячишек", "главный подстрекатель солдат к мятежу в пулавском гарнизоне" расшифрован в охране и передан в ведение военно-полевого суда. Путь оттуда один – на виселицу.
Дзержинский сразу же – до бессильной и близкой боли – увидал лицо Зоськи и подумал: "А может, Генрих прав? Может быть, око за око? Ведь из-за этой тупой бабы Владимир будет казнен, Володя, "Штычок", нежный и добрый человек. Может, моя сентиментальность не приложима к законам той борьбы, которую мы ведем? Может, надо приучать себя к беспощадности? Но разве можно к этому приучиться? Это значит вытравить в себе все человеческое, а ведь наша цель – в конечном-то счете – в том и заключается, чтобы люди были людьми, а не темной, озлобленной, забитою, а потому жестокой массой. Ну, ответь себе, Дзержинский? Как надо поступать? Как можно сохранить свое существо в этой страшной борьбе? Нет, ответил он себе, – нельзя повторять тех, против кого борешься, – это будет предательством самого себя. Неписаный закон революции – а мы напишем его когда-нибудь, обязательно напишем – один навсегда и для всех: справедливость. Отступишь от него, дашь казнить несчастную обманутую – потом не остановить, потом разгуляется, а этого позволить нельзя – никому и никогда".
– Вот что, – медленно, словно с трудом разжимая рот, сказал Дзержинский, если мы не сможем организовать для Антонова-Овсеенко побег, если мы не сможем выкупить его, выкрасть из тюрьмы – я пойду сам на Нововейскую и возьму на себя дело.
На Нововейской, в доме 16-6, помещалось Губернское Жандармское Управление.
Ганецкий не сомневался – пойдет. 11
...Генерал Половский мерил шагами квадраты желтого паркета в приемной великого князя Николая Николаевича, загадывая на "нечет", который при делении на три дал бы цифру семь. Получалось то шесть, то восемь.
Приехал в имение великого князя Половский уже как несколько часов. Вчера еще он был в Петербурге, но после ужина с Веженским, который сказал – "пора", сразу же сел на поезд, не заглянув даже домой. Северная столица была парализована стачкой, лакеи Сдавали при свечах, хлеба не было, оттого что пекари на работу не вышли, в "Астории" пекли блины, чтобы как-то хоть выкрутиться, не растерять клиентуру, водка была теплой, поскольку бастовали и водопроводчики, а без них да без электриков льда не подучишь, а какая ж это водка, ежели без льдистой слезинки?!
– Если станут железные дороги, – задумчиво сказал Веженский, зябко кутаясь в легкое, не по сезону, пальто, – тогда категория риска возрастет во сто крат, тогда возникнет реальная опасность победы революционеров. Вы это ему объясните.
Перрон был погружен во тьму, не слышно было крика краснолицых носильщиков, не продавали пирожков с грибами, которыми обычно славился Московский вокзал; в ресторане давали одну лишь холодную севрюгу.
– Не заиграемся? – спросил Половский. – Мечтаемое всегда наяву оказывается другим, Александр Федорович.
– Можем заиграться, – ответил Веженский. – Обидно будет, если нас ототрут. Педалируйте на "опасность не удержать", – повторил он. – Пусть он поймет. Все-таки великий князь мне кажется человеком здравомыслящим и способным к действиям. Ему может грозить удар от обжорства, но паралич воли ему не угрожает: по-моему, он единственный живчик во всем романовском семействе.
Николай Николаевич принял Половского под вечер, поднявшись после дневного сна: вчера гонял кабанов, простыл на ветру, вечером выпил водки с перцем, согрелся было, но утром почувствовал слабость и оставался в кровати, читая Плутарха. Домашний врач Свинолобов сделал массаж, рвал кожу спины сухими пальцами, пыхтел, словно кость вправлял, велел к обеду подать горячих щей с укропом, разварной картошки, икры и горячего клюквенного грогу. Потом укутал Николая Николаевича двумя одеялами и закрыл окна тяжелыми гардинами, чтобы свет не тревожил глаз.
Проснувшись в шесть часов, великий князь легко встал с кровати, Свинолобову велел сказать благодарность – выздоровел, и отправился в кабинет.
Выслушав Половского, Николай Николаевич заметил хмуро:
– Не ко мне пришли, генерал. Великий князь Владимир Александрович сейчас решает судьбу в Петербурге. Я – не у дел, я – генеральный инспектор кавалерии, я лошадьми озабочен – не жизнью империи.
– Вы внук Николая Первого, ваше высочество, в вас – л и н и я.
– Нет, нет, – повторил Николай Николаевич, – не ко мне. Сами они начинали – самим и расхлебывать кашу. Я был против войны с япошатами. Меня не послушали. Я был против либеральных ш т у ч е к безумных земцев. Мне не вняли.
– Ваше высочество, болезнь зашла так далеко, что возникла реальная опасность: не удержать.
– Их забота. Не моя.
Отпустив Половского, великий князь задумчиво поглядел ему вслед и заметил адъютанту:
– Хоть и умен, а не понимает: "чем хуже – тем лучше". Вызовите генерала Трепова. И пусть найдут месье Филиппа – послушаем его; ясновидцам верю больше, чем военным, которые страшатся "не удержать"...
– Ваше высочество, положение в столице действительно весьма серьезно, решился заметить адъютант, – генерал Половский сказал правду.
– Если б я ему не верил – не стал принимать. Говорить вы все горазды, а что делать? Что?
...Граф Балашов проверил, заперта ли дверь громадного кабинета, достал из портфеля только что полученные особым способом социал-демократические газеты и принялся читать статьи Плеханова, Ленина и Мартова.
Внимательно и цепко прочитав статьи, Балашов бросил газеты в камин и долго смотрел, как пламя крутило бумагу в черный пепел, казавшийся раскаленным, сине-красным, прежде чем превратиться в черное, крошащееся ничто. Потом, побродив по кабинету, задержавшись перед пальмой возле дивана – не поливали ночью, сукины дети! – потрогав сухими и сильными пальцами корешки книг, Балашов стремительно сорвал с вешалки доху, отпер дверь и крикнул в приемную:
– Рысаков к подъезду!
Сначала он нанес визит товарищу министра иностранных дел Сазонову, получил от него последние данные о положении на парижской и лондонской биржах, о настроении в здешних посольствах; затем встретился со швейцарским посланником и высказал соображения по поводу будущего России, предложив осведомить друзей, что, видимо, сейчас целесообразно играть на понижение курса русских бумаг, дабы сделать Царское Село более сговорчивым; попросил найти месье Филиппа, ясновидца, близкого к великому князю Николаю Николаевичу, и проинструктировать его, чтобы будущее он у в и д е л соответствующим образом, наиболее выгодным людям европейского д у х а, а уж после этих двух визитов отправился в Зимний, к генералу Трепову.
Тот принял Балашова незамедлительно: и знатного рода, и богат, и газету корректно ведет. Посетовав на мерзавцев анархистов, повздыхав об несчастных обманутых фабричных, поинтересовался, как и что о нем думают щелкоперы, приготовился слушать графа.
– Ваше высокопревосходительство, – сказал Балашов, – я задержал статью, которая, при всей ее внешней аполитичности, тем не менее взрывоопасна: это о положении в нашей промышленности – с цифрами и статистическими данными.
– А чего промышленность? – заметил Трепов. – На то она и промышленность, чтобы вверх и вниз скакать, живая она, вот и неурядит...
– Ваше высокопревосходительство, – настойчиво повторил Балашов, – дело не в живости промышленного организма. Дело в том, кто им управляет. Бунтовщиков подавить можно – на то есть сила и оружие. А дальше? Покуда мы не пустим к государю промышленников, покуда мы не сделаем их приближенными друзьями трона, покуда не дадим им права р е ш а т ь – бунты будут продолжаться. Промышленники требуют свободы рук – дайте им свободу рук, богом молю – дайте! Пусть открыто говорят о своем деле, а н а ш е выполняют. Иначе – плохо будет.
– Ишь, – засмеялся Трепов несмеющимися глазами, – куда повело! Это что ж о т д а т ь надо? Наше п р а в о им отдать?
От генерала Трепова, не заехав даже передохнуть, Балашов отправился к доктору Ипатьеву – там ждали.
Веженский обратил внимание на глаза графа: они запали, мешки набрякли нездоровые, отечные, и в кончиках ушей почудилось присяжному поверенному та, еле пока еще заметная, желтая синева, которая точнее любого диагноза открывает истину: плохо дело.
Тем не менее запавшие глаза Балашова жили как бы отдельно от него самого, от его старческого лица и резко похудевшего тела.
– Братья, – обратился Балашов к собравшимся, – мы вступили в самый ответственный период нашей истории. Мы можем реализовать себя лишь в тесном сообществе с Европой: альтернатива этому – новое нашествие монголов, смешение крови, исчезновение нашей самости, нашего русского существа. Впрочем, союз с западом так же чреват опасностями растворения: бойкие еврейчики, поляки с их гордыней, латыши, финны – вы поглядите статистику, обратите внимание на рост смешанных браков... Сохранять равновесие на нашем русском корабле должен капитан – государь наш. Он окружен людьми малой культуры, людьми, которые уповают на три кита прошлого, на православие, самодержавие, народность, но не знают они, как эти три кита сохранить от полного вымирания. Мы же, слуги дела, лишены реальной власти. Власть поэтому мы в силах завоевать лишь путем создания партии. Наша партия, состоящая из людей, обладающих капиталом, достаточным для того, чтобы представлять Россию на биржах Запада, в банках Северо-Американских Штатов, на переговорах с министрами Лондона, Парижа, Берлина, должна быть лояльной, гибкой и замкнутой до той меры, чтобы, спаси бог, мы не дали повода упрекнуть нас в некоей "тайности". Нам противостоит главный враг: внутренняя крамола, все эти эсдеки, эсеры, анархисты, бунды и прочая социалистическая накипь. Правительство не умеет бороться с ними – не хватает последовательной линии. Мы должны помочь государю. Надо влить серьезные силы в "Союз русского народа". Сумасшедший Дубровин вызывает презрение. Надо продумать, каким образом влиять на "Михаила Архангела" – через десятые руки, – чтобы его деятельность не носила характер стихийный, тупой, управляемый дилетантами из департамента полиции. Пусть кидают в нас камнями и психопаты Дубровина, и черные сотни "Михаила Архангела" – стерпим. Пусть только действуют, шумят, грозят справа. Надо подтолкнуть работу ложи "Розенкрейцеров" так, чтобы они п у г а л и государя нами, франкмасонами. Государь, увы, боится силы. Следует рассредоточить п о н я т и е масонства, следует отмежеваться от крайних его фракций – для этого именно и надо помочь их создать, – Балашов глянул на Веженского. – В нужный момент и при подходящих обстоятельствах мы, именно мы обнажим их сущность: цель оправдывает средства. Прошу всех в ближайшие недели отменить поездки за границу или на отдых каждый из вас может понадобиться в момент самый неожиданный.
...Веженский после встречи в ложе долго кружил по городу на своем ревущем авто, и тревога не отпускала его, она была давешней, той, которую он испытал, встретившись с Грыбасом – за день перед казнью. Приученный практикой судебных словопрений к тому, чтобы эмоции использовать заученно, словно актер на сцене, но при этом следовать логике – подспудной, невидимой, сокрытой в любом, даже самом пустяшном деле, – он чувствовал сейчас, что концы не сходятся с концами. Веженский не мог еще сформулировать точно, какие концы и в чем не сходятся, но он верил своему обостренному чувствованию, поэтому в "Асторию" не поехал, знал, что водкой тревогу не зальешь, наоборот, чадить станет, назавтра места себе не сыщешь. Отправился к Хрисантову Гавриилу Григорьевичу, действительному статскому из европейского департамента министерства иностранных дел, главному "пельменщику" Санкт-Петербурга. Выслушав странный, казалось бы, вопрос Веженского, действительный статский внимательно оглядел сухопарую, ладную фигуру присяжного поверенного, вздохнул, молчал долго, а потом грустно и очень искренне ответил:
– Раньше надо было спрашивать, Александр Федорович, раньше.
А вопрос был простым: кому ныне за границею, каким силам – с точки зрения профессионального дипломата – была выгодна война России с Японией? Вопрос был задан Веженским даже для него самого неожиданно. (Потом, по прошествии месяцев, он ответил себе, отчего именно с этим приехал к Хрисантову: перед глазами постоянно стояли сине-желтые уши графа Балашова, думал о преемственности, а гроссмейстера ложи не получишь, коли не держать руку на пульсе иностранной политики трона – это только по ублюдочным "почвенным" теориям Россия выявляла себя по-настоящему, лишь когда "двери заперты"; на самом-то деле, будучи державой великой не в силу объемности территории, но в силу причин иных, рожденных талантливостью народа, Россия могла по-настоящему реализовать себя в самом тесном общении с Европой.)
– Что ж, – продолжал между тем Хрисантов, – лучше поздно вопрос ставить, чем не ставить его вовсе. Я отвечу вам, Александр Федорович. Естественно, моя точка зрения, вероятно, во многом будет расходиться с мнением официальным, но отношения наши таковы, что я готов разрешить себе это.
– Спасибо.
– Не за что. Вам спасибо: это редко в наш век, когда умному человеку, растущему человеку, – подчеркнул Хрисантов, – можно верить. Даже если б вы чиновником были – верил; такие, как вы, по трупам не ходят, такие, как вы, на разум ставят, на здравый смысл.
– Еще раз спасибо, – ответил Веженский. – Искренне тронут, Гавриил Григорьевич.
– Так вот, Александр Федорович, наша с Японией война началась уже десять лет назад, когда мы вместе с Францией и Германией решили потеснить Лондон, который поддерживал – мудро, должен заметить, п о д д е р ж и в а л, – желание проснувшейся Страны восходящего солнца прийти со своих островов в мир. Европейские островитяне понимали островитян азиатских лучше нас, материковых-то. Мы в девяносто пятом году, как помните, заключили договор о дружбе с Китаем, направленный против Японии, оттяпав себе за это концессию на трансманьчжурскую магистраль. Первая ошибка. А вторая была и вовсе непростительной: американцы предлагали нам капитал для совместной разработки дальневосточных окраин, любой капитал предлагали, чтоб завязать сообщество с нами и японцами, а мы – сами с усами! Ни в какую! И своими руками, Александр Федорович, именно своими руками, бросили Японию в объятия Вашингтона. Проклятая наша манера г н у т ь линию; коли союз с Парижем и Берлином – так уж до конца, без всяких там меттерниховых штучек. А без этих меттерниховых штучек – политики нет, как нет математики без доказательства от противного.
Хрисантов закурил сигару, п ы х н у л горьким табаком, продолжал раздумчиво:
– Намечавшийся англо-американо-японский союз рассуждал прагматично, со счетами в руках: Лондон не постеснялся ударить челом Парижу, напомнил, что Берлин всегда останется Берлином, что гегемонистический дух Бисмарка не умер со смертью железного канцлера, что канцлер завещал Вильгельму дружбу с Россией, но отчего-то никак при этом не помянул Париж; положили британцы на стол французского министра финансов расчеты по выпуску стали и добыче угля в Германии, предложив сравнить с французскими темпами; намекнули, что Берлин ближе к русскому сырью и русскому рынку, что помогать Парижу Крупп не станет, и Париж, который только отстраненно кажется легким, порхающим, веселым, на сей раз тяжеловесно, по-буржуазному все просчитал, выверил и принял решение... Чтобы истинно французский дух понять, надобно, Александр Федорович, не Вольтера читать – он надмирен, а Мопассана. Помните, как у него брат братцу руку оттяпал, только к рыбацкие снасти сохранить? То-то и оно – истинно европейский подсчет выгоды: пусть останется три руки на двоих, зато снасти на берегу, значит, будет рыба. Четырьмя руками, но без снастей можно только кулаками над головой махать...
– Значит, это разумно – резать братцу руку?
– Все разумное – действительно, Александр Федорович, я с Гегелем не берусь спорить. В политике, должен заметить, эта формула блистательно прилагается к наиболее дальнозорким решениям. Мы часто любим н е з а м е ч а т ь. Европейцы – нет. Раз есть – изволь заметить! Словом, Вильгельм, почувствовав ж а р е н о е, круто повернул к открытому столкновению с Лондоном. И Англия и Германия в этом противоборстве за европейское лидерство делали ставку на Россию – каждая держава в своих интересах. Мы вроде бы стали склоняться к альянсу с Берлином, но это означало потерю не только Англии, как возможного – в далекой перспективе – партнера, но и Франции, ибо Вашингтон заявил, что если Франция поддержит Россию в ее столкновении с Японией, то Америка войдет в войну на стороне Токио. Значит, кому выгодно было нас вогнать в драку с микадо? Берлину, Александр Федорович, Берлину. И это поддерживалось дома, у нас, Хрисантов все-таки голос при этом понизил, оглянувшись на дверь чисто автоматически, хотя кабинет его был пуст, да и время позднее, все чиновники разошлись, – германофильская группа Витте – Абаза – Безобразов. А к кому они близки? К кому? Они ж британцев считают жидомасонами, они их терпеть не могут, они все наши беды "англичанкой" называют. Словом, Александр Федорович, мы таскали каштаны из огня для того, чтобы помогать выявлению нового европейского лидера – слава богу, пока еще до конца не выдвинулся. Слава богу, мы сейчас поняли, что все развалится, поэтому идем на любые условия мира, на унизительные, говоря откровенно, идем условия – я из Портсмута шифрограммы Витте читаю. Стыдно, Александр Федорович, стыдно и горько... А ведь если б прислушивались к нам, к профессионалам, если б вместо амбиций на счетах проверили; вместо страха перед американским вольнодумством гарантии обговорили и начали совместную разработку дальневосточной окраины – все бы в мире пошло иначе. – Хрисантов повторил уверенно: – В мире, не то что в империи.
– Чего ж надобно ждать?
– Полегче задайте вопрос, Александр Федорович. Россия шарахается. Позиции, которые предлагаем мы, профессионалы дипломатии, никем не изучаются: куда настроение повернет – туда и покатимся.
– Чье настроение?
– То самое, – ответил Хрисантов, раздражаясь отчего-то, – будет вам наивность изображать, все вы прекрасно понимаете – у вас глаза бархатные, с отливом. Ладно, поплакался, и будет – едем ко мне, пельмешек отведаем, я живо слеплю пару сотен.
"РАПОРТ
ГОСПОДИНУ НАЧАЛЬНИКУ ГУБЕРНСКОГО ЖАНДАРМСКОГО УПРАВЛЕНИЯ Е. Я. ГЕНЕРАЛ-МАЙОРУ Е. И. В. КОРПУСА ЖАНДАРМОВ
НАЧАЛЬНИКА ТЮРЬМЫ "ПАВИАК"
СТАРШИНСКОГО
Сего дня, в 17 часов 30 минут из вверенной моему охранению тюрьмы бежал Владимир Антонов-Овсеенко, дело коего назначено на завтра к слушанию в военно-полевом суде.
Обстоятельства, при коих совершен дерзкий побег, следующие:
Во время прогулки по внутреннему двору, пользуясь развращающими стражников шутками, Антонов-Овсеенко исхлопотал у вышеупомянутых разрешение на проведение "спортивных упражнений". Спортивные эти упражнения, однако, были не чем иным, как заранее продуманным и подготовленным планом побега, который Антонов-Овсеенко совершил во время "выстраивания чехарды", при коей один из арестантов вспрыгивал на спину другому, образуя "лестницу". Потом арестанты потешно падали на землю, что создавало еще более благодушное настроение у стражников. После десяти минут игры этой Антонов-Овсеенко, усыпив внимательность стражников окончательно, повернул направление "чехарды" от одиночного дерева – к тюремной стене. После третьего по счету взлезания на спины Антонов-Овсеенко перемахнул через усыпанную битым стеклом из-под водочных четвертей стену как раз в том месте, где стоял крытый экипаж, и не разбился, так как прыгнул на крышу экипажа, словно знал заранее точное место, где этот экипаж остановится, ибо, как уверяют часовые, когда он перепрыгивал стену, в нем не было того внутреннего опасения, которое обычно легко распознается стражей.
Стрелять в беглеца не представилось возможным, поскольку кони немедленно взяли с места, а какие-то руки втащили Антонова-Овсеенко с крыши в экипаж, тут же свернувший за угол..."
Руки были не "какие-то". Руки были Прухняка и Генриха, которые и привезли Антонова-Овсеенко туда, где ему не грозила смерть, к друзьям привезли, к польским товарищам: всем делом руководил Дзержинский, предложив операцию по спасению русского социал-демократа зашифровать кодовым, непонятным словечком "мероприятие".
"ЦК СДКПиЛ, Берлин.
Для Здислава Ледера.
Прежде всею я хочу Вам написать по следующему вопросу: было бы абсурдом, если бы Вы вздумали зарабатывать в настоящее время на свое существование. Не обижайтесь на меня, но партия должна давать Вам на жизнь. Вам могло бы быть совестно, если бы Вы не были революционером, если бы Вы вели революционную работу по найму, если бы Ваша работа, Вы и Ваше время не были нужны партии, или же если бы Вы были рантье. Не хочу об этом распространяться, но Вы должны согласиться на это, Вы должны иметь совершенно свободное время и быть независимым. Следовательно, мы будем Вам отсюда посылать деньги.
А теперь о наших потребностях и о состоянии работы – страшный, прямо отчаянный недостаток литературы. События требуют быстроты. Силой событий мы вынуждены ослабить контроль Главного правления над местными изданиями. Будучи вечно "на помочах", местная работа развиваться не может. Мы не должны бояться отклонений! Там их нет, где нет жизни. Присланную Вами прокламацию Адольфа Барского мы не можем издать – она не годится. Он силится доказать, что без политической свободы не может быть успешной экономической борьбы, – это вещь известная сегодня уже каждому ребенку. Об этом говорилось и в пользу этого агитировали 20 лет тому назад. Сейчас идет речь совсем о другом: разъяснить, что теперешняя забастовка – это начало революции, что она имела колоссальное политическое значение и какое именно, что это не поражение, а начало борьбы, нужно разъяснить значение текущего момента, что только организация в самостоятельную социал-демократическую партию гарантирует пролетариату такую свободу, которая даст ему возможность вести борьбу дальше – вплоть до социализма (о социализме в прокламации Адольфа нет ни одного слова), что политическая свобода для нас – средство к цели, средство необходимое (это обязательно нужно упомянуть ввиду революционизирования других слоев и все громче раздающихся призывов к единению). Пришлите такую рукопись как можно скорее. Призывайте в ней к настойчивости и выдержке. И тон не должен быть менторским, как в прокламации Адольфа, – такой тон раздражает рабочего. Он партию отождествляет с собой – не следует говорить: "делайте", "вы должны"! Так надлежит говорить к "обществу", а не к пролетариату!
Как я Вам писал, мне удалось также организовать русскую группу СДПиЛ. Состоит эта группа из четырех, толковых и энергичных людей. Задачи: политическое самообразование и приобретение навыков практической работы, агитация и организация среди русских рабочих и интеллигенции, материальная и техническая помощь. Они издают гектографированные перепечатки из "Искры" и бюллетени о событиях по-русски. Из этой группы мы будем черпать силы для работы в армии.
О работе среди интеллигенции хорошо не знаю. Уже было одно собрание пропагандистского кружка молодежи. Анархист из правления и вообще из организации совсем ушел. Мимеограф мы у них отняли. Вообще среди интеллигенции можно было бы много сделать – нет инициативного парня. Связи есть, но нет человека, который бы их объединил. Там хотят с 1 мая начать выступление (кстати, и в Варшаве и, пожалуй, во всей Польше в массах возлагают большие надежды на 1 мая).
Кончаю – уже четыре часа – а завтра (собственно говоря, сегодня) я должен встать в 8 часов. Ну, будьте здоровы, обнимаю Вас крепко.
Ваш Юзеф". 12
Профессор Красовский, написавший уже несколько статей для "Червоного Штандара", нашел Дзержинского через канал связи, ставший – в определенной мере – обычным для них, через Софью Тшедецкую.
– Очень, очень взволнован старик, – сказала Софья. – Просил непременно повидать его.
У Красовского был назавтра же.
– Слушайте, пан Юзеф, – сразу же начал Красовский, – вам необходимо пойти на лекцию Тимашева.
– Отчего так категорично?
– Оттого что паллиатив правды страшнее открытой лжи.
– Кто этот Тимашев?
– Историк. Он приехал из Москвы, студенты на него валом валят. Он собирает гром оваций, он критикует государя справа, сильно причем критикует. Я ответить ему не умею, – Красовский положил старческую, трясущуюся руку на исписанные листки бумаги. – Видите, измазал десяток страниц, но чувствую – не то, слабо, многословно, все не так! Стар, пан Юзеф, стар. Я стал очень старым человеком, я ощущаю время, а это – тревожный симптом.
– Не позволите взглянуть, что написали?
– Нет. – Профессор вздохнул. – Трудно признаваться в собственном бессилии. Самому себе – еще куда ни шло, а другим...
– Вы написали для нас прекрасную статью о лодзинской забастовке.
– Э... Надо было писать в десять раз острее и в пять раз короче.
– Где выступает Тимашев?
– В университетских аудиториях. Вы должны, вы обязаны послушать его! Это опасно, очень опасно. Он избрал поразительный метод – критика от противного. Я убежден, что ответить ему можете только вы. Да, да, не спорьте, это ваш долг, пан Юзеф, это ваш долг!
Назавтра Дзержинский был на лекции Тимашева. Хорошо поставленным голосом профессор говорил:
– Призывы к усилению самодержавной власти раздаются тридцать лет, ее полномочия непрерывно расширяются, ее средства растут, ее органы умножаются, но вместе с тем непрерывно усиливается распущенность, умножается смута, растет беспорядок и общее недовольство. Те новые вердикты, которые должны были расширить полномочия губернаторов, сделав их почти абсолютными, не смогли укрепить самодержавную власть: все эти и многие другие права давно есть у турецких пашей и китайских мандаринов, но правительственная власть в Турции и Китае еще более бессильна, чем у нас, однако административно-полицейский режим в конституционной Германии оказывается бесконечно более авторитетным, сильным и строгим, – при отсутствии каких-либо дискреционных полномочий, при строгой ответственности и законности. По-видимому, неограниченный произвол при общем бесправии составляет не силу, а слабость правительственной власти; по-видимому, законность и правовой порядок не ослабляют ее, а служат непременным условием ее силы и авторитета; по-видимому, гласность и ответственность есть истинные гарантии правильного функционирования ее органов.
...Чтобы сохранить всю свою внутреннюю мощь и внешнюю силу, свое великое созидающее и творческое значение в народной жизни, наша державная власть должна довершить дело реформы, начатое освобождением крестьян, и водворить в России основное начало правовой государственности. Четверть века нам говорили, что "еще не пришло время", что мировые задачи России требуют еще "жертв от нашего патриотизма", что лишь самодержавие может служить залогом внешней силы России, ее престижа в Европе и Азии. Из года в год Россия платила миллиарды на армию, флот и военные дороги. Когда раздавались голоса, указывавшие на культурные нужды России, слышался ответ, что на первом месте должны стоять армия и флот, национальная оборона.
Мы верили самодержавию и шли на жертвы, однако ныне, в горькую пору новой смуты, мы вправе озадачить себя вопросом: годна ли родине эта наша безропотная жертвенность? Дает ли на благо России и ее самодержавной власти? Да и есть ли это власть? Существует ли она ныне на самом деле? Может быть, существует самодержавие полицейских чинов, самодержавие губернаторов, столоначальников и министров? Бюрократическая организация, которая сама себя контролирует, учитывает, нормирует, являясь при этом безответственной, бесконтрольной фактически самодержавной?
Посему мы выставляем следующие бесспорные для нас положения:
Помимо народного представительства и без него бюрократия будет бесконтрольной и безответственной, а поэтому лишь народное представительство может служить царю и народу гарантией законности и правопорядка. Во-вторых, помимо народного представительства и без него монарх не может осуществить свое право контроля и не может быть осведомлен истинным образом о народных пользах и нуждах, о состоянии различных отраслей управления, об их действии на страну.
Царь, который не имеет возможности контролировать правительственную деятельность или направлять ее самостоятельно, согласно нуждам страны, ему неизвестным, ограничен в своих державных правах тою же бюрократией, которая сковывает и его народ. Он не может быть признан самодержавным государем: не о н держит власть, но е г о держит всевластная бюрократия, опутавшая его своими бесчисленными щупальцами. Он не может быть признан державным хозяином страны, которой он не может знать и в которой каждый из его слуг хозяйничает безнаказанно по-своему, прикрываясь е г о самодержавием. Долг верноподданного состоит не в том, чтобы кадить истукану самодержавия, а в том, чтобы обличать ложь его мнимых жрецов, которые приносят ему в жертву и народ и живого царя. Все это так ясно и просто, так давно сознается и понимается мыслящими русскими людьми, так убедительно и грозно доказывается теперь самою действительностью! И неужели же нам это еще доказывать? Истинный патриотизм одинаково дорожит охранением отечества и его преуспеянием. Истинно консервативная приверженность к созидающим основам государственности не исключает благоговейное отношение к заветам прошлого, а, наоборот, требует от нее деятельной заботы о культурном росте родной земли. Увы, современный "консерватизм" не заслуживает этого названия, являясь мнимым и ложным, разрушительным по своим результатам. Прикрываясь знаменами православия, самодержавия и народности, наш мнимый консерватизм не только не охраняет, но всего более подкапывает и разрушает положительные основы церкви и государства. Наш мнимый консерватизм – в силу своей молчаливой трусости – бессилен к реальным шагам, которые могли бы помочь самодержавию. Наш мнимый консерватизм передал все тяготы забот о духе России полиции. Однако бесконтрольная, тайная, полицейская организация, располагающая неограниченными средствами и дискреционного властью, опутавшая всю Россию сетью шпионства, представляет собой государственную опасность – поскольку стоит вне закона и, находясь в руках полицейских агентов, легко делается преступной и обращается в жандармократию худшего сорта, в тиранию низших, особенно темных, "безграмотных".