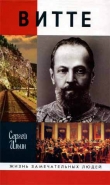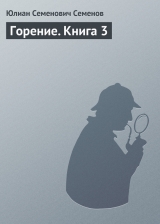
Текст книги "Горение (полностью)"
Автор книги: Юлиан Семенов
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 59 (всего у книги 99 страниц)
– Может.
– Хорошо, что предупредили. Завтра с утра Николаев увидится с Шиповым?
– Да.
– Если что изменится, ставьте в известность, ладно? Скажите по телефону секретарю, что занемогли и не сможете пожаловать на ужин, мне будет все ясно.
Машина закрутилась. Николаев, встретившись с Шиповым, излил ему душу разговор с Дзержинским не давал покоя, поляк говорил верные вещи, не поспоришь.
Шипов, получив приглашение на высочайшую аудиенцию, соотнес в р е м я визита Николаева со звонком из Царского Села, подумал, что Кирилл Прокопьевич побывал у него неспроста, видимо по согласованию с Гучковым, а тот имеет выход в с ф е р ы; поэтому, приехав к царю, не догадываясь об истинной цели приглашения, не зная, понятно, о плане Столыпина, полагая, что приглашен в связи со слухами о "кабинете доверия", вдохновенно заговорил про то, что дружная работа с Думой необходима, это повернет кадетов вправо, сблокирует с властью, оторвет от левых фразеров, перед которыми партии приходится заигрывать – таков удел любой оппозиции. Идея создания "кабинета доверия", понятно, заманчива, однако Милюкову поручать формирование правительства рискованно, он слишком властен, чрезмерно реалистичен в своих программных документах (чего не скажешь о жизненном кредо), и в нем слабо развито религиозное сознание.
– Кого бы вы считали возможным порекомендовать на пост премьера? – спросил государь.
– Председателя Государственной думы Муромцева, ваше величество.
– Председателя Государственной думы, – повторил Николай. – Почему именно его?
– Он отличается большим тактом, врожденной мягкостью характера; при его главенстве и Милюков будет полезен в кабинете на посту министра внутренних дел.
– Да, вы правы, – ответил Николай, – при таком человеке вполне может установиться правильное соотношение умственных И духовных сил...
Вернувшись в свои покои, государь со смехом сказал Александре Федоровне:
– Говорят, Шипов умный человек... Какой вздор, я у него все выспросил, а ему так ничего и не открыл...
Об этих словах царя через полчаса уже знал Трепов. Позвонил "безносому Лоэнгрину", сказал, чтоб тот приехал незамедлительно, передал текст интервью, повелел печатать, оттого что понял ясно: Столыпин вовлечен в игру и обманут, ибо притащил Шипова, поверил, значит, про "доверие", ему теперь ходу нет, и намедни государь обмолвился, что новую Думу он поручит подобрать ему, Трепову, о чем же еще мечтать?!
Треповское интервью было опубликовано в русских газетах со ссылкой на "Рейтер", либералы ликовали: "Двор протянул руку Думе, началась новая эра России!"
Столыпин представил государю доклад, в котором были собраны рапорты агентуры о торжествующих выступлениях Милюкова, Муромцева, Шипова; прямых выпадов против верховной власти не содержалось, однако обер-прокурор святейшего синода, ряд губернаторов и адмирал Дубасов именовались "мерзавцами".
Царь поблагодарил за информацию, вызвал к себе Горемыкина, продиктовал ему рескрипт о роспуске Думы, попросил подписать его и дать документу ход, как только "подойдут соответствующие для того обстоятельства, о коих я лично поставлю вас в известность".
Все верно: два маятника – Трепов и Столыпин, а посредине сонный Горемыкин, вот уж фамилия соответствует духовному строю, точнее не обзовешь, право!
Дума была – и не было ее уже; депутаты произносили речи, гуляли по коридорам Таврического дворца, обменивались репликами, пили чай в буфете, расходились по домам...
...Нет ничего ужаснее, чем смотреть на больных раком, наивно и восторженно полагающих себя живыми.
"Министру Шутте
Господин Министр!
Вчера вечером я принял г-на Ю. Кжечковского, который не только передал мне перевод статьи ведущего русского социал-демократа Н. Ленина "Социализм и анархизм", но также стенограмму выступления берлинского юриста К. Либкнехта, выступавшего в 1904 году в немецком суде во время процесса, начатого правительством канцлера фон Бюлова против русских анархо-террористов.
Г-н Кжечковский готов подтвердить под присягой, что он участвовал в работе кенигсбергского процесса, подбирал, переводил и анализировал материалы для Августа Бебеля и юриста К. Либкнехта, которые выиграли дело, нанеся при этом значительный моральный ущерб как двору кайзера Вильгельма, так и Царскому Селу, ибо доказали суду присяжных, что русская социал-демократия, базирующаяся на доктрине д-ра К. Маркса, никогда не имела ничего общего ни с анархией, ни с террором и выступает лишь против "азиатского деспотизма, который породил вопиющее бесправие народонаселения России, которое лишено каких бы то ни было свобод, не говоря уже о конституции – таковой в России никогда еще не было".
Выслушав г-на Кжечковского, я спросил его, считает ли он польскую социал-демократию организацией, слитной с русскими коллегами, или же, возможно, Варшава исповедует иные программные установки?
Получив категорический ответ г-на Кжечковского о единстве программы и целей польской и русской социал-демократий, я поставил следующий вопрос: "Как в таком случае можно объяснить убийство польскими социал-демократами в Варшаве полковника полиции г-на Попова, находившегося при исполнении служебного долга?"
Г-н Кжечковский заметил мне, что я пользуюсь информацией, переданной, скорее всего, г-ном Громаном, который на самом деле является чиновником департамента полиции полковником Глазовым, а проживает г-н Глазов в Стокгольме по подложному паспорту, выданному ему российским правительством, что является недружественным актом по отношению к Швеции.
Г-н Кжечковский добавил, что у г-на Глазова есть веские причины ненавидеть польскую социал-демократию и лично его, г-на Кжечковского, ибо, по словам собеседника, именно г-н Глазов санкционировал его избиение в тюремном карцере, которое довело г-на Кжечковского до кровохарканья. "Более того, – продолжал г-н Кжечковский, – у меня есть неопровержимые доказательства того, что г-н Глазов готовил провокацию во время моего третьего ареста летом 1905 года, следствием которой было запланировано мое убийство". Непосредственный исполнитель преступного приказа г-на Глазова, по утверждению г-на Кжечковского, находится ныне за границами Российской империи и готов – в случае открытого слушания дела в Королевском Суде – дать показания под присягою о преступной деятельности гг. Попова и Глазова. При этом мой собеседник потребовал гарантий безопасности бывшего полицейского чина, скрывшегося из России, мотивируя это тем, что г-н Глазов, по его сведениям, состоит в негласной связи с некоторыми офицерами стокгольмской полиции.
Я отверг подобного рода утверждение как безосновательное, добавив, что в парламентарном Королевстве, которым имеет честь быть Швеция, подданным не воспрещается встречаться с кем угодно, где угодно и по любому поводу; нарушением чинами полиции их долга мы почитаем лишь несоблюдение статей конституции; все остальное – личное дело подданного, не подлежащее контролю или преследованию с чьей бы то ни было стороны,
Г-н Кжечковский заметил мне, что в таком случае он не понимает причину столь пристального интереса стокгольмских должностных лиц к собранию русских социал-демократов, ибо, согласно шведской конституции, Королевство оказывает гостеприимство всем изгнанникам, борцам против деспотизма.
Я возразил г-ну Кжечковскому, что между понятиями "борец против деспотизма" и "государственный преступник" существует весьма очевидная разница.
Г-н Кжечковский весьма резко заметил мне, что в России "государственным преступником" является каждый, кто требует для подданных труда и свободы; "человек, – добавил он, – осмеливающийся требовать от правительства конституции, будет немедленно заточен в тюрьму и отправлен на каторгу". По мнению г-на Кжеч-ковского, ни один из русских, находящихся ныне в Стокгольме, не может считаться "государственным преступником", ибо социал-демократия хочет одного лишь: удовлетворить нужды великого народа, лишенного, по его словам, "гарантий на равенство, труд, свободу".
Беседа закончилась на том, что г-н Кжечковский позвонит по моему телефонному аппарату завтра, в 17.00.
Специальная группа, отправленная следом за г-ном Кжечковским, потеряла объект наблюдения через несколько минут, однако поздно вечером он был зафиксирован на набережной вместе с Н. Лениным, руководителем радикального крыла русской социал-демократии, и Г. Плехановым, которого считают первым пропагандистом идей д-ра К. Маркса в России.
Был бы весьма признателен, господин министр, получить от Вас – если Вы полагаете нужным – дополнительные указания или рекомендации к моему завтрашнему разговору с г-ном Кжечковским.
С глубоким почтением
Теодор Хинтце,
полицмейстер Стокгольма".
"Министерство Иностранных Дел
Тролле
Мой дорогой друг!
Мне хотелось бы просить Вас ознакомиться с письмом Хинтце, который отличается вдумчивостью и надежной непредвзятостью.
Полагаю, что запись его беседы с г-ном Кжечковским (по наведенным в Берлине справкам, под этим псевдонимом скрывается – вероятнее всего известный деятель польской социал-демократии г-н Юзеф Доманский) поможет нам занять более определенную позицию, ибо любой наш неосторожный шаг может вызвать здесь весьма нежелательную для Царского Села реакцию. Думаю, что гг., подобные г. Кжечковскому-Доманскому, имеют доказательные возможности апеллировать к германской социал-демократии, а также к французским социалистам г-на Ж. Жореса, что может нанести определенный ущерб престижу дружественной нам Российской Империи.
Искренне Ваш
Шутте".
"Господину Шутте.
Мой дорогой друг!
С большим интересом прочитал Ваше письмо и запись беседы с г-ном Кжечковским, проведенную Вашим Хинтце.
Я солидарен с Вашей позицией и благодарю Вас за ту истинно дружескую доверительность, с которой Вы сформулировали свое "кредо". Лишь чувствуя локоть друг друга, мы в состоянии быть полезными Швеции, служа управителями ее интересов.
Бесспорно, любой наш необдуманный шаг, связанный с акцией против участников социал-демократического съезда русских, послужит во вред дружественной Российской Империи, ибо даст повод качать очередную кампанию в повременной печати.
Но в то же время С.-Петербург, видимо, не сможет понять тех мотивов, которыми мы руководствуемся в нашем отношении к собранию социал-демократов, и посчитает нашу "неактивность" против тех, кого они называют "анархистами", проявлением недружественности, вызванной трудностями, переживаемыми Россиею ныне. Поэтому мне представляется возможным внести на Ваше усмотрение следующего рода предложение; кто-то из Ваших сотрудников (не первой, естественно, величины) должен пригласить г-на Гро-мана (Глазова) и сообщить ему, что стокгольмская полиция ведет работу против русских социал-демократов. Это даст нам двойную выгоду: во-первых, мы покажем Петербургу, что вам известны тайные агенты полиции, которые не сочли даже своим долгом представиться нашим соответствующим службам, как то делается чинами русской тайной полиции и в Берлине и в Париже. Во-вторых, мы еще раз подтвердим свое высокое уважение к министру Столыпину.
Более того, чтобы продемонстрировать дружественные чувства к России, я, вероятно, приглашу поверенного в делах Стэль-Гольштейна и ознакомлю его с указанием прокурору Стендалю арестовать русских социал-демократов после того, как все они будут выявлены, и выслать их за пределы Швеции, не называя при этом тот пограничный пункт, через который участники съезда будут выдворены.
Убежден, г-н Столыпин будет удовлетворен вполне, видимо, следующим шагом С.-Петербурга будет попытка выяснить пункт высылки русских с тем, чтобы социал-демократы были выдворены через Финляндское княжество. Таким образом мы получим столь необходимый для нас "люфт во времени", ибо переписка требует отточенности формулировок и абсолютной выверенности – съезд, вероятно, окончится к тому времени.
Видимо, Вы, мой дорогой друг, найдете разумным – через Ваших друзей аккуратно проинформировать русских социал-демократов, сообщив им, что возможны всякого рода п о в о р о т ы, вызванные сложностью положения, в котором оказались полицейские власти Стокгольма.
Думаю, что информацию такого рода следовало бы передать г-ну Кжечковскому.
Полагаю, что русские социал-демократы с их высокой организованностью смогут немедля изменить места проживания и покинуть Стокгольм сразу же после окончания работы их съезда.
Искренне Ваш
Тролле".
"ПЕТЕРБУРГ ДЕЛОВАЯ МОЛНИЕЮ МИНИСТРУ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СТОЛЫПИНУ ТЧК ПОМОЩНИК ПОЛИЦМЕЙСТЕРА СТОКГОЛЬМА СООБЩИЛ ПЕРЕДАЧИ ВАМ ЧТО ВСЕ УЧАСТНИКИ СЪЕЗДА ПО ВЫЯВЛЕНИИ БУДУТ ЗАДЕРЖАНЫ И ВЫСЛАНЫ ПРЕДЕЛОВ ШВЕЦИИ ТЧК МОЛЮ ЗАСТУПНИЧЕСТВА ДИРЕКТОРОМ ДЕПАРТАМЕНТА ВУИЧЕМ ПОСКОЛЬКУ ОСЛУШАЛСЯ ЕГО ПРИКАЗА О ВОЗВРАЩЕНИИ ПРЕДЕЛЫ ИМПЕРИИ ЗПТ ЗАНИМАЯСЬ СКЛОНЕНИЕМ ЧИНОВ СТОКГОЛЬМСКОЙ ПОЛИЦИИ К ДЕЛОВОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ ЗПТ КОТОРОЕ И УВЕНЧАЛОСЬ УСПЕХОМ ТЧК ГЛАЗОВ". 42
"Варшава. Редакция "Червоного штандара".
Дорогие товарищи!
Посылаю Вам еще одну корреспонденцию-стенограмму. Подумайте об использовании. Мнения на съезде полярны, поучительны. Наших надо воспитывать на большевизме как на революционном ученье, это для меня отныне очевидно – раз и навсегда.
Даю запись наиболее ярких выступлений, кои определяют точнее других позиции обеих фракций.
Начинаю с меньшевиков.
А к и м о в (Махновец). – Товарищи! Дума вышла лучше, чем мы ожидали. Думское большинство прогрессивно, оно выставляет такие требования, которых мы не ждали; оно соглашается на всеобщее избирательное право, на обеспечение свобод. Пред Думой два возможных пути. Если Дума исполнит свои обещания, то нам будут обеспечены наши минимальные требования, свобода собираться и говорить. Тогда мы не должны готовиться к восстанию, мы должны будем закрепить нашу позицию и сделать отступление невозможным. Делать восстание или даже агитировать за него в этом случал было бы прямо вредно. Но возможен второй путь: правительство может разогнать Думу. Даже и в этом случае я высказываюсь против вооруженного восстания. Правительство наше уже давно лишилось экономических корней в стране, а в случае разгона оно потеряло бы и все моральные корни. Тогда и Витте сделался бы сторонником вооруженного восстания, но лишь для того, чтобы вызвать и подавить его, чтобы опять возвратиться к азиатскому деспотизму. Капитулирует ли правительство пред Думой или нет, его не нужно трогать, оно само погибнет, само рухнет.
В и н т е р (Красин). – Я предпочитаю остановиться не на недостатках, а на достоинствах речи товарища Акимова. Я не могу сказать того же о резолюции, предложенной меньшевиками. По своему духу она близко подходит к позиции Акимова; она проникнута таким же отсутствием веры в вооруженное восстание, таким же нежеланием принять живое, активное участие в его подготовке. В вашей идеалистической постановке вопроса вы забыли, что в период революционных взрывов "оружие критики" должно смениться "критикой оружия".
Ч е р е в а н и н. – Большевики утверждают, что декабрьское восстание будто бы доказало возможность борьбы народа против современного войска. Этот вывод имел бы для нас огромное значение, означал бы полный переворот в наших старых воззрениях, но, к сожалению, он совершенно лишен основания. Что могли делать те несколько сот дружинников, которые скрывались за баррикадами на окраинах? Они могли совершать только партизанские набеги. Затем явились войска и покончили с восстанием.
(Вообще по вопросу об отношении к Думе рубка здесь продолжается кровавая. Павел Борисович Аксельрод выступил блистательно – истинный трактат, но какое это имеет отношение к пульсирующему ритму революционного действия? Ему очень резко возразил Алексей Рыков, жаль мне было старца, но, увы, резкость Рыкова была угоднее истории, чем великолепная отточенность Аксельрода. Видимо, когда вернусь, надобно будет очень подробно рассказать во всех кружках о перипетиях борьбы – это в высшей мере поучительно на будущее.)
В о р о б ь е в (Ломтатидзе). – До сих пор во всех рассуждениях товарищей из большинства о вооруженном восстании явно и определенно выделялась одна особенность, состоявшая в том, что они партию нашу, социал-демократическую рабочую партию, отождествляли с саперным батальоном, и раз партия в их представлении была саперным батальоном, то и не мудрено, что членов партии, саперов, они угощали только тем, что читали им лекции о баррикадном бое, о постройке баррикад и о том, как назначить восстание в два часа ночи. Каждый раз, когда мне приходилось спорить на эту тему с товарищами из большинства, мне казалось, что они нарочно не хотят понимать меня, что нарочно клевещут на нас с целью оскорбить наше революционное самолюбие. Теперь Вижу, что это не так. теперь ясно видно, что мы стоим на разных точках зрения и что найти между нами среднюю линию невозможно, что или мы должны быть изгнаны из партии, или они. Объединительный съезд показывает, что мы не можем работать в одной партии.
Л е н и н. – Один товарищ заметил недавно, что мы собираем агитационный материал против решения съезда. Я ответил на это тогда же, что называть так именные голосования – более чем странно. Всякий недовольный решениями съезда всегда будет агитировать против них. Тов. Воробьев сказал, что с нами, большевиками, меньшевики не могут работать е одной партии. Я рад, что первым заговорил на эту тему именно г. Воробьев. Что его слова послужат "агитационным материалом", я не усомнился бы. Но важнее, конечно, агитационный материал по принципиальным вопросам. И лучшего агитационного материала против настоящего съезда, чем резолюция ваша против вооруженного восстания, мы бы не могли себе и представить. Плеханов говорил о необходимости хладнокровного обсуждения столь важного вопроса. Это тысячу раз верно... Наша резолюция, подводя научным образом итоги последнего года, критикует прямо: мирная стачка показала себя "растрачивающей силы", она отживает свое время. Восстание становится главной, стачка – подсобной формой борьбы. Возьмите резолюцию меньшевиков. Вместо хладнокровного обсуждения, вместо учета опыта, вместо изучения соотношения стачки и восстания вы видите скрытое, мелочно скрытое отречение от декабрьского восстания. Взгляд Плеханова: "не нужно было браться за оружие" всецело проникает всю вашу резолюцию... Если мы ценим "хладнокровное" обсуждение и серьезную, а не мелочную критику, мы обязаны прямо и явно выразить в резолюции свое мнение: "не нужно было браться за оружие", но непозволительно выразить этот взгляд в резолюции скрыто, без прямой формулировки его. Вот это мелкое, прикрытое дезавуирование декабрьского восстания, не обоснованное ни малейшей критикой прошлого опыта, и есть основной и громадный недостаток вашей резолюции.
(Я приведу далее основные тезисы выступления Адольфа. Если вам покажется, что имеет смысл распубликовать для польских пролетариев целиком текст нашего выступления, – вышлю немедленно, ибо писали мы его вместе, почерк мой знаком вам, расшифруете легко.)
В а р ш а в с к и й. – Товарищи! Вопрос сводится к тому, о чем мы уже все спорили, – об оценке момента. Ведет ли объективный ход революции к Думе или к восстанию? Вся разница состоит в том, что Дума, по мнению Плеханова, может сыграть и сыграет роль Конвента Великой французской революции. Но я думаю, что это иллюзия, что в России нет элементов для создания из Думы Конвента. Значит, если революция будет развиваться дальше, то центр ее будет не в Думе, а в восстании. Здесь спорили о значении декабрьского восстания, называли его поражением. Если смотреть на это восстание не с военно-технической точки зрения, а с точки зрения развития объективного хода революции, то это восстание было поражением царизма, а не революции, поражением народных иллюзий о царизме.
Пока все.
Постарайтесь – хоть сократив – дать в номер эту корреспонденцию. Подчеркните: председательствующий поставил на голосование резолюции большинства и меньшинства. Прошла резолюция Плеханова и Дана. Увы, это сплошная партийная арифметика. А с арифметикой в век механики трудно, жизнь следует рассчитывать по законам высшей математики... Уповать на Думу – я совершенно согласен с Лениным – недальновидно и несерьезно..."
Стук в дверь был мягкий, осторожный, словно кошка прикоснулась подушечками, убрав коготки.
Дзержинский удивился: недавно слышал часы на ратуше, отзвонили полночь. Подумал было, что заглянул Варшавский, может, что срочное, получил какую корреспонденцию из Польши.
– Это ты, Адольф? – окликнул негромко. – Входи, не заперто.
Дверь открылась; на пороге стоял Витольд "Бомба", член ЦК ППС, Дзержинский схватывался с ним в ту еще пору, когда "Бомба" стоял на распутье, раздумывал, куда повернуть – к левым национальным демократам или к социалистам, выбрал Пилсудского, пошел в террор, в Женеве, рассказывали, сблизился с Савинковым.
– Здравствуйте, товарищ Кжечковский.
– Здравствуйте, товарищ Бомба.
– Простите за поздний визит.
– Ничего, я уж почти закончил работу, входите.
– За вами здесь смотрят, товарищ Юзеф.
– Я знаю.
– Заметили филеров?
– И это тоже.
– Известно вам, что настоящая фамилия Трумэна, который привез сюда Леопольда Ероховского, покойного ныне, – Глазов?
– Спасибо за информацию. Адрес его известен?
– Пока нет. Если очень нужно – постараюсь выяснить. Мы готовы помочь вам.
– Пришли разговаривать?
– Да, товарищ Юзеф. Пришел по уполномочению моего Цека, пришел разговаривать с вами, пришел просить вас – быть может, последний раз одумайтесь...
– Я не совсем понял вас, товарищ Бомба.
– Мы знаем, что завтра на съезде у русских будет решаться вопрос объединения с поляками...
– Кто вам сказал об этом?
– Товарищ Юзеф, моя партия умеет работать, вы это знаете. Да и с Глазовым – мы, а не вы смогли выявить его здесь. Так вот, Завтра на съезде будет стоять этот вопрос, Я уполномочен просить вас: не предпринимайте этого шага, удержите Адольфа Варшавского, вы это можете, товарищ Юзеф... Неужели вам мало того позора, который пришлось пережить на первых заседаниях? Вас же отшвырнули ногой, как котят. Неужели вы простили это унижение? Тридцать тысяч поляков, пусть даже социал-демократов, – но поляков же, товарищ Юзеф, поляков, просили принять в партию, а им отказали, издевательски, хитро, коварно! Неужели вы решитесь и завтра на постыдное шествие в Каноссу?
– Вы смешно сказали, товарищ Бомба... "Пусть даже социал-демократы"... Странно, что вы пришли ко мне с этим... Неужели Пилсудский не рассказывал вам о моей позиции? Да и наши с вами схватки...
– Товарищ Юзеф, все может измениться, все может пойти не так, как мы полагаем сейчас, но одно должно свершиться – должна с т а т ь Польша.
– Станет, – согласился Дзержинский. – Уверен.
– Как же вы тогда будете смотреть в глаза полякам? В независимой Польше русская партия во главе с Люксембург и Дзержинским?! Вы будете жить по русским паспортам? Как иностранцы? Этого наша власть не позволит, товарищ Юзеф, Польша – для поляков...
– Что будете делать с украинцами? Белорусами? Немцами? Евреями? Как поступите с ними в в а ш е й Польше? Которая будет не для кого-нибудь, а для поляков, ясное дело...
– Либо они примут п о л ь с к о с т ь как норму, либо им придется туго...
– Польскость – это как? Я снова не понимаю. Католицизм?
– Польскость – это польскость, неужто не понятно, товарищ Юзеф?! Вы дворянин, в конце концов в вас не может не говорить кровь!
– Вы с ума сошли, – со страхом сказал Дзержинский. – Вы просто-напросто сошли с ума, Бомба, я ушам своим не верю, вы же социалист как-никак?
– Мицкевича вы любите?
– При чем здесь Мицкевич?!
– При том, что он дворянин, и это не мешало ему уйти в революцию, не мешало ощущать нашу особость, нашу боль и мечту, звать народ к борьбе, жертвовать собою, безбоязненно рвать с прежними друзьями – во имя Польши!
– Товарищ Бомба, ну ответьте мне, неужели вы и впрямь верите, что Польша может с т а т ь без того, что рухнет царизм? Неужели вы считаете, что мы сможем сами, без помощи русских товарищей, свалить монархию? Сколько можно фразерствовать, товарищ Бомба?! Из-за вашей прекрасной фразы тысячи поляков выйдут на борьбу и полягут под царскими пулями – неужели этого вы хотите?! Национализм такого рода не интеллигентен, товарищ Бомба! Это черная сотня в польском исполнении, это эндеция, граф Тышкевич это!
– А как быть с Генриком Сенкевичем? Разве он не есть совесть народа? А ведь он поддерживает Тышкевича...
– Он имеет право на ошибку, он беспартийный художник! Он уйдет от Тышкевича, уйдет! А вот партия, которая называет себя социалистической, партия, которая хочет быть выразителем класса, на ошибку не имеет права! Или переименуйте свою партию! Тогда ошибайтесь, не страшно! Когда и если революция приобретет национальную окраску, вроде вашей – "Польша для поляков", тогда начнется погром, товарищ Бомба! Мне стыдно за вас! Мне совестно!
– Товарищ Юзеф, – по-прежнему бесстрастно продолжал Бомба, – сейчас, накануне решительного восстания польского пролетариата против русского царизма, накануне схватки за свободу нашей с вами родины, как никогда важно единство, пусть даже формальное. Царизм ослаблен, царизму приходится держать гарнизоны в России. Мы не имеем права не воспользоваться этим обстоятельством. Неужели ваша партия, когда мы поднимем народ, останется в стороне от борьбы? Неужели вы согласитесь подчиняться указаниям из Петербурга?
– Если бы Петербург попросил вас обождать с восстанием, начать его одновременно с русскими, вы бы согласились?
– Нет. Мы сами отвечаем за поступки своего народа.
– Товарищ Бомба, не надо нам этот разговор продолжать, а? Не знаю, как вы, а я после таких разговоров плохо сплю. А мне завтра работать.
Бомба кашлянул, прикрыл глаза ладонью, сказал тихо:
– Товарищ Юзеф, наша партия готова взять на себя ответственность за акт против Попова...
– А это здесь при чем?!
– При том, что русские эсдеки отвергают террор, а вы посмели ослушаться своих руководителей... Мы готовы принять на себя ответственность – мы не боимся террора, а вы отложите объединение... Если восстание закончится неудачей, мы снимем свою просьбу – объединяйтесь... Мы думаем о вас, о вашей чести, товарищ Юзеф, ведь вы же поляк...
– Фу, черт! – Дзержинский не сдержался. – Хватит вам! Это тяжко слушать! И потом, мы не нуждаемся ни в каком оправдании с Поповым.
– Нуждаетесь, товарищ Юзеф, – Бомба говорил тягуче, спокойно, по-прежнему не открывая глаз, будто проповедник. – Вы отступили от вашей доктрины.
– Вы не знаете нашей доктрины. Мы были и будем против террора, но мы стояли и станем в будущем выступать за борьбу – в том числе партизанскую против врага. Особенно против такого врага, который занес руку над организацией!
– Пресса представит этот акт совершенно иначе, товарищ Юзеф. Вас будут обливать грязью.
– Вы полагаете, мы этого убоимся? Разве раньше наши лики расписывали на стенах костелов?! До сей поры наши имена прославляли газеты?! Ваше предложение носит характер торгашеской сделки, товарищ Бомба!
– Вы верно определили суть, товарищ Юзеф. Я предлагаю сделку. Но я не согласен с определением сделки. Это не есть торгашество. Я рисковал жизнью, лез через границу, чтобы приехать сюда, я рисковал, занимаясь Глазовым, чтобы сообщить вам об опасности. Я рискую своим именем, потому что я не оговорил условия нашего собеседования, и вы сможете обернуть против меня ваши аргументы в "Штандаре". Я иду на этот риск не как торгаш, а как поляк: остановитесь, товарищ Юзеф! Удержите поляков от унизительного подчинения русским! Останьтесь поляком, товарищ Юзеф! Останьтесь поляком!
– Чтобы остаться поляком, – ответил Дзержинский, – я должен всегда быть вместе с русскими, товарищ Бомба.
"Варшава. Редакция "Червоного штандара".
Дорогие товарищи!
Поздравляю вас с объединением! Наша партия вошла в РСДРП! Когда вернусь расскажу все подробно. Вернусь, впрочем, осенью – не раньше, поскольку введен в ЦО РСДРП ч поэтому теперь придется поработать в Петербурге. Адрес для связи пришлю с Адольфом и Ганецким.
Ваш Юзеф.
Прилагаю текст речи Адольфа,
"Варшавский. – Позвольте мне сказать несколько слов о значении, которое мы придаем настоящему акту. То, что мы теперь здесь сделали, есть чистейшая формальность, ибо на самом деле, а не на фразах, мы были до сих пор в одном лагере и вели одну общую борьбу. Это до такой степени верно, что никто из рабочих в нашем крае не сомневался, что мы всегда составляли и составляем часть Российской партии. Мы всегда чувствовали себя как часть общерусского рабочего класса, как часть единой армии. Мы всегда помнили и будем помнить выступление петербургского пролетариата в защиту пролетариата Польши по поводу безобразий, которые делались у нас, по поводу военного положения. Это показывало, что разъединить революционную борьбу Польши и России на две части, на польскую и русскую, как этого кое-кто котел, натравить нацию русскую на польскую оказалось невозможным. Выступления русского пролетариата доказывали, что русские рабочие считали себя в одном лагере, так же, как считали мы, поляки. Это и фиксирует тот договор, который мы только что заключили.
Ленин. – Я думаю, что выражу этим волю всего съезда, если заявлю от имени Российской социал-демократии приветствие новым членам ее и пожелание, чтобы это объединение послужило наилучшим залогом дальнейшей успешной борьбы".
"Министру Шутте
Господин министр!
Г-н Кжечковскнй, – после того, как мои друзья проинформировали его о в е р о я т и я х, – позвонил мне, и мы встретились вчера вечером в 21.30.
Г-н Кжечковский (подлинное его имя Феликс, фамилия Дзержинский, польский барон, перешедший на сторону революционеров, разыскивается полицией, причислен к разряду "особо опасных преступников" Империи) вручил мне копию допроса полковника полиции г-на Игоря В. Попова, пояснив, что текст написан г-ном Поповым собственноручно. В случае возникновения сомнений в подлинности документа, г-н Кжечковский-Дзерживский обещал предоставить в распоряжение графологических экспертов Королевского Суда письма того же г-на Попова к его жертве, актрисе, г-же Микульской.
Г-н Кжечковский-Дзержинский также ознакомил меня с показаниями бывшего ротмистра тайной полиции г-на Андрея Е. Турчанинова о преступной деятельности гг. Попова и Глазова, однако вручить копию документа в настоящий момент отказался, сказав, что "те газеты, коим мы передали исключительные права на публикацию – в случае надобности – в с е х материалов, по делу г-на Попова, могут расторгнуть договор, а это ослабит силу нашего удара против деспотов, нарушающих даже те малые свободы, которые была получены народом после высочайшего манифеста. Собранные нами материалы, – заключил г-н Кжечковский-Дзержинскнй, – позволяют сделать вывод, что лица, подобные гг. Глазову и Попову, не просто садисты и насильники, но правонарушители, ибо они постоянно преступали тот закон, который был распубликовав правительством осенью 1905 года, обещавший амнистию и гласность".