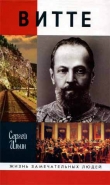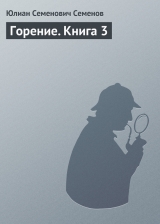
Текст книги "Горение (полностью)"
Автор книги: Юлиан Семенов
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 64 (всего у книги 99 страниц)
П р е д с е д а т е л ь. Суд не интересует, какой ответ желала бы дать социал-демократическая фракция! Говорите о том, что вас привело к составлению и подписанию выборгского воззвания!
Р а м и ш в и л и. Я желал бы...
П р е д с е д а т е л ь. Я вновь заявляю, что полемики с собой не допущу.
Р а м и ш в и л и. Мы находим, что ответ был недостаточен.
П р е д с е д а т е л ь. Повторяю, это суду не интересно.
Р а м и ш в и л и. Выборгское воззвание не послужило сигналом к восстанию. Оно скорее сыграло успокаивающую роль. В залу суда нас привели не за те революционные последствия, которых воззвание не могло вызвать, а за наше выступление против факта разгона Думы. В заключение моего принужденного слова...
П р е д с е д а т е л ь. Вас никто не принуждал говорить.
Р а м и ш в и л и. Я считаю свое слово принужденным потому, что вы лишили меня права сказать то, что я хотел. Конечно, вы можете наложить наказание, и мы будем его нести, но нам важен другой суд. Во Вторую думу были выбраны такие же, как мы. И Вторую думу разогнали, а моих друзей осудили в каторгу! Над нами же, членами Первой думы, произвело свой суд все культурное человечество. В Западной Европе состоялись десятки народных митингов, высказавших сочувствие русским. И вы знаете, что это были собрания не пролетариата, который вы преследуете огнем и мечом, а всех граждан. Даже в Англии представитель власти сказал: "Убили Думу, да здравствует Дума". Этот великий суд человечества – за нас! Вы можете дать нам наказание. Но раз страна поставила свои вопросы – от них вам не уйти! Правительству остается одно – пойти на уступки, или сама жизнь его заставит уступить.
П р е д с е д а т е л ь. Не касайтесь правительства!
Р а м и ш в и л и. То обстоятельство, что Первая Государственная дума – на скамье подсудимых, говорит, что правительство, несомненно, на уступки не пойдет. Итак – слово за народом!
После речи подсудимого Рамишвили объявляется перерыв.
Подсудимые – левые, трудовики и социал-демократы – подходят к оратору и благодарят за великолепно сказанную речь. Сам Рамишвили кажется еще бледнее и худее (если только это возможно!).
Через час заседание возобновляется.
Т о в а р и щ п р о к у р о р а З и б е р т. В чем обвиняются бывшие члены Государственной думы? В том, что распространяли воззвание, призывающее к неповиновению законам. Поэтому раньше всего нам нужно остановиться на содержании распространенного воззвания. Оно призывает население России к неповиновению законам. В течение всего судебного следствия подсудимые говорили о том высоком пьедестале, на который их поставила история за то, что они совершили. Но я думаю, что перед судом истории этот пьедестал вряд ли устоит. Я думаю, господа судьи, что история через несколько лет скажет нам: "Я не понимаю, почему вы, бывшие депутаты Первой думы, которые призваны были издавать новые законы, сочли, что вы сами выше закона?! Я не понимаю, почему вы, призванные законодательствовать, сочли себя вправе совершить преступное деяние, предусмотренное существовавшими законами, и, когда вас за это преступление привлекли к суду, возмущались этим судом? Почему вы пошли, против родины?!" Хотя вы говорите, что ваши действия были направлены против правительства, однако правительство и страна настолько тесно связаны у нас, что такой способ борьбы против правительства допустим быть не может. Какая бы борьба ни велась против него, она является всегда преступлением...
...Герасимов обвел взглядом зал – ряд за рядом, лицо за лицом, не торопясь; отчет о реакции собравшихся (в случае, если она будет такой, как предполагалась) доложит Столыпину сегодня же.
По тому, как хорохористо поднимались со своих скамеек подсудимые (все, кроме Рамишвили и Окунева, под стражей не состояли – ни сейчас, ни все время следствия), понял, что его задумка удалась; гордые дракой, веселые, окруженные толпой репортеров, бывшие члены Думы шли к выходу, как триумфаторы; вполне демократичный спектакль; Столыпин будет доволен; о нынешнем положении в стране речи не было, а именно этого и опасался Петр Аркадьевич; что ж, победа!
Задержавшись взглядом на Дзержинском (очень значительное лицо, черты кажутся знакомыми; явно не русский, – значит, поэтому и не сидел в закутке, а устроился здесь, среди слушателей, добрую половину которых составляла агентура охранки; "положительно, я видел его, только не могу взять в толк, фотографическое ли изображение, или же встречались в свете"), Герасимов медленно поднялся со скамьи.
...Отчего судейские даже зрителей заставляют сидеть в неудобной позе, подумал он. Неужели для того, чтобы всех подданных приучать к идее н е с в о б о д ы, которая связывается с самим понятием российского закона, выраженного через сам дух зала, где слушается д е л о? Чуть прихрамывая (конспирация, на хромого не подумают, что шеф охраны), двинулся следом за подсудимыми, которым загодя дали понять, что никому из них не грозит арест: джентльменский уговор можно и не скреплять актом подписания, народ у нас извилистый, все между строк читает, там же ищет надежду, ненависть, любовь и страх...
Кучеру сказал везти на конспиративную квартиру, обедать; и сам отдохни, дружок; будь у меня через два часа, не раньше. Змейство хитрости
На второй день процесса, когда объявили очередной перерыв, Дзержинский вышел на, Литейный и остановил мальчишку, который размахивал над головой пачкой газет, выкрикивая:
– Думские интеллигентики поднимают руку на святое! Русь не пощадит отступников! Читайте "Волгу" и "Россию"! Самая честная информация, истинно национальный голос!
– Ну-ка, давай мне все истинно национальные голоса, – улыбнулся Дзержинский.
– А вот оне! – мальчишка с трудом разжал синие, скрючившиеся на морозном ветру пальцы. – Берите, дяденька, у меня сил нету рукой шевелить...
Дзержинский достал из кармана своей легкой франтоватой пелерины перчатки, надел мальчишке на руки.
– И не кричи так, не надрывайся, голос сорвешь, ангину получишь...
Перешел проспект, толкнул тяжелую дверь чайной и устроился с газетами возле окна (после первой ссылки норовил устраиваться так, чтобы обзор был надежней; тогда же понял, как важно пробиться поближе к свету в тюремной теплушке, особенно когда открывается кровохарканье; не мог забыть, как студент Ежи Гловацкий, боевик Пилсудского, как-то сказал: "Милый Юзеф, учитесь мудрости у собак: они ложатся именно там и так именно, как более всего угодно их организму; животные осознают себя с рожденья; мы – только перед смертью").
Пробежав "истинно национальные голоса", Дзержинский задержался на тех абзацах, которые можно использовать в развернутых корреспонденциях; подчеркивая, ярился, вчитываясь в текст:
"Подсудимые позорили Думу своим поведением, своим нескрываемым сочувствием крамольникам и явным покровительством им. Какие же это радетели о благе народа, реформаторы судеб государственных и чем они схожи с конституционалистами?! Кто же не понимает, что это люди личных страстей, безвольные их рабы, притом одержимые манией величия, для которых весь интерес заключается в том, чтобы при всяком удобном случае поафишировать себя!
Мы, хвастаются они на суде, всему делу голова, мы порешили реформу еще на земском съезде: "Манифест 17-го октября" лишь мудрое исполнение нашего плана. Они ничего не хотят оставить на долю истории, умственного прогресса и инициативы личной воли Монарха... Трутни вы в государственном улье! Кликуши, болтуны!
Подсудимый Кокошкин с пафосом рассказывал, что они; видите ли, желали сделать Россию свободным правовым государством – счастливым и процветающим! Недурное правовое государство, в котором экс-депутаты сочиняют мятежные прокламации! Какая наивность – думать, что всякие Кокошкины, Петрункевичи, Набоковы, Винаверы, Рамишвили могут создать счастливую и цветущую Россию! Ну, не пустомели разве, не кликуши?! Нашей японской катастрофе много помогли "идеалисты", которые занимались "освободительным движением" во время войны. Такие "идеалисты" и внутри России устраивают лагери для тушинских воров и воспособляют им, – недаром мы пережили ряд Цусим не от внешнего врага, а от внутреннего!
...Но мне все-таки жаль их. Это люди не ума, не таланта, не серьезных знаний, – это люди страстей, безвольные маниаки, одержимые манией величия, прекрасно исполняющие роль Хлестакова. Будь они не взрослые, я бы применил к ним педагогический способ лечения, а так как они все мужи уже зрелые, то самое лучшее было бы предложить им оставить Россию и не пытаться впредь ей благодетельствовать. Здесь такие кликуши вредны, особенно в переживаемое время. Пусть воображают себя великими людьми в изгнании, лишь бы не пакостничали на родине".
...Решив посетить биржу (почувствовал в себе игрока, хотя крупно ставить пока еще не решался), Герасимов загодя знал, что на вечернее заседание суда вполне можно и задержаться; идет задуманный им и прорепетированный заранее спектакль; пусть говорильня продолжается, – подарок прессе после безжалостного военного суда над социал-демократами Второй думы, распущенной полгода назад; дали голубоньке поработать только семь месяцев, пока Столыпин готовил новый выборный закон: от тысячи дворян – один выборщик; от ста двадцати пяти тысяч рабочих – тоже один; тут уж левый элемент не пролезет, дудки-с, пришла пора сформировать Думу угодную правительству, а не наоборот. Ан – не вышло! Герасимов точно, в самых мелких подробностях помнил свою операцию по разгону Второй думы, которая оказалась еще более левой, чем Первая, – за счет ленинцев, плехановцев и трудовиков; Столыпин даже горестно усмехнулся: "А может, воистину, Александр Васильевич, от добра добра не ищут? Мы же во Второй думе получили настоящих якобинцев в лице социал-демократов; в Первой думе подобного не было".
Столыпин – всего за несколько месяцев пребывания у власти – научился византийскому искусству политической интриги: он теперь выражал мысль и желание не столько словом, сколько взглядом, аллегорическим замечанием, намеком. Конечно, это сказывалось на темпоритме работы, ибо приходилось не час и не день, а порою неделю раздумывать над тем, как прошла беседа с премьером, вспоминать все ее повороты и извивы, строить несколько схем на будущее и тщательно их анализировать, прежде чем принять более или менее определенное решение. Проклятому англичанину легче: бабахнул от чистого сердца речь в парламенте, назвал всё своими именами – и айда вперед! А у нас сплошная хитрость и постепенная осторожность! Несчастная Россия, кто ее только в рабство не скручивал?! Триста лет инокультурного ига, триста лет собственного крепостничества, сколько же поколений раздавлены страхом?! Герасимов иногда с ужасом прислушивался к тем словам, которые постоянно, помимо его воли, жили в нем; покрывался испариной, будто какой пьяница, право; наказал лакею заваривать валерианового корня, – не ровен час, брякнешь что, не уследив за языком, вот и расхлебывай; у нас все, что угодно, простят, кроме с л о в а.
После трех дней, прошедших с того памятного разговора, когда Столыпин заметил, что Вторая дума оказалась еще хуже Первой, Герасимов отправился к премьеру и за чаем, перед тем как откланяться, п р о б р о с и л:
– Петр Аркадьевич, полагаю, если бы правительство потребовало от Думы выдать закону социал-демократическую фракцию, лишив этих депутатов неприкосновенности, нужный баланс правого и левого крыла обрел бы желаемую стабильность.
Столыпин отставил подстаканник (никогда не держал блюдца), покачал головой:
– Да разве они пойдут на это? Думе престижнее принять из моих рук рескрипт о новом роспуске, чтобы затем попрекать диктаторством, нежели выдать правосудию социал-демократических террористов...
Это был уж не намек, но план желаемой комбинации: никого не должно волновать, что социал-демократы были традиционными противниками террора; совершенно не важно, что доводы депутатов – будь то ленинцы или плехановцы опровержениям не поддавались; отныне ход затаенных мыслей премьера сделался Герасимову совершенно понятным.
Утром пригласил в кабинет подполковника Кулакова:
– Вы как-то говорили о вашем сотруднике... "Казанская", кажется? Она по-прежнему освещает социал-демократов?
– Конечно.
– Фамилия ее...
– Шорникова, Екатерина Шорникова.
– Она с вами в Казани начала работать?
– Да.
– Смышлена?
– Весьма.
– Сейчас, если мне не изменяет память, она состоит секретарем военной организации социал-демократов?
– Да. И пропагандистом.
– Прекрасно. Сколько вы ей платите?
– Пятьдесят рублей ежемесячно.
– Не будете возражать, если я встречусь с ней?
– Хотите забрать себе? – усмехнувшись, спросил Кулаков. – Обидно, конечно, я ее три года пестовал...
– Помилуйте, подполковник, – удивился Герасимов, – неужели вы допускаете мысль, что я могу позволить себе некорпоративный поступок?! Шорникова была, есть и впредь будет вашим, и только вашим сотрудником. Речь идет лишь о том, чтобы я ее сам помял – сколь может оказаться полезной в том предприятии, которое нам предстоит осуществить...
– Извольте назначить время, Александр Васильевич... Я вызову ее на конспиративную квартиру.
...Оглядев Шорникову оценивающим взглядом – ничего привлекательного, лицо обычное, хоть фигурка вертлявенькая, – Герасимов пожал влажную ладонь женщины (двадцать четыре года всего, а выглядит на тридцать с гаком; что страх делает с человеком), поинтересовался:
– Что будете пить, Екатерина Николаевна? Чай, шоколад, кофей?
– Кофе, пожалуйста.
– Покрепче?
Шорникова пожала плечами:
– Я не очень ощущаю разницу между обычным и крепким.
– Ну что вы, милая?! Крепкий кофе отличим сугубо, горчинка совершенно особая, очень пикантно...
Герасимов приготовил кофе на спиртовке, подал тоненькую чашечку женщине, поставил перед нею вазу с пирожными, себе налил рюмку коньяку, поинтересовавшись:
– Алкоголь не употребляете?
– Когда невмочь, – ответила женщина, выпив кофе залпом.
– Не изволите ли коньячку?
– Нет, благодарю. У меня сегодня встреча в организации, там нельзя появляться, если от тебя пахнет...
– Да, да, это совершенно верно... Екатерина Николаевна, вы решили работать с нами после того, как вас арестовали в Казани?
– Именно так.
– К какой партии тогда принадлежали?
Шорникова несколько раздраженно спросила:
– Разве вы не почитали мой формуляр, прежде чем назначить встречу?
Наверняка подполковник Кулаков п р о с в е щ а л барышню подробностям нашего ремесла в постели, подумал Герасимов, откуда б иначе в ее лексиконе наше словечко? Хотя ныне революционер Бурцев и похлеще печатает в "Былом", а дамочка, судя по всему, не чужда книге.
– Конечно, читал, Екатерина Николаевна, как же иначе... Позвольте полюбопытствовать: откуда к вам пришло это типично жандармское словечко?
Шорникова как-то странно, словно марионетка, пожала острыми плечами, отчего ее голова словно бы провалилась в туловище, и, задумчиво глядя в переносье полковника недвижными глазами, заметила:
– Плохо, что вы, руководители имперском охраны, встречаете настоящих революционеров только в тюрьме, во время допросов. Там вы кажетесь себе победителями; послабее, вроде меня, ломаются в казематах, но ведь таких меньшинство... Вам бы самим парик надеть, очки какие, тужурку поплоше да походить бы на рефераты эсдеков или эсеров... Это ведь не сельские сходки, куда урядники сгоняют послушных мужиков, это турниры интеллектов... Там не то что "формуляр" услышишь, там такие ваши понятия, как "освещение", "филерское наблюдение", "секретная агентура", разбирают досконально не по книгам, как-никак собираются люди большого эксперимента... Вас как звать-то? неожиданно спросила Шорникова. – Или – секрет? Тогда хоть назовитесь псевдонимом, а то мне с вами говорить трудно.
– Меня зовут Василием Андреевичем. Я коллега по работе вашего руководителя...
– Кулакова, что ль?
– Он вам представился такой фамилией?
Шорникова сухо усмехнулась:
– Нет. Он назвался Велембовским. Но в тех кругах, где я вращалась в Казани до ареста, о Кулакове было известно все... В работе со мною он соблюдал инструкцию, не сердитесь на него, он себя не расшифровывал...
– Екатерина Николаевна, скажите откровенно, – начал Герасимов, испытывая некоторое неудобство от моментальной реакции молодой барышни, – он понудил вас к сотрудничеству? Или вы сами решили связать свою жизнь с делом охраны спокойствия подданных империи?
– Не знаю, – ответила Шорникова. – Сейчас каждый мой ответ будет в какой-то степени корыстным... Да, да, это так, я сама себя потеряла, господин Герасимов... То есть Василий Андреевич, простите, пожалуйста...
– Изволили видеть мой фотографический портрет?
– Нет. Но словесный портрет знаю... Как-никак я член военного комитета социал-демократов... Охранников, особенно таких, как вы, наиболее именитых, надобно знать в лицо...
– Не сочтите за труд рассказать, кто составил мой словесный портрет.
– Да разве мои коллеги по борьбе с самодержавием допустят такое, чтобы остались следы? – Шорникова вдруг странно, словно вспомнив что-то комическое, рассмеялась: – Н а ш и конспираторы учены получше в а ш и х...
– А все-таки кто вам ближе по духу? Я ни в коей мере не сомневаюсь в вашей искренности, вопрос носит чисто риторический характер, поверьте. Один мой сотрудник – мы близки с ним, дружим много лет – признался, что в среде прежних единомышленников ему дышится вольготнее, чище... Я поинтересовался: отчего так? И он ответил: "В ваших коллегах порою слишком заметны алчность и корысть, инстинкт гончих... И никакой идеи – лишь бы догнать и схватить за горло". Я возразил: "Но ведь венец нашей работы – это вербовка бывшего противника, заключение договора о сотрудничестве, дружество до гробовой доски". А он мне: "Самое понятие "вербовка" таит в себе оттенок презрительности. У вас завербованных "подметками" зовут". На что я ему заметил: "Я бы, имей силу, таких офицеров охраны ссылал в Сибирь". А он горестно вздохнул: "Станьте сильным! Тогда мне в вашей среде будет лучше, чем в той, с которой я порвал не из-за давления ваших офицеров, не под страхом каторги, не из-за денег, а потому лишь, что "Бесов" прочитал с карандашом в руке и фразочку Федора Михайловича подчеркнул: "Социализм – это когда все равны и каждый пишет доносы друг на друга". Сильно сказано, кстати... Нет надежды на справедливость, химера это... Надо быть с теми, кто в данный момент сильней..." Вот так-то, Екатерина Николаевна...
– Что касается меня, – Шорникова снова подняла острые плечи, – то я испугалась тюрьмы, Василий Андреевич... Тюрьма очень страшное место, особенно для женщины... Я обыкновенный корыстный предатель... А Достоевский не русский литератор... Он только потому прославился, что конструировал характеры на потребу западному читателю. Пушкин-то выше... И Салтыков... А нет им пути на Запад... Так что Достоевский в определении моего жизненного пути никакой роли не сыграл... Корысть, обостренное ощущение неудобства, страх... Я надежнее вашего друга, который подчеркивал строчки в сочинении мракобеса... Я гадина, Василий Андреевич, мне пути назад нет, а ваш друг был двойником, вы его бойтесь.
Ну и девка, подумал Герасимов, ну и чувствования, Кузякин-то и вправду был двойником, но меня это устраивало, я его как через лупу наблюдал, психологию двойного предателя тайной полиции надобно знать, без этого никак нельзя...
– Зря вы эдак-то о себе, – заметил Герасимов, вздохнув, и сразу же понял, что женщина ощутила неискренность его вздоха; не взбрыкнула б, стерва; агент тогда хорошо работает, когда в империи мир и благодать, а если все враскачку идет, вильнет хвостом – ищи ветра в поле! И так секретных сотрудников остались десятки, а раньше-то сотнями исчислялись, товар на выбор. – Я к вам с серьезным предложением, Екатерина Николаевна... Но если позволите, поначалу задам вопрос: списками военной организации вы владеете в полной мере?
– Конечно.
– Недоверия к себе со стороны т о в а р и щ е й не ощущали?
– Нет.
– Сердитесь на меня?
– Теперь – нет... А когда вознамерились прочитать проповедь о том, сколь благородна моя работа и как вы цените мой мужественный труд, я захолодела... Не надо эмоций, господин Герасимов. Я слишком эмоциональна, поэтому предпочитаю отношения вполне деловые: вы оплачиваете мой труд, я гарантирую качество. И – все. Уговорились?
– Конечно, Екатерина Николаевна. Раз и навсегда... Поэтому я совершенно откровенно открываю мой замысел, хотя делать этого – вы же всё про нас знаете – не имею права... Мне хотелось бы организационно связать военную организацию партии с думской фракцией социал-демократов... Возможно такое?
– Думаю – да.
– Как это можно сделать?
– Очень просто. Я з а п у щ у эту идею матросикам и солдатам, что нужно связаться с социал-демократами и передать им наказ о солдатских требованиях к правительству. Вам ведь не моя организация нужна, а социал-демократы в Думе, так, видимо?
– Ну, это как пойдет, – с некоторым страхом ответил Герасимов – так точно в десятку била барышня.
Шорникова поморщилась:
– Будет вам, полковник... Начинаете серьезное дело и не верите тому, кто вам его п о с т а в и т... Мы ведь, перевербованные, люди обидчивые, вроде женщин в критическом возрасте... Если уж начинаем дело – так доверие, причем полное, до конца... Я ведь знаю всех членов ЦК, часто встречалась с Карповым, Чхеидзе, Мартовым, Доманским, Троцким...
– Карпов – это...
– Да, да, именно так, – Ленин.
– Где он, кстати, сейчас?
– Постоянно меняет квартиры, вы ж за ним охотитесь, газеты с его статьями конфискуете...
– Словом, место его нынешнего жительства вам неизвестно?
– Нет.
– А сможете узнать?
– По-моему, связав военную организацию с думской фракцией социал-демократов, вам будет легче нейтрализовать Ленина.
– Разумно, – согласился Герасимов.
– Все явки военной организации, все с в я з и хранятся у меня дома, господин полковник...
– Видимо, для надежности охраны этого бесценного архива стоит завести какую-нибудь кухарку, няньку, что ли? Пусть постоянно кто-то будет у вас дома...
– Хотите подвести мне своего агента? – понимающе уточнила Шорникова. – Вы ж меня этим провалите: хороша себе революционерка, кухарку завела...
– Мы имеем возможность контролировать вашу искренность по-иному, Екатерина Николаевна... Более того, мы это делаем постоянно... И я не обижусь, ежели вы – своими возможностями – станете проверять мою честность по отношению к вам... Ничего не попишешь, правила игры...
– Я не играю, – отрезала Шорникова. – Я служу. А коли употребили слово "играю", то добавьте: "со смертью". Каждый час. Любую минуту.
– Екатерина Николаевна, я счастлив знакомству с вами, право... Беседовать с вами сложно, но лучше с умным потерять, чем с дурнем найти... Вы правы, я сказал несуразность, – ни о какой кухарке не может быть и речи... Просто я неумело и топорно намекнул на возможность прибавки дополнительных денег к вашему окладу содержания... Вы пятьдесят рублей в месяц изволите получать?
Шорникова снова засмеялась, будто вспомнила что-то забавное:
– Надобно иначе сказать, Василий Андреевич... Надобно сказать: "Мы платим вам пятьдесят рублей в месяц..." Не я изволю получать, как вы заметили, а вы мне о т с т е г и в а е т е... Мне не надо дополнительной платы, я удовлетворена тем, что имею.
– Во всяком случае, в любой момент я оплачу все ваши расходы. Все, Екатерина Николаевна. И мне, кстати говоря, будет очень приятно сделать это... Превыше всего ценю в людях ум и особую изюминку... Вот, кстати, вы бранили Достоевского, – мол, на потребу Западу пишет... А ведь вы – русская, до последней капельки русская, но стоит записать наш с вами разговор – вот вам и глава из ненапечатанного романа Достоевского...
– Спаси бог... Одна надежда на власть: цензурный комитет такую книгу запретит, – Шорникова сказала это серьезно, зрачки расширились, сделавшись какими-то фиолетовыми, птичьими. – У тех, кто отступил, одна надежда, господин полковник... Имя этой надежде – власть.
– Сильная власть, – уточнил Герасимов, – способная на волевые решения... Кстати, Доманский это кто?
– Это псевдоним. Настоящая фамилия этого члена ЦК Дзержинский.
– Не тот ли, что особенно дружен с Лениным, Бухариным и Люксембург?
– Именно.
– Где он сейчас?
– Здесь. Координирует работу поляков и литовцев с русскими.
– Адрес его явок вам известен?
– Он умеет конспирировать, как Ленин.
– Поищем сами... Когда вы сможете внести свои предложения по поводу думской фракции социал-демократов и их связей с военной организацией партии?
– Связей нет, Александр Васильевич, – Шорникова вздохнула. – Или продолжать Василием Андреевичем вас величать? Нет связей. Зачем вы так? Мы же уговорились говорить правду... Связь военных с думской фракцией надо создать...
Вскоре Герасимов получил информацию, что двадцать девятого апреля девятьсот седьмого года в общежитии политехнического института, в присутствии члена Государственной думы, социал-демократа Геруса, состоялось собрание солдат, на котором по предложению "пропагандиста" Шорниковой было решено послать в Государственную думу – от имени военной организации – наказ социал-демократической фракции, в котором будут изложены пожелания армии...
Сразу же по прочтении этого сообщения Герасимов отправился к Столыпину.
– Я бы хотел прочитать текст этого наказа, – сказал премьер. – Скажите на милость, к армии подбираются, а? Ну и ну! Такого я себе представить не мог! Это же прямой вызов трону, не находите?!
Эк играет, подумал тогда Герасимов, будто бы и не он подтолкнул меня к этой комбинации! Или у них, у лидеров, отшибает память? Выжимай из себя по каплям раба, подумал Герасимов; прав был Чехов, все мы рабы; Петр Аркадьевич прекраснейшим образом помнит наш разговор и результатов моей работы ждал затаенно; наконец дождался; все он помнит, но играет свою партию, играет тонко; впрочем, жить ему не просто, кругом акулы, так и норовят схарчить; у нас ведь только тем и занимаются, что друг друга подсиживают; это и понятно делом заниматься трудней, ответственности больше, знания потребны, смелость, а интриги сами по себе живут: з а п у с т и слух, поболтай в салонах, сочини подметное верноподданное письмо, засандаль статейку – через своих п е р е в е р т ы ш е й – в парочке контролируемых изданий, вот и понеслось! Дело – тяжко, да и ближе к идее истинного равенства: тот, кто сильнее и умней, получает больше, набирает силу и влияние, а ведь легче не дать другому, чем научиться самому. Да и через наших чиновников с каким делом пролезешь? Всё душат на корню, ястребы какие-то, фискалы тупоголовые, только б запретить, только б не позволить! Страх что за империя у нас! Проклятие над нею довлеет, истинный крест, проклятие...
Назавтра, встретившись с "Казанской", Герасимов получил текст наказа, в котором были и его фразы, – работали вместе, в д о х н о в е н н о: написанное под диктовку тайной полиции можно вполне трактовать как призыв к неповиновению властям и подстрекательство к бунту.
Столыпин, прочитав наказ, брезгливо его от себя отодвинул:
– Такого рода бумаги не имеют права объявиться в Думе, Александр Васильевич. Меня не волнует возможность конфликта с кем бы то ни было. Пусть думские соловьи заливаются, кляня меня супостатом, но идея самодержавия мне дороже всего, им я призван к службе, ему я готов и жизнь отдать... Как полагаете поступить?
– Мне бы хотелось послушать вашего совета, Петр Аркадьевич, – ответил Герасимов, прекрасно понимая, что в аккуратных словах Столыпина содержалась ясная программа: необходим арест социал-демократов и военных, конфликт с Думой и, как следствие, ее разгон. Новый выборный закон был уже в столе премьера, оставалось только получить повод, чтобы его распубликовать. Арест думской фракции без приказа, думал Герасимов, я проводить не стану; проведешь – а назавтра выгонят взашей, скажут, самовольничал, поступил без санкции сверху; у нас стрелочниками расплачиваться умеют, вверх идут по ступеням, сложенным из имен тех, с кем начинали восхождение.
– Мой совет таков: поступать строго по закону, полковник, – сухо ответил Столыпин. – Самоуправства мы никому не позволим, но если получите неопровержимые данные, что делегация намерена явиться к социал-демократическим депутатам, – заарестуйте... При этом, однако, помните, что улики должны быть налицо, как-никак неприкосновенность и так далее... Иначе я отрекусь от вас. Не обессудьте за прямоту, но уж лучше все с самого начала обговорить добром, чем таить неприязнь друг к другу, если что-то сорвется...
– Текст наказа, подготовленного моим агентом, – Герасимов кивнул на две странички, лежавшие перед Столыпиным, – можно считать уликовым материалом?
– Если этот наказ будет обнаружен у социал-демократов Думы, – вполне.
– Хорошо, – Герасимов поднялся, – я предприму необходимые шаги немедля.
В охране Герасимов подписал ордер на обыск в помещении социал-демократической фракции, которая арендовала здание на Невском, в доме девяносто два, на втором этаже; наряды филеров дежурили круглосуточно: в тот момент, когда солдаты появятся со своим наказом, нагрянет обыск; дело сделано, конец Второй думе.
Пятого мая девятьсот седьмого года делегация солдат пришла к депутатам, на Невский.
Филеры немедленно сообщили об этом в охранку; Герасимов, как на грех, отправился ужинать в "Кюба" с маклером Гвоздинским: играть начал на бирже по-крупному, поскольку теперь безраздельно владел информацией о положении во всех банках, обществах кредита, крупнейших предприятиях, ибо агентура о с в е щ а л а их ежедневно: основанием для постановки негласного наблюдения за денежными тузами явилось дело миллионера Морозова (давал деньги большевикам) и безумие капиталиста Шмита (возглавил стачку рабочих на своей же фабрике на Красной Пресне).
Сообщение филеров о начале к о р о н н о г о дела получил полковник Владимир Иезекилевич Еленский, ближайший друг подполковника Кулакова, у которого Герасимов о т о б р а л Шорникову.
Дудки тебе, а не коронная операция, подумал Еленский о своем начальнике, опустив трубку телефона; перебьешься; ишь, к премьеру каждодневно ездит; пора б и честь знать; за провал операции отправят, голубчика, куда-нибудь в тмутаракань, клопов кормить, а то и вовсе погоны отымут, в отставку.
Еленский достал из кармана большие золотые часы "Павел Буре", положил их перед собою и дал минутной стрелке отстучать пятнадцать минут. Думские социал-демократы люди многоопытные, конспираторы, голову в петлю совать не намерены, солдат с наказом быстренько спровадят, – разве можно давать повод царским опричникам?! Они только этого и ждут, и так под топором живем...