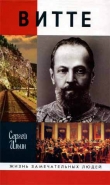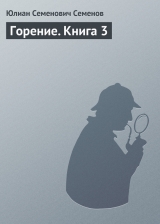
Текст книги "Горение (полностью)"
Автор книги: Юлиан Семенов
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 61 (всего у книги 99 страниц)
Добрался до островов; дышалось легче, кашель не сотрясал уже с такою силой.
Закатное солнце пробивалось сквозь тяжелую зелень, ударялось об воду, разбрызгивалось красно-стремительным высверком, слепило глаза; Дзержинскому казалось, что в бликах этих сокрыто само здоровье.
Вспомнил мертвенную бледность Мартова, тоже чахоточный. Подумал, что Юлию Осиповичу, видно, нравится страдание, ибо видит он в этом нечто похожее на разбрызгивание солнца. Наверное, поэтому так часто и ласково говорит о своих товарищах – "меньшевики", "меньшинство"; ему, – чем дальше, тем убежденнее казалось Дзержинскому, – было приятно ощущать гонимость, в этом – нечто от первых христиан, борьба против всех во имя своей идеи.
"Он живет временами к р у ж к а, – подумал Дзержинский, – а пора эта кончилась. Надо действовать, единственно это может парализовать удар реакции. Надо брать на себя о т в е т с т в е н н о с т ь, а Мартов и его друзья к этому не готовы, они продолжают проповедь, "старик" прав. Это часто бывает: страх перед принятием решения; говорить легче, чем действовать. Вот они и будут говорить, а Трепов со Столыпиным станут стрелять и вешать, нести "успокоение". И Юлий Осипович и Плеханов – честные люди, но эта позиция, с которой они никак не могут сдвинуться, приведет их к самому страшному: они отстанут от времени, а это невосполнимо, это, горько сказать, преступно".
Дзержинский остановился, потому что услышал тугие удары и резкие слова английского счета:
– Тэн – файв!
Сквозь листву увидал корт: неведомо для себя пришел к спортивному заведению мистера Чарльза.
Разгоряченный, напористый Гучков гонял по площадке Родзянко. Тот проигрывал, Гучков вел партию хитрее, то и дело переходил в наступление. На скамейке сидел Столыпин, пощипывал струны ракетки. Мистер Чарльз в белоснежном костюме стоял у сетки, вел счет, священнодействуя.
На газоне, за кортом, несколько мужчин занимались "ритмической гимнастикой", один из них был Дзержинскому знаком – кажется, адвокат Веженский, приезжал год назад в Варшаву, защищал типографа Грыбаса, старался заменить казнь на каторгу, не смог.
Дзержинскому показалось смешным то старание, с которым взрослые люди занимались гимнастикой. Лица их были сосредоточенны, они редко перебрасывались словами; мистер Чарльз, наблюдая за ними краем глаза, покрикивал про дыхание: "Уан, ту, фрн, фор – вдох! Файв, сикс, севен, эйт, найн, тэн – видох!"
Дзержинский присел на траву, обнял острые колени руками, долго смотрел, как пожилые люди з а н и м а л и с ь своим здоровьем, норовя сохранить силу (им нужна сила, на долгие годы вперед нужна им сила), а потом тихонько рассмеялся. Разве это ф и з и ч е с к о е даст то, чего нет в д у ш е? Разве одними мышцами жив человек? Неужели будущее за тем, у кого крепче мускулатура? Тот жандарм, который избил его в дни первого заключения, восемнадцатилетнего тогда еще арестанта, тяжелыми березовыми палками, а за экзекуцией любопытствующе наблюдали ротмистр Шварц и Глеб Витальевич Глазов, месяца два назад повесился, написал записку: "Боюся!" Только одно слово, ничего больше: "Боюся!" А какой был силищи человек! Как здорово от него пахло луком, жареным мясом и водкой!
Солнце скрылось, от воды поднялась прохлада, Дзержинский снова почувствовал, как закипает кашель, быстро поднялся, пошел в город – более всего он боялся сейчас закашляться, увидать кровь, почувствовать слабость. Он не имеет права на слабость, поскольку впереди еще слишком много работы. Осознание собственной нужности делу даст ему силу. Он живет не для себя, и нужность его принадлежна миллионам униженных и оскорбленных. Эта нужность дважды выручала его в тюрьме, когда он был при смерти, неужели не выручит сейчас? Конечно, выручит, иначе и быть не может. В борьбе победит тот, кто крепче духом, так было всегда, так и впредь будет. Только так и никак иначе.
Вместо предисловия
...Бесспорных оценок и утверждений не существует; слепая приверженность раз и навсегда заданной схеме свидетельствует о малом интеллектуальном потенциале: литое "подвергай все сомнению" как было, так и остается индикатором революционной мысли.
Чаще всего бесспорность оценок проецируется на предмет истории; если технические науки по природе своей не переносят схем и высочайше утвержденных ограничений, да, в общем-то, и неподвластны им, поскольку таят в себе некий феномен "опережаемости" среднего уровня знаний, то история (и, увы, экономика) вносит коррективы в самое себя раз в столетие, а то и реже.
В этом смысле крошечный отрезок развития человечества, период с девятьсот седьмого по девятьсот двенадцатый год, проецируемый на одну шестую часть земной суши, то есть на Россию, является беспрецедентным исключением, ибо часть исследователей относится к этой поре как к вполне благополучным годам нашего государства, отмеченным началом демократического процесса, столь непривычного для традиций абсолютистского строя, в то время как другая часть ученых видит в этих именно годах окончательное созревание того накального чувства гнева, которое и привело к свержению династии Романовых и торжеству социалистической революции.
Эти исследователи (в противовес тем, которые в своих поисках руководствуются более эмоциями, чем объективным анализом фактов, не чужды мистике и былинному ладу) утверждают, что после разгрома первой русской революции, несмотря на провозглашение ряда свобод – под скипетром самодержавного государя и надзором тайной полиции, – сановная реакция России начала массированное наступление на самое понятие прогресса, всячески старалась оторвать страну от Европы, переживавшей экономический бум, страшилась "диффузии республиканских идей" и не хотела (а может быть, не могла) видеть реальные процессы, происходившие в стране: "этого не может быть, потому что этого не может быть никогда".
Именно эти годы не могут не привлекать к себе пристального внимания историков, ибо глубинные сдвиги социальной структуры русского общества со всей очевидностью подтверждали положение о затаенной сущности кануна революции: "низы не хотят жить по-старому, верхи не умеют жить по-новому".
Надежды на программу, выдвинутую политическим лидером (таким в ту пору считали Столыпина), были лишены основания, поскольку даже самый одаренный политик обречен на провал, если он лишен поддержки масс, во-первых, и, во-вторых, пытается провести нововведения самолично, без помощи штаба убежденных единомышленников.
Действительно, несмотря на все потрясения первой русской революции, государственный аппарат империи – не только охранка, армия и дипломатия, но и министерства промышленности, торговли, связи, транспорта, финансов – остался прежним по форме и духу; смена двух-трех министров не внесла кардинальных коррективов в экономический организм страны, что совершенно необходимо мировому прогрессу, который вне и без России просто-напросто невозможен. Законодательство, без которого прогресс немыслим (закон – это абстракция, истина в последней инстанции, руководство к действию, а не расплывчатое постановление), также не претерпело никаких изменений. Буржуазные партии не могли, да и не очень-то умели скорректировать п р а в о в угоду намечавшимся процессам капиталистического, то есть, в сравнении с общинным, прогрессивного, развития; монархия ничего не хотела отдавать капиталистическому конкуренту; с а м д е р ж у; я – абсолют; каждое поползновение на м о е – суть антигосударственно, а потому подлежит немедленному заключению в крепость.
Именно поэтому надежды слабой русской буржуазии на эволюционный путь развития, на то, что с Царским Селом можно сговориться д о б р о м, были иллюзией.
Именно поэтому – как реакция на державную н е п о з в о л и т е л ь н о с т ь – Россию разъедали сановные интриги, подсиживания, бессильные попытки сколачивания блоков, противостоявших не тупости власти, а друг другу, схватки честолюбий и трусливых малосильных амбиций.
Именно поэтому Россия той поры – ежечасно и ежедневно – становилась конденсатом революции, которая лишь и могла вывести страну из состояния общинной отсталости на дорогу прогресса.
Тщательное исследование документов той эпохи подтверждает, что из стодвадцатимиллионного населения империи всего лишь несколько тысяч человек, объединенных Лениным в большевистскую партию, были теми искрами в ночи, которые пунктирно освещали путь в будущее, порою являя собой повторение подвига первых христиан, поднявших голос против рабовладельческого Рима, казавшегося тогда вечным и могущественным.
...Одним из таких человеко-искр был Феликс Дзержинский. Книга третья 1907-1910 гг.
"Знаменитый Л. Кассий, идеал справедливого и умного судьи в глазах римского народа, в уголовных процессах всегда ставил вопрос: "Кому впрок?" Характер людей, что и кто не решается сделаться злодеем без расчета и пользы для себя".
Цицерон "Охранка чтит тех, кто одет дорого"
"Вице-директору Департамента Полиции
Е. Высокоблагородию 3уеву Н. П.
Милостивый государь, Нил Петрович!
Памятуя о Вашем любезном разрешении обращаться прямо к Вам, минуя инстанции Департамента, рискую переслать Вам запись обмена мнениями между двумя иностранцами в Гельсингфорсе – сразу же после окончания конференции РСДРП, посвященной тактике социал-демократии в Третьей Гос. думе.
Агентура, осуществлявшая запись разговора на листки, вынесла впечатление, что один из собеседников был немцем, в то время как второй – несмотря на знание языка – не есть немец по урождению, а скорее всего поляк.
Эта точка зрения подтверждается также и тем, что один из собеседников по имени "Фриц" обращался ко второму как к "Йозефу", – вполне немецкое имя, но, однако ж, дважды произнес его имя как "Юзеф", что и дало нам возможность выдвинуть гипотезу о польском происхождении второго собеседника.
Некоторые реплики записать не удалось, ибо собеседники порою переходили на шепот. Однако и то, что мои люди слышали ("Йозефа" взяли в наблюдение по поводу возможного участия в конференции РСДРП, якобы проходившей под руководством государственных преступников Ульянова, Плеханова, Троцкого и Дана), дает возможность судить как о мере осведомленности врагов о наших делах, так и о том, сколь сильна их организованность вообще.
Ниже присовокупляю запись беседы:
"Ф р и ц. – Почему не захотел, чтобы я тебя навестил в Петербурге?
Й о з е ф. – Я там на нелегальном положении... Стоит ли тебя подводить под удар?
Ф р и ц. – Я – вольный журналист и фотограф... Что мне могут сделать ваши... (следует безнравственное определение русских властей).
Й о з е ф. – Могут сделать что захотят... Ситуация становится угрожающей. Так что террор властей будет продолжаться... Ваша пресса печатает про Россию слухи, спекуляции, домыслы. Я бы поэтому хотел, чтобы именно ты запомнил то, что я тебе расскажу... Задавай любые вопросы... Уточняй, если непонятно... Но запиши, что я расскажу, и пусть твои коллеги оперируют именно этими данными, они отражают объективные процессы, свидетелем которых я был...
Ф р и ц. – Даже когда сидел в тюрьмах?
Й о з е ф. – Русские тюрьмы – это университеты... Там встречаешь самых умных... Есть чему поучиться... Да и вести с воли приходят регулярно, – многие охранники жизнью недовольны, их семьи влачат жалкое существование, они – это чисто российский парадокс – тоже хотят перемен... Только боятся произнести слово "революция"...
Ф р и ц. – Действительно, сфинкс...
Й о з е ф. – Никакой не сфинкс, а великий народ, лишенный закона. Вот когда каждый человек обретет свободу, гарантированную законом, – свободу на дело, слово, мысль, – тогда исчезнет удобная сказка про сфинкса.
Ф р и ц. – Я готов записывать.
Й о з е ф. – Итак, пятый год... Западная пресса пишет, что русская революция явилась следствием неудач в войне с японцами. Это неверно, ибо преуменьшает ее прогрессивную сущность. Война приблизила революцию, поскольку обнажила все социальные и экономические язвы империи. Но забастовки шли задолго до военного краха. А сколько лет погромы сотрясали империю? В каторге и ссылке люди томились практически всю историю России. Когда мы победим, надо будет очень внимательно поработать в архивах: порою мне сдается, что война была в какой-то мере спровоцирована сферами, чтобы задавить наше движение, обернуть патриотизм против революционеров, а победив, провести жесточайшие карательные меры, чтобы навсегда потопить в крови любую возможность выступать против самодержавной тирании. ...Отметить себе стадии нашей революции... Первая. Экономический и военный крах, рост дороговизны, деспотизм местного начальства понудил матерей и кормильцев поднять хоругви и крестным ходом, во главе с попом Гапоном, выйти к Зимнему – молить царя о милости... Возобладала традиционная вера в то, что вождь не знает правды, ее от него скрывают бюрократы, надо открыть Царю-батюшке глаза на происходящее, и он все в одночасье изменит. Изменил: приказал стрелять в подданных. Так случилось "красное воскресенье", которое мы называем "кровавым".
Ф р и ц. – Это девятое января девятьсот пятого, да?
Й о з е ф. – Именно. После этого начался второй период революции... Впрочем, точнее бы назвать все то, что было до пятого года, до кровавого воскресенья, первым этапом; красное воскресенье – вторым, а уж волна забастовок, террор войск и полиции, демонстрации, повальные аресты – вплоть до октября девятьсот пятого – третьим. Когда же, несмотря на террор властей, запылали помещичьи усадьбы, восстал "Потемкин", выросли баррикады на улицах городов, начался четвертый этап – вооруженное восстание и, как следствие, манифест семнадцатого октября, суливший подданным не только Государственную думу с совещательным голосом, но свободу слова и многопартийность. Павел Милюков зарегистрировал провозглашение своей партии "Народной свободы", иначе именуемой "конституционно-демократической", "кадетской"; либералы, земские деятели – то есть врачи, учителя, статистики, часть дворянства, юристы, профессура – стали ее костяком. Я бы определил ее центристской; идеал кадетов – конституционная монархия, типа британской. Левоцентристской партией можно назвать трудовиков; я бы определил их как левых кадетов... Ну и социал-демократы... Эсеров власть в Думу не пустила – бомбисты. Александр Гучков, за которым стояли ведущие промышленники России и крупные аграрии, провозгласил партию "Союз 17 октября", "октябристы", правоцентристы. Шовинистический, великорусский правый блок провозгласили Марков-второй и Пуришкевич... Самую правую часть этих правых возглавил доктор Дубровин, зарегистрировав свой "Союз Русского народа"; программа его уникальна: "назад, к самодержавию, во всем случившемся виноваты все, кто угодно: Англия, масоны, поляки, евреи, армяне, декаденты, Максим Горький, французские импрессионисты, – но только не русские люди; их, доверчивых, нагло обманули иноверцы, иноплеменной элемент, вековой заговор Европы против России"... Горько и смешно, право...
Ф р и ц. – Скорее страшно.
Й о з е ф. – Верно. Меня тоже страшит темная тупость. Ладно, если бы такое несли безграмотные охотнорядцы, они газет в руки не берут, но ведь Дубровин человек с университетским образованием! Он же прекрасно знает, что без помощи финансового капитала Европы – в основном, кстати, еврейского – царь бы не справился с революцией! Когда дубровинцы завывают, что наша революция еврейская, я диву даюсь! Антисемит-царь со своими жидоедствующими бюрократами платил полиции и армии золотом Ротшильдов! Прекрасное единение м о г у щ е с т в вне зависимости от вероисповедания... А то, что еврейских товарищей в революционной среде множество, то это не причина, а следствие: не было б черты оседлости, погромов и лишения права учить еврейских детей в школах наравне с другими, – процент участия евреев в революции не был бы столь высоким, поверь... Иногда мне кажется, что великорусские шовинисты – психически больные люди, маньяки... "Заговор Европы"! Они не хотели даже видеть того, что социалистический министр Клемансо не мешал французским банкирам поддерживать царя, а депутат английского парламента Уинстон Черчилль, который не сегодня, то завтра сделается одним из ведущих министров Лондона, выступал – во время предвыборной борьбы – против еврейских погромов в России, но при этом не мешал английским промышленникам оказывать незримую помощь Николаю Кровавому вместо того, чтобы понудить кабинет его величества пересмотреть свои отношения с венценосным русским братцем...
Ф р и ц. – Напиши об этом для нашей газеты, Юзеф! Такой аспект нов, он заинтересует немецкого читателя.
Й о з е ф. – Меня сейчас волнует польский, литовский, русский, украинский, белорусский и еврейский читатель, Фриц... А потом я непременно напишу для вас... Все, что публикуется у вас, – далеко от нашей борьбы, понимаешь? Это роскошь – публиковаться у вас в такое время... Публиковаться надо здесь, чтобы это доходило – в любом виде – до наших людей.
Ф р и ц. – Объясни мне суть споров о Думе между с в о и м и – большевиками и меньшевиками...
Й о з е ф. – Большевики предлагали игнорировать выборы в Думу, продолжать борьбу за свержение монархии, ибо она не намерена сдавать свои позиции. Меньшевики, наоборот, требовали участия в работе Думы, полагая, что она станет трибуной для легальной агитации против тирании. Правоту большевиков доказала история: через несколько месяцев после выборов, когда царь уволил премьер-министра Витте, который показался ему либералом, Дума была беззаконно распущена, депутаты выброшены вон, часть арестована. Пришел Столыпин. Этого не устроила и Вторая дума – прошло слишком много левых кадетов и социал-демократов; центристско-правое большинство Гучкова и Пуришкевича оказалось зыбким. Тогда Столыпин разогнал и Вторую Государственную думу, бросив в Петропавловскую крепость депутатов от социал-демократии, обвинив их в военном заговоре, что есть ложь, провокаторский повод властям расправиться с неугодными... Я, кстати, тороплюсь в Петербург, чтобы послушать процесс над депутатами Первой думы...
Ф р и ц. – Второй...
Й о з е ф. – Нет, именно Первой... Социал-демократов Второй думы уже отправили в каторгу... А вот депутатов Первой думы, подписавших в Выборге беззубое воззвание против произвола, до сих пор не судили. Почему?
Ф р и ц. – Это я тебя должен спросить "почему", Юзеф.
Й о з е ф. – Видимо, власти готовят какой-то сюрприз... Это игра, Фриц... Игра в кошки-мышки... Я думаю, после скандала с фарсом суда против социал-демократических депутатов Второй думы сейчас Столыпин будет делать хорошую мину при плохой игре: вполне либеральный процесс в открытом заседании...
Ф р и ц. – А как ты вообще относишься к Столыпину?
Й о з е ф. – Недюжинный человек. Именно этого царь и бюрократия ему и не простят...
Ф р и ц. – Но ведь на всех фотопортретах он вместе с государем...
Й о з е ф. – Веришь спектаклям? Странно, я считал, что ты больший прагматик... Прежде чем мы вернемся к исследованию царской камарильи, закончу изложение моей концепции Думы... При выборах в Третью думу большевики сняли лозунг бойкота. И не потому, что партия переменила свое отношение к этому органу; мы поняли, что вооруженное столкновение с самодержавием проиграно, революция – временно – пошла на убыль, империя покрыта виселицами, работают военно-полевые суды, царствует страх, – это у нас быстро реанимируется., значит, сейчас надо переходить к легальным методом борьбы, то есть использовать Думу. Есть вопросы?
Ф р и ц. – Костяч четок. Спасибо. А теперь про тех, кто противостоит прогрессу...
Й о з е ф. – Сколько времени до отхода поезда?
Ф р и ц. – Полтора часа.
Й о з е ф. – Тебе придется поменять билет на завтра, если я стану рассказывать обо всех противниках прогресса в России; у нас накопилась достаточно серьезная картотека не только по северной столице и Москве, но и по крупнейшим центрам империи... Ладно, остановимся на узловых фигурах...
Ф р и ц. – Кстати, ты запомнил просьбу Розы о господине Родэ?
Й о з е ф. – Да, конечно... Только, пожалуйста, впредь никогда не называй имен товарищей в публичных местах...
Ф р и ц. – Неужели ты думаешь, что эти гуляки финны слушают нас?
Й о з е ф. – Я допускаю такую возможность.
Ф р и ц. – Тогда зачем говоришь со мною?
Й о з е ф. – Во-первых, сейчас не девятьсот четвертый год, а седьмой, сил у нас побольше. А во-вторых, я говорю о проблемах общего плана, это не может причинить вреда никому из товарищей, кроме что, пожалуй, меня.
Ф р и ц. – Понял, учту, едем дальше.
Й о з е ф. – Итак, наши противники. Как ты понимаешь, ведущей силой в борьбе с революцией является охранка, департамент полиции, министерство внутренних дел. Армию царь боится, он не очень-то верит своим войскам, особенно после краха на Востоке и восстания на "Потемкине". Самой заметной фигурой политического сыска империи был директор департамента полиции Лопухин. Но его, как человека, близкого министру Плеве, убитого эсерами, сняли, – в России каждый новый министр набирает своих людей, прежних – гонит... На его место сел Трусевич и его заместитель Зуев. Эти особого веса не представляют в силу того, что свои позиции очень укрепил полковник Герасимов, шеф петербургской охранки, работающий непосредственно на Столыпина... Эту фамилию запомни непременно... Безусловно, тебе следует знать, кто такой Петр Рачковский. Хотя он сейчас активной роли не играет, но именно он был создателем русской заграничной агентуры, работал в Париже, воевал против народовольцев, потом попал в немилость к Плеве, бывшему тогда министром внутренних дел, и был уволен в отставку. Однако, как только Плеве убили эсеры, военный диктатор Петербурга генерал Трепов вернул Рачковского, сделав директором политической части департамента полиции. Говорят, Герасимов поначалу попал под его начальство. Это мы еще не проверяли. Но ясно то, что сейчас верховодит именно Герасимов, а Рачковский ушел на второй план, если вообще не готовится к отставке, хотя, говорят, его пытался защищать директор полиции Трусевич, активный противник Герасимова...
Ф р и ц. – Ничего не понимаю! Революция еще до конца не окончена, страна разорена, а те, которые держат власть, – Герасимовы, Трусевичи, Рачковские грызутся между собою! Как это объяснить?
Й о з е ф. – Во-первых, почитай книгу "История русской смуты", это весьма поучительно для каждого, кто пытается писать об империи. А во-вторых, где и когда ты встречал единение среди тех, кто лишен общественной идеи?! Каждый из названных мною думает о себе, Фриц, о своей карьере, своем имени, своем будущем. С в о е м! Вот потому мы убеждены в победе! Мы же думаем о благе народа, л и ч н а я выгода от революции – это бред, термидор, а не революция! Ф р и ц. – Ты не мог бы помочь мне...
Й о з е ф. – В чем?
Ф р и ц. – Я бы очень хотел побеседовать с Карповым [один из псевдонимов Ленина] и Астрономом [один из псевдонимов Дзержинского]. В Лондоне писали, что они являются членами ЦК социал-демократов. И с "Дедом" [один из псевдонимов М. М. Литвинова], который транспортирует литературу в Россию из Берлина.
Й о з е ф. – Вряд ли, Фриц. Еще вопросы?
Ф р и ц. – Почему среди социал-демократов по-прежнему так сильны расхождения? Они, говорят, бьются, как и сановники в Петербурге.
Й о з е ф. – Эти расхождения носят, как понимаешь, совершенно иной оттенок, чем драка в Петербурге. Ленин отстаивает одну точку зрения, Федор Дан – другую, но тут вопрос талантливости, провидения даже, сказал бы я... Дан ведь, выступая за блок с кадетами, не о себе думал, он был искренне убежден, что так будет лучше революции, то есть народу. Это турнир талантов, Фриц, в котором победит наиболее талантливый.
Ф р и ц. – Кто же?
Й о з е ф. – Ленин.
Ф р и ц. – Это псевдоним?
Й о з е ф. – Видимо.
Ф р и ц. – А подлинная фамилия тебе неизвестна?
Й о з е ф. – Далее если бы я ее и знал, я не вправе открыть ее, закон конспирации... Ленин лишен н е п о д в и ж н о с т и, чем грешит Дан, в нем нет догматизма, он легко отказывается от того, на чем настаивал вчера, если видит, что жизнь вносит свои коррективы, он следует не идолу буквы, он держит руку на пульсе жизни... Беда многих товарищей меньшевиков в том, что они страшатся отступить, признать свою неправоту, выработать новый курс, публично отказавшись от прежнего... Вот этого, страшного, что держит мысль в кандалах, в Ленине нет, в этом залог того, что он...
Ф р и ц. – Почему ты не закончил?
Й о з е ф. – А разве так не ясно?
Ф р и ц. – Хорошо, давай перейдем к камарилье, к царю и его семье.
Й о з е ф. – Там такой же раскордаж, как среди полицейских чиновников... Между царем и великим князем Николаем Николаевичем существуют расхождения. Дмитрий Константинович, внук императора Николая Первого, и Дмитрий Павлович, внук императора Александра Второго, двоюродный дядя Николая Второго, тянут свою линию, посещают салоны, где царя и царицу нескрываемо бранят как людей темных, неспособных к е в р о п е й с к о м у решению русской трагедии. Елизавета Федоровна, вдова великого князя Сергея, убитого Яцеком Каляевым, не встречается со своей сестрой, царицей Александрой Федоровной. Да, да, сестры, родные сестры, принцессы Гессенские и Рейнские, не разговаривают, глядят врагами... Великий князь Кирилл Владимирович исключен из службы и лишен звания флигель-адъютанта за то, что вступил в брак со своей двоюродной сестрой, а ведь, пожалуй, единственный из Романовых, кто видел войну воочию: был на броненосце "Петропавловск" во время боя с японцами, чудом спасся, когда случилась трагедия... Царь и Александра Федоровна живут замкнуто, под охраной генералов Дедюлина и Спиридовича, закрытое общество, тайна за семью печатями, – в театрах не бывают, вернисажах тоже; специальный поезд мчит их в Крым, в Ливадию, мчит без остановок, только чтоб мимо страны, мимо, мимо, мимо...
Ф р и ц. – Странно, отчего же все-таки Россия до сих пор не развалилась?
Й о з е ф. – Россия не развалится, Фриц. Развалится империя. А Россия и романовская империя – понятия взаимоисключающие.
Ф р и ц. – Слишком красивая фраза, чтобы убеждать в своей истинности. Правда, звучит проще.
Й о з е ф. – Ты, кстати, сформулировал свою позицию красивее, чем я. Но тем не менее я тебя в неправде не упрекаю. Действительно, правда должна звучать просто. Тот, кто мечтает о возвращении прошлого, – дурак; уповающий лишь на современное – заземленный мышонок; надеющийся на одно лишь будущее прожектер... Прав лишь тот, кто объединяет в себе все эти три ипостаси.
Ф р и ц. – Тоже красиво, но возразить не могу, согласен. Как я могу тебя найти, Юзеф? Если мне понадобится встреча? Через Розу?
Й о з е ф. – Мы же уговорились – без имен. Ладно? Я сам найду тебя, Фриц, Я скоро буду в твоих краях.
Ф р и ц. – Теперь последнее... Отчего ваш парламент назван Думой? На Западе этого никто не понимает.
Й о з е ф. – Дума – это не парламент. У нас по-прежнему нет конституции. Дума – это место, где говорят, Фриц, отводят душу, но не решают. Дума – от слова "думать", а не "решать", то есть "властвовать". Царь создал именно такой орган, где можно облегчить гнев, поговорить, но не делать..."
Буду рад, милостивый государь, Нил Петрович, ежели Вы поручите соответствующим сотрудникам навести справки о "Фрице" и "Йозефе", а также о тех, кого они упоминали в своем собеседовании.
Остаюсь Вашего Высокоблагородия покорнейшим слугою
ротмистр Кузнецов,
помощник начальника Гельсингфорского представительства Департамента Полиции".
Зуев усмехнулся, подумав, что обо всех тех, кого упоминали "Фриц" и "Йозеф", справки навести невозможно. Как их наведешь в салоне вдовствующей императрицы Марии Федоровны или замке Кирилла Владимировича?!
Зуев перечитал письмо еще раз; опасный документ; от себя запускать в работу нельзя, священные особы государя и государыни затронуты в таком контексте, который не может не вызвать гнев в с ф е р а х; довериться некому: директор департамента Трусевич – хоть и работали в прошлом веке по судебному ведомству – не моргнет глазом, отдаст на закланье, а уж о поддержке и думать нечего. Каждый первый боится своего второго, а посему норовит этих вторых менять почаще; меня столкнуть нетрудно, – был выдвинут Плеве, сотрудничал с Лопухиным, уволенным в позорную отставку; конечно, я тут как бельмо на глазу, человек старой команды, таким не верят; если б не трусость, страх д в и ж е н и я, давно б вышвырнули, а так, затаившись, ждут неверного шага; дудки; говорить, что все, молчать, когда другие молчат, и дел не делать – тогда не подкопаются; у нас жрут только тех, кто высовывается, самость свою выказывает...
Тем не менее Зуев понимал, что полученная информация таит в себе возможность интереснейшей комбинации, найди он этих самых "Фрица" и "Йозефа".
Поэтому, выписав имена и фамилии, его заинтересовавшие, на отдельные карточки, Зуев попросил своего помощника запустить "материал" в работу.
Ответы, полученные через три недели, заставили его еще раз задуматься над документом из Гельсингфорса; дело того стоило.
"На Ваш запрос No542-2-11-07 сообщаю:
1. "Роза" – речь идет о Розе Люксембурговой, одном из лидеров польской социал-демократии.
2. "Родэ". – Видимо, эта фамилия упоминается в связи с Розой Люксембурговой, поскольку именно она посетила дом Александра Родэ на Крестовском Острове, набережная Средней Невки, 6, где проходила встреча руководящих деятелей соц.-демократии большевистского направления, посвященная тактике партии в июле девятьсот шестого года. Она прибыла туда, сопровождаемая Феликсом Доманским, он же Астроном, Переплетчик, Юзеф, Дзержинский. Здесь же состоялось ее совещание с Лениным после того, как были исчерпаны вопросы тактики большевиков.
3. Ленин, он же Фрей, Карпов, Винтер, является Владимиром Ильичем Ульяновым, лидером большевизма.
4. Доманский, он же Астроном, Юзеф, Ржечковский, Дзержинский, является одним из руководителей польской социал-демократии, по предложению Ленина якобы избран в Лондоне членом ЦК РСДРП.
5. "Дед", "Литвинов Максим Максимович" – Меир Баллах, из Киева, после побега из централа, где ему грозила смертная казнь, находится в эмиграции, чаще всего появляется в Берлине, дружен с Розалией Люксембурговой и Карелом Либкнехтовым, отвечает за транспортировку литературы и оружия в пределы империи.
6. "Фриц" – в картотеке не значится.
7. "Йозеф" – в картотеке не значится.
8. "Юзеф" – один из псевдонимов Астронома, Дзержинского, Переплетчика.
Делопроизводитель Опрышкин".
Зуев внимательно прочитал дельный ответ Опрышкина, подумал, что человека этого надо будет пригласить для беседы, и отдал распоряжение о немедленном установлении места пребывания Юзефа Доманского-Дзержинского, где бы он ни проживал в настоящее время.