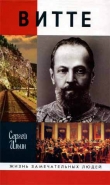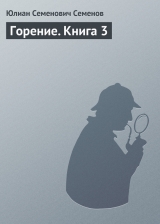
Текст книги "Горение (полностью)"
Автор книги: Юлиан Семенов
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 52 (всего у книги 99 страниц)
– Мы не отказали. Мы выставили условие...
– Это "условие" равносильно отказу. Вы хотели, чтобы мы вывернули руки кайзеру и заставили его отдать вам Марокко...
– Марокко – повод. Мы хотели и х о т и м вашего разрыва с кайзером. Мы хотим безусловного франко-русского союза. Мы поняли трудное положение Витте, ибо он вынужден считаться с кайзером, насколько нам известно, и согласились с его идеей международной конференции финансистов в Москве – мы верили, что здравый смысл франко-русской идеи восторжествует над его германо-франко-русской утопией. Не наша вина, что финансисты съехались в Москву, когда там начали стрелять анархисты... Не наша вина... Кто же даст деньги стране, разрываемой междоусобицами?
– У нас революция, Жак, а не междоусобица. Когда междоусобица, заем дают тому, кто может в этой сваре с в о и х стать первым. Отдайте должное Витте он все же принудил кайзера отступить в Марокко. А ваш Нецлин и все его банки до сих пор медлят. И кончится это катастрофой: неуправляемый мужик пойдет на Европу. Неужели непонятно?..
– Гарантии, – повторил Гролю упрямо. – Где гарантии, что господина Витте не сменит другой политик? Где гарантии, что этот новый политик не окажется сторонником чисто немецкой ориентации? Где гарантии, что он, этот новый русский премьер, не поедет на поклон к кайзеру в бронепоезде, построенном на французские деньги?
– У вас есть данные о неустойчивости Витте?
– О, что вы, мой дорогой Александр, что вы! Мы убеждены в его незыблемой прочности... Я выдвигаю версии – если не с друзьями фантазировать, то с кем же?!
– А вот у нас есть данные, б р а т, что дни Витте сочтены. – Веженский уперся взглядом в гладкий лоб француза. – И свалят его на днях.
– О-ля-ля! – Гролю сыграл изумление, и это рассердило Веженского: он сообщил парижским братьям шифрограммой о положении, сложившемся в Зимнем дворце, – следствием этой информации и явился приезд француза в Петербург, чего ж сейчас дурака валять?
– Послушайте меня, б р а т, – во второй раз уже подчеркнул "брата" Веженский. – Не надо с нами играть. Все равно проиграете, Россия – это Россия. О том, что Витте уже мертв, Парижу сообщил я, магистр нашей ложи, да, да, это я. Коли вам об этом не сообщил ваш мастер, значит, вы не имеете полномочий говорить со веною, значит, у нас с вами разные уровни в братстве.
Гролю тронул усы мизинцем – показывал, как старательно скрывает улыбку всезнания.
"Дурак, – сказал себе Веженский. – В каждой организации тайных единомышленников есть свой дурак. И зовут его "первой ласточкой". А вот за то, что парижская ложа посмела прислать к нам дурака, мы еще счет выставим".
– Мой дорогой Александр, не думайте обо мне слишком плохо. Я следую инструкциям.
– Я тоже.
– Пожелание м о и х братьев сводится к тому, чтобы делегация вашего генерального штаба, прибывшая в Париж, немедленно подписала тот договор, который подготовлен нашими военными.
– Подпишет.
– Погодите... Вам ведь неизвестны наши условия...
– Н а м известны ваши условия. Вы требуете от нас выработки совместного плана развертывания войск в случае войны с Германией. Мы готовы на это.
К этому готовы не были. Веженский сказал неправду. Он, однако, должен будет сделать так, чтобы подписали. Всепроникаемость масонства давала такую возможность. Генерал Половский обязан сделать так, что подпишут. Балашов сегодня же пригласит на ужин – придется старику вынести это, коли не отдает фартука мастера, – генерала Иванова, товарища министра; князь Тоганов встретится с братом Трепова – тот п о д д а е т с я.
...Сразу же после беседы с Гролю, проводив его до кабриолета, Веженский позвонил по телефонному аппарату в канцелярию военной разведки и попросил передать, что ждет генерала Половского в два часа в ресторации Гурадзе.
Половский, когда его провели в отдельный кабинет, удивленно пожал тонкую, длинную руку адвоката:
– Я решил, что-то стряслось, Александр Федорович? Отложил ланч с британским атташе, приехал к вам.
– Мы примем условия французского генерального штаба?
– Милютин – за.
– Это не ответ. Милютин пока не министр. Кто против?
– Сухомлинов против, Редигер, Штюрмер...
– Как можно заставить их замолчать?
– Развести государя с немкой, – улыбнулся Половский.
– Бракоразводный процесс я берусь выиграть, – зло ответил Веженский. – А что, если пресса, которая близка к нам, застращает Царское Село близостью нового весеннего бунта? Необходимостью вывести войска? Подействует?
– Это – да. Кроме Меллера-Закомельского, верных двору головорезов мало.
– Поймут, что без денег войско – это не войско?
– Поможем понять.
– Брат, я обязан отправить телеграмму в ложу, в Париж – "мы – за". Это свидетельство нашей силы. Это заем. Я могу сказать так?
– Хм... Можно ответить позже?
– Когда?
– Часов в десять...
– Хорошо. Жду. Очень жду... Что станете есть? Я заказал пити и хорошее мясо.
– Пити не надо бы мне, печень болит.
– Сходите к Бадмаеву, он маг от медицины. Пити заменим на куриную лапшу, она здесь постная.
– Хорошо. Других в а ж н о с т е й нет?
– Вам имя Мануйлова-Манусевича говорит что-нибудь?
– Какой-то проходимец...
– Не какой-то, а высочайшего полета, приставленный министерством внутренних дел к канцелярии Витте... Так вот, он начал кампанию за легальное возвращение в Россию Гапона.
– Ко-ого?!
– Да, да, Георгия Гапона. Ходил к Витте, докладывал, что Гапон разочарован в революционерах, готов пасть на колени и просить прощения у государя, что он сможет отбить рабочих от сил анархии и повернуть их в русло правопорядка... То есть Мануйлов-Манусевич выдвигает план авантюрный, но весьма и весьма для умных заводчиков притягательный...
– Снова полицейские штучки? Дурново не дают покоя лавры Плеве с "зубатовским социализмом"?
– Вот тут-то и заключена главная загвоздка, мой дорогой! Нет! Дурново ничего об этом не знает! Мануйлов-Манусевич какими-то хитростями уговорил Витте попросить министра Тимирязева, чтобы он принял журналиста Матюшинского тот вошел с проектом возобновления работы читален, организованных в свое время Гапоном. Не к Дурново был Матюшинский подтолкнут Манусевичем, а именно к Тимирязеву. А Тимирязев, вместо того чтобы повернуть журналиста по нужному адресу, то есть к Дурново, сам отправился к государю. И получил аудиенцию. И государь повелел выдать Тимирязеву тридцать тысяч на эти самые читальни Гапона. Мотивировка: создание подконтрольных профессиональных союзов. И Тимирязев деньги эти передал Матюшинскому. А тот взял да и вчера дал с деньгами государя тягу...
Вошел половой, принес блюдо с зеленью, сыром и пити.
– Вано, ты пити поменяй на лапшу, мой гость острое не ест.
– Кинжал – острый, – ответил Вано, – пити мокрый. Сейчас заменю.
Веженский проводил его взглядом и продолжил:
– Я все утро сегодня листал статьи в газетах октябристов по поводу будущего профессиональных союзов, соотнес с их позицией заинтересованность Тимирязева в гапоновских читальнях, его самочинный визит в Царское Село и пришел к выводу, что на место премьера Гучков с компанией метили Тимирязева. Он у них в кармане. Он знающий человек. И если Гучков приведет его в Зимний, Тимирязев, скорее всего, станет не промежуточной фигурой, а устойчивой, подпертой...
Половский спросил:
– К Тимирязеву ключей нет?
– Поздно. Он взят на корню. Он в кармане у Гучкова.
– Так, может быть, пора встретиться с Гучковым?
– Поэтому я и решил посоветоваться с вами. Прежде чем мы вынесем вопрос на обсуждение братства, мне хотелось бы обговорить вероятия. Если желаете мою точку зрения, то к Гучкову надо идти после того, как мы свалим Тимирязева.
– Вы предлагаете идти на блок с Гучковым, показав ему наше всезнающее могущество?
– Конечно.
– А может быть, стоило бы показать себя иначе?
– Как?
– Подружиться с Тимирязевым.
– Я бы хотел просить вас, генерал, выяснить по линии военной разведки в Париже и Берлине, как там относятся к Гучкову.
– Относятся хорошо.
– Это не ответ. Надобно попробовать получить имена его деловых контрагентов в Лондоне и Париже, найти к нему подход с той стороны, отсюда на него толком не повлияешь – слишком богат, а потому груб, обидно с ним ссориться, потом склеивать будет трудно.
– А что Столыпин?
Вано принес на подносе глиняную миску с жирной лапшой.
– Курица был индюком, жира много, звездами бульон набит, кушайте на здоровье.
Веженский отхлебнул, поглядел на Половского, сморщил кончик утиного носа, и вдруг лицо его собралось морщинистой, устремленной силой.
– Если Столыпин будет неуправляем – свалим, как Тимирязева...
– Убеждены?
– Читайте завтрашнюю "Биржевку".
– Всех повалим, – улыбнулся Половский, – кто ж останется?
– Кто-нибудь останется...
Половский не донес ложку с лапшой до рта, положил ее в тарелку осторожно, медленно отер салфеткой губы и тихо сказал:
– При таком диктаторе, как вы, я готов войти в дело главкомом.
...Валили министров, распределяли портфели будущего кабинета, составляли коалиции, думали о разделении сфер влияния в Государственной думе, жили, словом, в своем мире, своими интересами, не понимая, что судьбы государств и народов решает иное. Не понимали, а скорее, не могли понять, что ход исторических событий невозможно определить одними лишь застольными собеседованиями, сколь бы могущественны и богаты ни были собеседующие; в конечном счете все определяют те, которые производят машины, сеют хлеб, учат детей. А люди эти жили в условиях ужасных, нечеловеческих, и не только потому, что голод морил Поволжье, инфекции косили Туркестан, холера вспыхивала то здесь, то там; люди были лишены элементарных человеческих прав: нельзя было говорить то, что думаешь, учиться тому, чему хотелось, порицать то, что заслуживало порицания. Слова и мысли предписывались в е р х о м, который нового страшился, закрывался от него, был к нему – в силу своей духовной структуры – не готов. Нищета, унизительное бесправие порождали такое общественное настроение миллионов, которое лишь на время можно было загнать вовнутрь, только какое-то время страх двигал поступками людей. Однако чем стремительнее становилось время, подчиненное все более изматывающей, но и организующей ритмике промышленного и научного развития, чем большее количество людей оказывалось вовлеченным в связующую круговерть производства, чем меньшими делались расстояния, подвластные ныне паровозу и пароходу, чем легче становилось познавание других стран с их нравами и обычаями, тем очевиднее страх уступал место тяжелой ненависти: до какой же поры мы будем париями мира, до какой поры рабья покорность и преклонение перед кучкой тиранов возможны в стране, родившей Разина, Рылеева, Чернышевского и Ульянова с Кибальчичем?! Страх пока еще гарантировал сохранение того, что имелось. Но что же имел человек – из тех ста пятидесяти голодных и бесправных миллионов. Кусок хлеба? Так ведь и скотине корм дают – иначе не выживет. Сапоги? Так ведь и коня подковывают, иначе поле не вспашешь. Книгу? Не имел. Лекарства? Не имел. Школу? Не имел. Сносное жилье? Не имел. Сильные д а р о в а л и то, что унижало рабочего человека, ибо полагалось ему в сотни раз больше. Поэтому с т р а х п о т е р я т ь постепенно уступал место неудовлетворенности тем, что было. Чем дольше страх вдавливали в умы и сердца трудящихся, тем страшнее становился невыплеснувшийся гнев. Марксова грозная истина о том, что пролетариату нечего терять кроме цепей, овладевала рабочей массой. Именно миллионы, объединенные общей нищетой, бесправием, забитостью, и должны в конечном счете сказать решающее слово, а никак не те, кто собирался в гостиных и в ы с т р а и в а л будущее. Воистину можно долго обманывать меньшую часть народа, большинство можно обмануть на короткое время, однако нельзя обманывать весь народ постоянно.
Гучков заехал за Николаевым утром, в девять; Родзянко заставил сибиряка купить этаж на Мойке: "Лидер партии не имеет права жить в номерах, Кирилл. Маньки рыскают по гардеробам, а где пиджак, там и записка какая или отчет... Маньки социалистам служат, Кирилл, не нам, нас они лишь обслуживают, у них глаз холодный ныне, они ж теперь свободу получили".
Николаев купил две квартиры – шесть комнат; за день мастеровые пробили стену, столяры установили дверь; американский гувернер Джон Иванович Скотт, проживший в доме Николаевых двадцать шесть лет, раздевшись до трусов, руководил работой.
– Э, бойз, водка вечером, – рокотал он, – унюхаю сапах – не будет манэй, хороший работ – оплата в два раз выше и много водки. Курит нельзя. Кто много курит, мало работать.
Джон Иванович закупил ящик водки, мешок калачей и окорок, все это поставил посреди комнаты, которую мастеровые пообещали с д а т ь к вечеру – работа спорилась.
...Гучков валко прошелся по квартире, ступал как-то особенно, уверенно по картонам, которыми застлан был желтый дощатый пол, скептически посмотрел на паркет, завезенный ночью, посоветовал Николаеву ничего не трогать: "Старина свое возьмет, скоро стены начнем скоблить, росписи новгородских времен искать, паркет расковыривать и клен стелить, как при Александре, чтоб кадрилилось".
К половине десятого прикатили в гимнастический зал, на Васильевский остров: здесь была договорена встреча с Петром Аркадьевичем Столыпиным.
– Тимирязев уходит, – еще по дороге сказал Гучков. – Ему палку кто-то под ноги бросил. "Биржевку" сегодняшнюю читал. Нет? Тю-тю Тимирязев, ему теперь от Гапона не отмыться. Хорошо нас лупят, изящно, сказал бы я. Сукин сын Мануйлов-Манусевич...
– Ничего. Думаешь, он Тимирязева валил?
– Или кадюки что пронюхали, или он показал зубы. Шепчут, будто граф связан с Ложей. За ними в Париже сила. Ротшильды за ними. Я поэтому решил с Веженским, его адвокатом, встретится – не возражаешь? Сегодня б поужинали вместе, а?
– Чего ж возражать – не возражаю...
– Сердит ты.
– Да уж не радостен.
– Что так?
Николаев ответил не сразу, разглядывал припущенные последним инеем деревья, что посажены были аллеей на острове.
– Видишь ли ты, Саша... Когда мы все затевали, я полагал, что политика будет для нас неким воротком в экономику. Я же в Нью-Йорке делу учен, прагматик я... Ну и полагал: политика лишь поможет укрепить завоеванный плацдарм, а дальше пойдем ш и р и т ь дело. А получилось, будто ногами в тину влез, и затягивает, затягивает. Не знаю, как тебя, а меня это все раздражать начало, я дело запустил, Саша, я пульса не чую, я проекты толком не читаю, чертежи не могу править.
– Открой бюро. Пригласи адвокатов. Все охватить невозможно, будь ты хоть семи пядей во лбу. Мы пробьем брешь в экономике, без этого гибель, но разве один что сделаешь? Без канцелярии не обернешься, Кирилл. Экономика ныне без политики будет невозможна, так что хочешь ты, не хочешь, а партия будет красть у тебя время... Впрочем, неверно говорить "красть". Время, отданное политике, обернется дивидендом в экономике; это с непривычки ты нервничаешь, Кирилл, с непривычки.
– Я строитель, Саша, мой идеал – Гарин-Михайловский, я "Инженеров" на ночь читаю.
– Понимаю. Приведем на к л ю ч и надежных людей, отладим р е м н и, нас связывающие, станешь читать чертежи, в проекты правки вносить, Кирилл. Поэтому-то и хочу показать тебе Столыпина: если не Тимирязев – только он.
– Почему так легко отдаешь Тимирязева?
– От Гапона не отмыться, – повторил Гучков. – Мы еще не научены искусству коалиций, Кирилл, мы хотели быть монополистами, мы хотели иметь карманное министерство – видимо, так не получится...
– Что ж, кадетов звать за стол?
– А что? Может, и кадюков. Важно усадить их за стол – беседу нам вести, от нас зависит, как повернуть.
– При чем тогда Балашов?
– Если он связан с Ложей, его поддержка необходима. Связи, Кирилл, связи, – повторил Гучков, наблюдая, как шофер ловко заложил авто в вираж, – связи решают все.
Со Столыпиным встретились в гимнастическом зале: Петр Аркадьевич висел на шведской стенке. Николаев отметил, что тело бывшего саратовского генерал-губернатора крепко, плечи бугристы, живот вмят, по-крестьянски подобран.
С людьми Гучков сходился быстро: познакомился он со Столыпиным неделю назад, но сейчас говорил с ним, как со старым приятелем:
– Знакомьтесь. Петр Аркадьевич, с моим другом, Кириллом Прокопьевичем, поэт дела, режет Сибирь железною дорогой...
– Добрый день, – сказал Николаев. – Рад встрече. Столыпин дружески кивнул, негромко откликнулся:
– Куропаткин, говорят, плакал, молил государя: дайте пять эшелонов в день, разобью японцев.
– Ну да! – усмехнулся Николаев, подтянувшись рядом со Столыпиным на стенке. – По одной-то колее! Коли нам о дружестве с японцами думать, с ними и с североамериканцами, две, а то и четыре колеи надобно тащить на Дальний Восток... Американец доллар не вложит, пока ты копейку не истратил.
– Меня Сибирь с этой точки зрения не интересует, – сказал Столыпин. Сибирь – поле крестьянского переосмысления России, наше аграрное Эльдорадо...
– И так можно, – согласился Николаев и начал делать "уголок", ощущая, как трясутся мышцы живота: много н а б р а л за последние месяцы, каждый день чуть не три банкета, пойди удержись...
Гучков размялся на большом мате посреди зала, потер короткую борцовскую шею, обернулся к Столыпину:
– На ковер, Петр Аркадьевич, купеза против агрария.
Столыпин легко со стенки спрыгнул, вмиг расслабившись, пошел на мат лодыжки тонкие, перехваченные, икры ц е п к и е, по-татарски кривоватые, но с барской белизной,
"Ну и кровей в нас, – подумал Николаев, – нет другой нации, где б столько всякого намешалось. А это – талантливо, это значит, молоды мы, и нет в нас вырождения. Много – это всегда отменно, демократично; англичанин оттого сонный, что малокровен".
Гучков первым набросил руку на шею Столыпина, но тот красиво ушел, начал обхаживать противника; глаза-щелочки смотрели цепко, без торопливости. Гучков снова выбросил руку, норовя ухватить шею Столыпина, он любил брать верхним захватом, но Столыпин сделал обманный финт, з а к л е щ и л руку Гучкова, рубанул подножку, обвалился сверху легко, будто подрубленный. Противники засопели, тучковская шея налилась кровью; Столыпин же был по-прежнему бледен, лицо бесстрастно, словно напряженно рассматривал кого-то в зеркале.
Николаев отметил момент, когда Гучков мог вырваться, но не вырвался поддавался.
"Красиво проигрывает, черт, – подумал удовлетворенно, – в радость Столыпину проигрывает. На слом пробует, все с умыслом делает!"
Столыпин наконец положил Гучкова на лопатки, поднялся, красивым жестом, словно римский консул, набросил простыню, оставленную инструктором гимнастики Чарльзом Гроу, заметил:
– Могли победить, поддались вы мне, Александр Иванович. Я проигрывать не люблю – вам, видимо, говорили, – но таким, как вы, готов!
– Да господи! Петр Аркадьевич! – выказал свое купечество Гучков. – Реванш позвольте! Требую крови!
– Сейчас-то уконтрапупите, – ответил Столыпин. – Вон вы какой медведь...
– А со мной? – спросил Николаев. – Я разогрелся, я готов.
– Да я ж побеждать люблю, – улыбнулся наконец Столыпин. – Меня давеча Александр Федорович Веженский спросил, не кажутся ли мне победы Витте "пирровыми". А я ответил: "Пирровы" забудутся, "победы" останутся".
Николаев вышел на мат, походил вокруг Гучкова, потом – при кажущейся сонности – опоясал приятеля, стремительно поднял над собой, повернул в воздухе боком и шмякнул оземь.
– Мы в Бодайбо приемам не учены, Саша, не взыщи...
Пошли в душевую: мистер Чарльз, лондонский кудесник, наладил особую процедуру – стегал водой под напором, тело краснело, будто после крапивы.
Потом они лезли в бассейн, разделенный надвое: в одной половине чуть не кипяток, в другой – ледяная вода. Гучков, опускаясь в ледяную купель, тонко повизгивал; Столыпин окунался с головой и делался похожим на Стеньку Разина. Потом, когда Чарльз положил их рядом, укутав шерстяными одеялами, Гучков, блаженно отдуваясь, предложил:
– Петр Аркадьевич, не откажетесь встретиться с нашими друзьями? Мы сегодня собираемся в "Европе" в десять.
Столыпин – не открывая глаз – поинтересовался:
– Тимирязев зван?
Гучков ответил рассеянно:
– Он ведь не только к сдаче дел готовится, Петр Аркадьевич, он готовится и к тому, чтобы поехать в Лондон, покупать для Кирилла Прокопьевича проекты мостов на подвесках и Родзянке – инвентарь для обработки свеклы...
– Счастливый человек, – откликнулся Столыпин, – инженер, ему повороты судьбы не страшны. А нам, чиновникам, что делать?
– Обставиться, – пробурчал Николаев.
– Где вы в России столько верных людей наберете, чтоб спину прикрыть? спросил Столыпин. – Французы во всем женщину ищут, это в них от пресыщения свободой. Нам бы мужчин найти, мужчин...
Ужин с Веженским кончился в семь. На прощание Гучков сказал:
– Александр Федорович, если мы будем уподобляться милюковцам – все профукаем. Нам надо локоть друг дружки ощущать – тогда устоим.
– Милюковский локоть престижен, – ответил Веженский. – Его локоток на Лондон опирается.
– Вот вы с ним и поговорите, – предложил Николаев. – А то деремся под одеялом, будто дети. Свалится одеяло-то, а под ним мужики ворочаются, увлекшись дурьей страстью играть в "главного". Россия – главное, Александр Федорович. А мы ее на себя примеряем, будто кафтан. Веженский улыбнулся:
– Ваши слова можно Милюкову передать?
– Так не вы ж будете передавать, – так же улыбчиво откликнулся Гучков. – А те, кому поручите, найдут подобающую формулировку... 30
"Его Высокоблагородию полковнику Глазову Г. В.
Милостивый государь Глеб Витальевич!
В ответ на Ваше предписание от 29.XII 1905 за No729/а-6 должен уведомить, что фракция "большинства", принимавшая ведущее участие в беспорядках, имевших место в Минске в ноябре и декабре прошлого года, ныне почти полностью ликвидирована, ее руководители заарестованы и будут осуждены на каторжные работы или пожизненную ссылку в отдаленные районы Сибири.
В то же время хочу обратить Ваше внимание на то, что после окончания работы военно-полевых судов решительное и быстрое наказание революционеров будет затруднено, ибо ныне, после распубликования Высочайшего Манифеста, некоторые судебные чиновники проявляют беспокойство по поводу "жесткости приговоров по делам, приуготовленным Охраною".
Было бы весьма желательно получить от Вас разъясняющую рекомендацию по поводу того, как следует в новых условиях проводить ликвидации, исходя из стандарта, установленного Департаментом полиции для всех отделений Охраны.
В ожидании ответа
Вашего Высокоблагородия покорнейший слуга
подполковник Завалишин"*
"МИНСК ОХРАНА ЗАВАЛИШИНУ СРОЧНАЯ ДЕЛОВАЯ ТЧК МАНИФЕСТ ОПУБЛИКОВАН ДЛЯ ПОДДАННЫХ А ВЫ ГОСУДАРЮ СЛУГА ТЧК ПОСТУПАЙТЕ ПО ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ ЗПТ ЗА СТРОГОСТЬ НЕ ОСУДЯТ ЗПТ ЗА СЛАБОСТЬ ПРИЗОВЕМ К ОТВЕТУ ТЧК ГЛАЗОВ ТЧК".
"Его Высокоблагородию полковнику корпуса жандармов Глазову Г. В.
Милостивый государь Глеб Витальевич!
Выполняя Ваше предписание от 29.XII.1905 за No729/а-6, спешу уведомить Вас, что большинство социал-демократов ленинского направления, привлеченные к дознанию по делу о преступном бунте, поднятом революционно-анархическим элементом в Москве сразу же после начала С.-Петербургской стачки, находятся в тюрьме. (Вам известно также из моего письма от 18.XII.1905 г., что множество революционеров погибло в перестрелке и пали жертвами возмущения горожан, преданных государю.) Следует заметить, что никто из арестованных партийцев РСДРП (фракция б-ков) не соглашается давать откровенного признания и к сотрудничеству не склоняется. Посему я хотел бы озадачить Вас вопросом, достаточно ли опросного протокола и описания преступных деяний, в коих принимал участие тот или иной революционер, для того, чтобы передавать дело в военно-полевой суд?
Ежели такого рода документов достаточно, то большинство предполагаемых активистов, которые имеют шанс быть выбранными на съезд партии, окажутся на каторге или в ссылке.
Вашего Высокоблагородия покорнейший слуга, полковник
Орлов".
"МОСКВА ОТДЕЛЕНИЕ ОХРАНЫ ДЕЛОВАЯ СРОЧНАЯ ОРЛОВУ ТЧК ПРИШЛИТЕ ОБРАЗЕЦ ТЧК ГЛАЗОВ".
"Милостивый государь Глеб Витальевич!
Я проследил за тем, чтобы Ваше предписание, связанное с судьбою "большинства" русской социал-демократии, было тщательно изучено сотрудниками Люблинского, Петроковского, Лодзинского и Седлецкого районных отделений Охраны. Я взял на себя смелость объяснить истинную причину беспокойства, проявленного Вами относительно этого вопроса, ибо "ленинисты" ныне стали "детонатором" противуправительственного движения в Империи.
Однако исследование формуляров на лип, арестованных в пределах Привислинского края, свидетельствует о том, что все они распадаются на две группы: к одной относятся террористы из партии ППС, возглавляемой Пилсудским, к другой – с.-демократы Польши, руководимые Люксембург и Дзержинским. Должен с горечью констатировать, что с.-демократы Польши и Литвы, содержащиеся в арестных домах, стоят на позиции "большинства" РСДРП. Таким образом, отдельные ликвидации мало что изменят, ибо СДКПиЛ явно тяготеет к соц.-демократии "ленинского" образа мышления.
Был бы весьма обязан Вам, милостивый государь Глеб Витальевич, если бы Вы нашли время и возможность написать мне, как, по-Вашему, следует организовывать работу Охраны в новых условиях, которые, не хочу скрывать, связывают нам руки.
Вашего Высокоблагородия покорнейший слуга
полковник И. Попов".
"ВАРШАВСКАЯ ОХРАНА ДЕЛОВАЯ СРОЧНАЯ ПОПОВУ ТЧК РУКИ РАЗВЯЖИТЕ ТЧК ПОСТУПАЙТЕ СОБСТВЕННОМУ РАЗУМЕНИЮ РУКОВОДСТВУЯСЬ ЗАДАЧАМИ СЛУЖЕНИЯ ГОСУДАРЮ ТЧК ЕСЛИ РАСКОЛ СДКПиЛ НЕВОЗМОЖЕН ДУМАЙТЕ ОБ УДАРЕ ПО ВСЕЙ ПАРТИИ ТЧК ГЛАЗОВ ТЧК".
"ПЕТЕРБУРГ ДЕПАРТАМЕНТ ПОЛИЦИИ ПОЛКОВНИКУ ГЛАЗОВУ СРОЧНАЯ ДЕЛОВАЯ ТЧК ПРОШУ НАЗНАЧИТЬ ДЕНЬ ПРИЕМА ДЛЯ ЛИЧНОГО ДОКЛАДА ПО ПОВОДУ УДАРА ТЧК ПОПОВ ТЧК".
"ВАРШАВА ОХРАНА ДЕЛОВАЯ СРОЧНАЯ ПОПОВУ ТЧК СОБЛАГОВОЛИТЕ НАУЧИТЬСЯ САМОМУ БРАТЬ НА СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗПТ НЯНЕК БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ ТЧК ГЛАЗОВ ТЧК".
"Его Высокоблагородию полковнику Глазову Г. В.
Милостивый государь Глеб Витальевич!
В предписании за No729/а-6 Вы изволили обратить особое внимание на судьбу лиц, принадлежащих к с.-демократии большинства, так наз. "ленинистов". Мне удалось выяснить с полнейшей определенностью, что из 492 арестованных экспедициею барона генерал-лейтенанта Меллера-Закомельского 258 лиц принадлежали к фракции "большинства", 96 к фракции "меньшинства", 104 соц.-революционеры, анархистов – 7.
Из 678 человек, арестованных ныне Отделением Охраны, 425 человек определенно "ленинистских" убеждений, 115 – считают себя принадлежащими к фракции "меньшинства".
Можно со всей определенностью полагать, что выборы делегатов, происходящие сейчас в комитете РСДРП на предстоящий их съезд, никак не смогут принести победы "ленинистам" ввиду того, что они крайне ослаблены после проведенных арестов.
В своей дальнейшей работе я не премину руководствоваться Вашим предписанием, смысл которого мне становится понятен с каждым днем все более и более, ибо пропагандистская работа "большинства" РСДРП имеет особо ядовитый характер.
Вашего Высокоблагородия покорнейший слуга
подполковник Ухов". 31
Попов из охранки выходил теперь редко – только домой и в тюрьму; с трудом переборов страх, который, казалось, въелся в каждую его пору, отправился на встречу с Леопольдом Ероховским. Вручив деньги на поездку в Берлин, рассказал, как должно вести себя, и предупредил о необходимости блюсти осторожность.
– А вы что словно в воду опущены? – удивился Ероховский. – Перепили вчера?
– Какое там... Работы много, устал, мой друг, невероятно устал.
– Так давайте отдохнем, я м а х н у т ь не прочь.
Попов боялся пить с людьми: после пятой рюмки – по иным-то пустяки, безделица – начиналось видение, одно и то же, до изматывающей душу тягостности одинаковое. Пил он теперь, запираясь в кабинете, вечером уже. Он весь день ждал того часа, когда можно н а ч а т ь, припасть сухим, потрескавшимся ртом к большой рюмке, сладко вобрать в себя горечь водки и ждать прихода Стефании.
Когда ему сказали об исчезновении Турчанинова (конечно, Сушков, змей, новость притащил на хвосте, ликовал), наступила прострация: ну и пусть все идет, как идет, ну и пусть провал за провалом.
– Что ж делать-то? – спросил у него Попов томным голосом, испытывая к себе какую-то отстраненную жалость. – Что станем делать, а?
– Ждать будем, – ответил Сушков. – Он даст о себе знать.
– А коли и его убили?
– "И его"? – удивленно переспросил Сушков. – Не понимаю. Кого еще вы имеете в виду?
– Микульску, – хохотнул Попов, чувствуя, что мысль не подчиняется ему, существует отдельно. Даже когда Сушков осторожно вышел из кабинета, ему хотелось продолжать говорить, только бы как-то заполнить осязаемую, громкую тишину.
Утром, после бессонной ночи, похмелье было особенно тягостным, голова трещала; пил черный чай, чтобы взбодриться, подумывал о кокаине, решил было взять в сыскной, у Ковалика, "для опыта", но тот, с готовностью пообещав, предупредил, что с алкоголем несовместимо, может быть "летальный исход". Попов сначала-то не придал этим его словечкам значения, думал, красуется сыщик иностранными терминами. Но потом долго, туго рассуждал, не было ли в этом особого умысла, не по его ли адресу пульнул? Как-никак дважды встречались по делу Микульской, учуял, верно, – перегаром несло за версту, усы одеколонил не помогало, да еще к тому Дурел от запаха.
...Ероховский поначалу о Микульской молчал, ощущалось какое-то неудобство в разговоре, будто что пролегло между ними, хотя, как обычно, зло шутил, рассказывал сплетни, бранил губернатора за излишние строгости военного положения и пил одну рюмку за другою, почти не закусывая: "Или хлестать, или жрать, или баб кохать – каждое– дело требует соло!" Но потом не удержался, лицо побледнело, только лихорадочно зажглось в глазах, спросил:
– Нашли тех, кто погубил Стефу, полковник?
– Одного – да.
– Кто таков?
– Социал-демократ, – затверженно произнес Попов.
– А причина? По какой надобности убили ее?
– Мстили.
– За что?
– Об этом еще рано, пан Леопольд. В свое время открою.
– А что за человек?
– Сапожник. Темный дегенерат.
– Сапожник?! Бах?!
Попов испуганно встрепенулся:
– А вам откуда известно?!
– Так я ж об этом сказал, Игорь Васильевич. Нет, положительно вы сегодня не в себе, неужели забыли?
– Как же, как же, помню, мой друг. – Попов заставил себя улыбнуться. – Я все помню... Только рано об этом, не надо, не будоражьте, и так тяжело сердце разрывается от горя за ласточку нашу...
– И все же вы нынче не в себе, полковник, я по глазам вижу. Выпейте расслабитесь.
– Я-то выпью, а вот вы в Берлине не пейте, у вас язык развязывается, когда переберете, – вспомнил Попов истинную цель своей с Ероховским встречи. – А когда переедете в Стокгольм, там вообще завяжите наглухо.