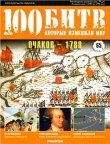Текст книги "Императорский безумец"
Автор книги: Яан Кросс
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 30 страниц)
– …Знаешь, обычная тюремная жизнь… Обыкновенный каземат. Окна закрашены известью. Чтобы не было видно неба. Низкий потолок со сводами. Серыми в грязных пятнах. Сверху капает вода. По полу бегают крысы. Все как обычно. Дверь с глазком, за ней охрана. Слышен малейший кашель… Тоже нормально… И воздух, разумеется, совсем нормальный – будто гниет половая тряпка… Еда… со временем я понял, что не самая отвратная, но вначале кусок не лезет в горло. Хотя, отослав меморандум, я, конечно, был ко всему готов…
Ээва встала и затворила дверь в прихожую. Я все еще не смотрел в ее сторону. Я чувствовал, что сейчас иначе нельзя. Я опустил глаза и спросил:
– …А что это был за меморандум? – Помню, что, спрашивая, я утешал себя тем, что я ведь не знал его собственного мнения о меморандуме… Тимо сказал:
– Это был – как бы сказать – портрет императора Александра. Обрамленный положением в империи. Составленный из тех элементов, которые уже давно зародились в умах мыслящих людей. К восемнадцатому году я слишком многое слишком близко сумел увидеть. Я уже не был больше другом императора. Я говорю больше. Ибо прежде я им был. Но я решил остаться честным человеком. Это уж во всяком случае. И тут я почувствовал: если я знаю, как думают вокруг меня люди, если я и сам думаю так же, как они, но скрываю это от царя, если я делаю вид, что не имею представления о том, что думают окружающие, если своим молчанием я создаю впечатление, что и сам думаю в унисон с придворными льстецами, какой же я тогда честный человек? Тогда, значит, я подлец! Тем более я полагал, что имею в отношении государя кое-какие особые обязательства… – (Тимо, наверно, имел в виду клятву, о которой мне сказала Ээва.) – И тогда я написал его портрет. И отослал ему через Вязьмитинова. И вместе с меморандумом, ну, можно сказать, самую первоначальную программу Российской конституции. Из пятидесяти четырех пунктов… – И тут Тимо вдруг сморщился, как будто от боли или глядя на солнце, так что верхняя губа у него вздернулась и обнажились десны с выбитыми зубами. Но боль, видимо, сразу прошла, и он продолжал веско и с оживлением: —…Помню, я писал в меморандуме, что во всяком случае в одном можно мне поверить: мой стимул – не эгоизм. У меня было время об этом подумать. Теперь я понимаю, что ошибался. На самом деле мой поступок был безжалостной эгоистической попыткой нравственного самоспасения.
Ээва сказала приглушенно и настойчиво:
– Тимо, не вини себя ни в чем. Ты ведь знаешь, что я никогда ни в чем тебя не винила…
– Я знаю. Ты – нет, – сказал Тимо. – И я сам – мне было ужасно горько, что я вынужден причинить боль самому мне дорогому человеку, – но я себя не винил. Я ведь сказал, что сначала я не понимал своего эгоизма. Но и позже, когда понимание пришло, оно не сделало меня слепым. Я думаю – слепым в отношении другой стороны дела. Ибо я не перестаю верить: субъективно можно как угодно относиться к моему поступку, но у него была и объективная сторона. И объективно он мог послужить толчком к переустройству России. Если бы император оказался таким человеком, каким я все же представлял его себе, неправильно, конечно. Разумеется, я с самого начала допускал возможность ошибки. Поэтому я и был с самого начала ко всему готов.
Самонадеянная цельность его утверждений чем-то раздражала меня. Я спросил:
– И к тому, что выбьют зубы?
– Якоб! – крикнула Ээва в каком-то смятении. У меня мелькнула мысль (какие только глупости не приходят человеку в голову), может быть, упоминание о зубах – пароль, который, по ее наблюдениям, приводит в движение безумные мысли Тимо. Но он ответил совершенно невозмутимо, даже тихо:
– …Да. И к этому тоже – или скорее все же… нет… Я ведь все-таки надеялся…
Чтобы вернуть разговор в спокойное русло, я спросил:
– И как же все-таки тебе жилось там?
Он продолжал:
– На четвертый день после ареста рано утром меня перевезли на лодке из города Шлиссельбурга на остров. Им нужно было как можно быстрее засунуть меня в каземат. Так что меня толком даже не обыскали. Когда я сидел уже в предназначенной мне конуре – позже я узнал, что это был шестой каземат в Секретном доме – особо секретном отделении, – в четыре часа утра ко мне явился сам генерал Плуталов в мундире, при всех орденах, и прочел вслух параграфы режима, для меня предусмотренные. Запрещаются разговоры с охраной. Запрещается получение писем. Также и писание их. Вообще запрещаются бумага, перо, карандаш. А также рисование и прогулки во дворе крепости тоже. И вызов врача. Последнее не было указано в пунктах. Это вскоре само выяснилось. Разрешено было только через начальника охраны требовать к себе генерала Плуталова. И постепенно я понял, что это было очень странно: по моему требованию Плуталов неизменно являлся ко мне в каземат. Будь то ночью или днем. За эти годы я требовал его к себе не меньше дюжины раз, может быть даже больше, может быть, требовал и в те периоды, о которых точно не помню. И каждый раз, когда случалось, что он не приходил – а бывало и так, – позже он приносил извинения и объяснял, что был в отпуске или отсутствовал. И когда я спрашивал, почему же не является его помощник, он говорил, что его помощник со мной говорить не уполномочен… Вот ты спрашивал про императорские странности. А разве не странно это царское чудачество, что даже помощник начальника тюрьмы не смеет разговаривать с заключенным. И что у коменданта крепости при этом есть приказ в любое время дня и ночи являться к этому заключенному по его требованию. Да, вот еще что. Я получал обычную тюремную еду. Когда ее приносили, я видел, что ту же самую еду в деревянной посуде несли и в другие казематы. Их в Секретном доме было еще десять или двенадцать. Овсяную и мучную кашу, вареное мясо, иногда рыбу, капустный, или свекольный, или репный суп, черный хлеб. Но с первого же дня мне приносили, кроме того, еще шоколад и сигары. Плуталов сказал: по личному повелению императора. Так что: сгнивай, покрывайся плесенью, уходи в забвение! И грызи черный хлеб! Но закусывай шоколадом и сладко думай о своем императоре…
– Ну, уж сладко-то думать о нем ты не стал?
– Я не притрагивался к его дарам! Их через несколько дней уносили – и приносили новые коробки… Позже, когда он прислал мне фортепиано… к нему я прикасался… С этим искушением я не смог совладать. И там я по крайней мере мог каждый раз играть для императора «Марсельезу» – прежде чем переходил для себя к Баху и Генделю… Но фортепиано мне принесли, когда я просидел уже два года. До тех пор – ни одного допроса, ни одного вызова. Ни малейшего контакта ни с кем. Представь себе, как это действует… когда узник больше всего не хочет молчать, он хочет говорить… когда узник раздираем потребностью высказаться… Гордость не позволяла мне обратиться к императору через Плуталова. Я решил: если он вспомнил обо мне, чтобы заключить меня, он должен помнить и о своем интересе ко мне. И он помнил обо мне… Теперь я это знаю: первые годы он почти не бывал в Петербурге… в Москве, Харькове, Варшаве, Троппау, Вене, Лайбахе… Прямо как будто от чего-то бежал… Я не хочу, конечно, сказать, что от меня. Но он помнил обо мне. Прежде всего этот нелепый шоколад, потом фортепиано. И вскоре граф Дивен. Да-да. Тот самый Карл, с которым в семнадцатом году тебе, может быть, довелось встретиться у меня в Тарту. Он уже тогда был куратором университета… Ну, осенью девятнадцатого года он вошел ко мне в каземат, и я предложил ему сесть на мой табурет.
– Holá-là… Monsieur le Comte… D'ou est-ce que cet honneur?[47]47
Ого… Господин граф… За что такая честь? (франц.)
[Закрыть]
Он был скован, ему было неловко. Он попытался преодолеть себя и найти спасение в присущей ему елейности. Знаешь, эдакий придворный братский проповедник, который в жилетном кармане носит в шелковом мешочке порошок из цветов апельсина, чтобы каждому бил в нос запах райских садов… Он сказал, что князь Александр Николаевич Голицын просил его выполнить царскую волю и сходить меня проведать… И помимо райского он приносил с собой еще запахи салонов и сигар и осеннего свежего ветра… Вначале он приходил сам. Потом стал присылать пастора Мортимера. И в конце концов явился сам Голицын..
– И чего же они хотели от тебя?
– Чтобы я разрешил им доложить царю, что признаю свое заблуждение. Чтобы я обещал им, что попрошу у него прощения за свою дерзость!
– И ты?!
– Я сказал: «Господа, если вы желаете составить мне приятное общество в моем одиночестве, то я чрезвычайно вам благодарен. Но если вы желаете, чтобы я отступился от своих убеждений, то я вынужден сказать вам: не трудитесь! Больше того, я вынужден сказать: не приходите сюда. Ибо когда идет бой, проповедники покорности – простите меня – по меньшей мере докучливы… А мое пребывание здесь, в каземате, по моему разумению, не что иное, как мое шестьдесят первое сражение».
Я спросил:
– Тимо, с кем же ты вел этот свой шестьдесят первый бой?

Он стоял возле юго-западного окна залы с тлеющей трубкой в руке и сквозь стекло смотрел на куст шиповника у самого своего лица, лепестки сейчас уже осыпались, а плоды еще не созрели. Он с удивлением обернулся ко мне.
– С императором, само собою разумеется. С тиранией, символом которой он был.
Я спросил:
– Но, Тимо… разве в этой битве была у тебя какая-нибудь ну… надежда?
Он ответил:
– Да, была. На этой надежде я все и построил. И все фортепианы, и Мортимеры, и Ливены питали мою надежду. Ибо я надеялся, что он не выдержит, Что царь не выдержит.
– Чего?
– Того, что за правду, которую он не может не признать, вот так медленно… убивает… своего прежнего друга.
– Его нервы оказались крепче, чем ты думал? – Не скрываю, что в моем вопросе прозвучала нота легкого злорадства. Но он не обратил на это внимания.
Он сказал:
– Все же не настолько крепкие, как можно было бы думать. Но я совсем не хочу сказать, что у меня самого были железные нервы. Через два года я почувствовал, как мои нервы натянулись до предела. Появился ужасный зуд на коже, вонь от параши вызывала рвоту. Иногда я полдня, например, не мог вспомнить, как звали Лерберга. Я начал видеть дикие и дурацкие сны. Но спал при этом так мало и так чутко, будто в сущности вообще не спал. А потом – думаю, это было в мае двадцать первого года, я уже много раз сбивался со счета – однажды ко мне пришел врач. Между прочим, он поинтересовался, как я сплю. Я сказал, что ужасно скверно. Он спросил: «А как вы спали последние ночи?» Я ответил: «Да, в самом деле, две последние ночи после большого перерыва – очень хорошо». Помню, я сказал: «Прямо будто в гробу черного дерева». – (Тимо засмеялся.) – Он удалился, и мне принесли ужин. И к ужину – кружку пива. И тут мне пришло в голову… Пива мне прежде не приносили, только два предыдущие вечера… Может быть, две предыдущие ночи в моем черном гробу я все-таки что-то видел и слышал, во сне или сквозь сон, не знаю… Только у меня возникло подозрение. Я, как обычно, съел половину ужина, а пиво вылил в парашу. Улегся на койку, притворился, что сплю, и стал ждать, что будет… В десять часов, как обычно, произошла смена караула. Молча, конечно, без рапорта. Тюремной охране запрещено разговаривать, если слышит узник. Тем более разговаривать со мной. Так же, как и мне с ними. И я никогда с ними не говорил. Во всяком случае в то время, которое помню. Я решил: запрет значит запрет. Переступить через него означало бы в какой-то мере… просить их или императора. Они между собой все же перебрасывались время от времени словом. Иногда и больше. О щах, о погоде, о женщинах. О мятеже в Семеновском полку. Полушепотом. Или над чем-то гоготали. Или – прости, Китти, – портили воздух, если поблизости не было офицера. Большей частью молодые ребята, очевидно. Но я их не видел… На этот раз я лежал на койке и ждал. Ничего. С потолка капала вода, и Вениамин Иванович пробежал по полу. Это был главарь среди моих водяных крыс. И вдруг я уловил, что в эту ночь мои стражи по ту сторону двери необыкновенно тихи. Сон у меня опять пропал. Даже тени сонливости не было. Наоборот, как и все эти годы, – лихорадочный бег мыслей. Реками, стремнинами, водопадами доказательств а, – по-моему, неопровержимые доказательства всем возможным оппонентам… Цепочками шли цитаты. Монтескье, Кант, Марк Аврелий. Все вперемежку. Дерзкие звонкие фразы. И вдруг сладостный рывок испуга – рывок воспоминаний – как сладкий укол: господи, там, по ту сторону, – весь мир! Там Китти и мой ребенок… Ему уже два с половиной года! Если все прошло благополучно… Должно было благополучно пройти, раз со мной произошло такое?! И я даже не знаю, сын у меня или дочь… Потом, когда было уже за полночь – время я научился чувствовать кожей, – рядом в помещении охраны проскрежетал отпираемый замок. Слышно было, как солдаты мгновенно стали в строй. Отперли мою дверь – я заметил, что совсем тихо, – и вошли два офицера со свечами. Они сразу остановились по обе стороны проема и пропустили в каземат кого-то третьего. И уголком глаза я его сразу узнал. То был князь Голицын. Я смотрел сквозь ресницы. Его приземистая фигура. Большая лысая голова, угловатое, как у горбуна, тело и короткие ноги. По его приказанию офицеры поставили свечи на фортепиано в ряд. Он подошел к моей койке и так низко склонился надо мной, что я почувствовал на лице его дыхание и боялся, что он заметит, как дрожат у меня веки… Он вышел из каземата и махнул офицерам следовать за ним. И тут вошел император, один…
Я не смог удержаться от вопроса (и в то же время это было попыткой пробудить у Тимо самоконтроль):
– Тимо, ты уверен, что это был он?
Тимо сказал:
– В первое мгновение – нет. На нем была короткая черная пелерина с капюшоном, надетым на голову. И я не решался открыто на него смотреть. Я хотел знать, что будет дальше. Но все же при свете четырех свечей я узнал его. Хотя бы уже по тому, как он себя вел. Некоторое время он стоял перед моей койкой, и я должен был изо всех сил заставить себя ровно дышать. Разрываемый двояким чувством. Чувством триумфа – что он все-таки пришел! И ужасного разочарования, что пришел он не установить со мной человеческую духовную связь, а явился тайно посмотреть на меня. Как на Бог знает от какого зелья ослепшее и онемевшее нечто. Наконец он отступил на шаг… и представляешь себе, что он сделал… сквозь ресницы я видел, как он преклонил колени на загаженном крысами полу и стал молиться… в двух футах от моего лица. И я ясно слышал, как он шептал:
«Господи, молю тебя за этого слепого ближнего моего… и за самого себя. Господи, за этого строптивого брата… который идет против Тебя, господи, когда говорит о своем помазанном правителе неслыханные доселе дерзости…» (Он умолк на мгновение, будто для того, чтобы решиться на какое-то признание. Я забылся и открыл глаза. Я смотрел прямо на него. Да-да, он стоял на коленях в каземате! Тыльной стороной руки он сдвинул капюшон на затылок. Его лоб с глубокими залысинами был мокрый от пота. На лицо он заметно постарел. В сравнении с тем, каким был в шестнадцатом году. Оно стало каким-то обрюзгшим и красным.
Под глазами мешки. Из-под полузакрытых век он смотрел в потолок, и выражение лица у него было такое отсутствующее, притворно сладкое, что мне стало неловко и противно на него смотреть… Потом я ясно услышал, как он снова зашептал.)
«Господи, ты же насквозь видишь все его мысли так же, как и мою душу. Тебе известно, что и я их знаю. Он прав, не во всем, но во многом, во многом. Благодарю тебя, боже, что ты помог мне это понять. Тебе обязан я, что гнев мой и испуг созрели до понимания. Я благодарю тебя, твоей божественной мудростью ты даровал мне ясное понимание, что перед этим строптивым братом моим и подданным я не смею признавать его правоту! Ибо, признав ее, я послужил бы не тебе, господи, но демону хаоса… Я благодарю тебя за тягость, которую ты возложил на мои плечи этим сознанием, самым тяжким среди множества других подобных, чтобы испытать мою пригодность быть властелином. Но, признаюсь, – эта тягость день ото дня становится для меня все непосильнее… И поэтому я молю тебя, боже, сделай так, чтобы Тимотеус Бок образумился и попросил у своего государя прощения за свои неслыханные слова, чтобы я мог простить их ему и снять со своей души бремя, не держать его узником… – Он закрыл глаза и прошептал: – Но буде же ты порешил иначе, я скажу тебе те самые слова, которые сын твой сказал тебе в Гефсиманском саду. «Отче мой! Если возможно, да минует меня чаша сия; впрочем, не как я хочу, но как ты!..» – И знаешь, Якоб, при этих словах голова его упала на грудь. Он открыл глаза, наши взоры встретились…
Но… мы обменялись только двумя словами. Он прошептал:
«…Timothee?!»
Я сказал: Тартюф!
После чего он схватился за голову и выбежал из каземата. Я сказал бы – как-то не по-царски. С тех пор я его больше не видел. – Тимо как-то неуловимо улыбнулся и добавил – Во всяком случае, живым…
Я сказал:
– Тимо, это… это же могло быть только во сне?
Тимо прошел в другой конец залы, туда, где тень от зеркальной стенки канделябра почти сливалась с темнотой. Он стоял там едва видимый. Трубка в руке у него погасла. Он рассмеялся и сказал:
– Ну… как знаешь…
Среда, сентября
Вчера я наконец вернулся из Пярну. Пробыл там почти три недели. Кое-какие результаты поездка все же дала. Особенно благодаря тому, что придумала Ээва и велела мне проделать. В начале августа несколько вечеров я просидел в трактире Рыйкаской зеркальной фабрики и разговаривал там с фабричными и деревенскими людьми, которые, как миленькие, несут туда арендатору господина Амелунга заработанные ими копейки, чтобы выпить пива и водки. Я просил их спеть расхожие песенки про войну с французом и записал их:
И, наконец, вот эту, которая гудела у меня в голове.
Встречаю я могильщиков,
Навстречу мне идут.
Ой, ой,
Навстречу мне идут.
Ох, здравствуйте, могильщики,
Кого хороните?
Ой, ой,
Кого хороните?
То славный воин Бонапарт,
Его хороним мы.
Ой, ой,
Его хороним мы.
В середине августа Ээва ездила в Тарту. Там она встретилась с Мазингом, посвятила его в наши планы и привезла от него рекомендательное письмо к пярнускому пастору Розенплентеру[49]49
Розенплентер Иоганн Генрих (1782–1846) – прибалтийский литератор, занимавшийся проблемами развития эстонского языка. Издавал журнал «Beitrage zur genauer Kenntnis der ehstnischen Sprache».
[Закрыть]. Тому самому, который за последние 10–12 лет приобрел известность своими «Beitrage», По мнению одних – известность серьезную и достойную благодарности, а по мнению других (и более многочисленных), весьма странную. Через несколько дней я поскакал в Пыльтсамаа, оставил лошадь в замке, у валевского конюха, чтобы он отвел ее обратно в Выйсику, а сам сел в почтовую карету и отправился в Пярну с горсточкой записанных мною народных песен времен Отечественной войны для того, чтобы напечатать их в розенплентеровских «Beitrage». Будто бы!
Розенплентер живет в пасторате Елизаветинского прихода на улице Кунинга, это любезный человек с живыми глазами, в возрасте между сорока и пятьюдесятью. Короткие темные волосы, зачесанные на лоб, и быстрые движения нисколько не говорят о его духовном сане. Глядя на него, я подумал, что, будь я руководителем любительского театра и мне понадобился бы этакий благородный французский революционер (могут ведь и такие встретиться), я наверняка решился бы обратиться к нему. Кстати, он, говорят, действительно занимался в Пярну театральной деятельностью, да еще на эстонском языке.
Когда я вручил ему письмо Мазинга, он выставил из своего кабинета пять или шесть мальчуганов разного возраста и выдвинул ящик стола:
– Смотрите, здесь я храню письма пробста Мазинга. У меня их уже больше ста.
После того как он вскрыл и прочитал привезенное мною письмо, он долго смотрел сначала на меня, потом на улицу и снова на меня.
– Ну, – медленно произнес он, – понятно, что это письмо мы в ящике хранить не станем. – Он на минуту вышел и, вернувшись, сказал: – У Натали кофейник уже на огне, чтоб напоить вас кофеем. Но, пожалуй, от этого письма кофе станет еще горячее.
Речь Розенплентера скорее замедленная, чем пылкая, так что кофе у нас за это время несколько раз остывал. Но помочь мне или, вернее, им он явно очень стремился. Что при его уравновешенной натуре и солидном положении, учитывая сомнительность сего предприятия, в сущности, трудно было бы даже объяснить, если бы за этим не угадывалось глубокое уважение к прожектеру и чудаку старому Мазингу, с рекомендательным письмом которого я явился. Итак, Розенплентер разложил на столе привезенные мною записи народных песен, а меня оставил читать книги на застекленной веранде, выходившей в сад. Мы оба полагали, что мне не имеет смысла особенно расхаживать по городу. Ведь в таком крохотном гнездышке, как Пярну, приезжий человек может легко привлечь к себе ненужное внимание и вызвать интерес у зевак. Немножко я все же прошелся. Из любопытства. И для того чтобы, если понадобится, иметь представление. Я посмотрел торговую гавань с ее семью-восемью морскими парусниками и множеством шлюпок, которые покачивались на широкой реке Пярну возле устья Сауги. И на таможню, и на здание гаванской охраны. И на те два прибрежных кабака у реки, где мне, наверное, лучше всего было выставить угощение гаванской охране. Но больше всего я сидел на улице Кунинга у Розенплентера и читал, или беседовал с его милой супругой, или мастерил из палочек игрушки для пасторских детишек… Сам Розенплентер несколько дней в промежутки между пасторскими обязанностями ходил с визитами к знакомым купцам и владельцам кораблей и пил у них кофе. И к концу недели он повел меня в свой сад. Кстати, фамилия Розенплентер означает «Сажающий розы». И в самом деле вместе со своими конфирмантами он засадил не только розами, но и молодыми деревцами половину пярнуских кладбищ. И свой собственный сад он превратил в небольшое, но образцовое парковое хозяйство и одновременно питомник. В беседке среди живой изгороди из бузины за кружкой пива сидел мужчина с медным лицом и железно-серой шкиперской бородой. Розенплентер меня с ним познакомил и оставил с глазу на глаз.
Это был капитан Снидер, он из фризов, родом из деревни Кокдорп, с острова Тексель. Но в свою родную гавань за последние пять лет ему доводилось заворачивать только случайно. Все это время он ходил для пярнуского торгового дома Яакке дважды в год одним и тем же рейсом – из Пярну в Опорто, в Португалию, с грузом лифляндского льна и оттуда привозил знаменитый портвейн для лифляндских и петербургских гурманов.
После того как мы с капитаном Снидером два или три вечера пили пиво в саду у Розенплентера, а потом под шум дождя на стеклянной веранде – чай, мне, при всей нашей первоначальной обоюдной необщительности, в основном все стало ясно. Да, капитан Снидер согласен. Он может, скажем, в мае или в сентябре будущего года тайно посадить в Пярну на свое судно двух-трех человек, желающих путешествовать. Он может спрятать их в трюме, в грузе льна. Конечно, кое-кого из корабельных матросов ему придется в это посвятить. Но у этих ребят рот надежно на замке. Конечно, путешественникам самим следует позаботиться, чтобы гаванская стража их не заметила. Однако капитан Снидер полагал, что с очень большими расходами это не связано… Дальше я мысленно импровизировал: я мог бы как унтер-офицер в отставке пойти на службу в охрану гавани. Я мог бы завести дружбу с охранниками. И так основательно, чтобы в нужное время они лежали вповалку в заднем помещении трактира… Так или иначе, капитан Снидер сразу даст пастору Розенплентеру знать, когда в будущем году с Божьей помощью окажется в Пярну.
Что касается платы капитану Снидеру, то об этом мы точно не договорились. На мой вопрос капитан Снидер ответил:
– Знаете, я кое-кого переправил из Португалии в Амстердам, кому это было нужно. У них прошлым летом сильная заваруха шла вокруг ихней новой Carta de lei, то есть конституции. Одни были за, другие – против. Доходило и до пистолетов. По-южному. Вмешался англичанин. В такое время у людей возникает нужда в быстром отъезде. Но я могу сказать по совести: сундуки с серебром у моих пассажиров намного легче не стали, когда в Амстердаме мы вынесли их на набережную. Так что ваши пассажиры могут не бояться, что их разорят.
Вернувшись, я сразу же вечером рассказал Тимо и Ээве о результатах моей пярнуской поездки. Тимо сказал:
– Спасибо тебе. Это очень хорошо, что у нас есть время до мая.
Ээва сказала:
– И очень хорошо, что теперь, слава Богу, у нас есть на что надеяться.
Суббота, 10 сентября
Два последних вечера, заперев дверь на ключ, я снова раскладывал на столе бумаги Тимо. Я решил самые важные пункты его конституции записать в дневник, чтобы они имелись у меня под рукой. Потому что я все же не могу считать его рукопись своей. А я хочу, чтобы у меня перед глазами были параграфы из нее, когда я думаю над ними или когда захочу писать здесь о Тимо, о нашей жизни. Чтобы мне не нужно было для этого мучиться с хрустящими, рассыпающимися жесткими страницами.
Итак:
Христианская религия есть краеугольный камень нашего основного порядка… Вследствие этого сохраняется полная терпимость… А религия стоит в стороне от всех земных страстей и интересов… Любовь к отечеству должна стать таким же нравственным принципом, как почитание религии…
Сюда в текст закона Тимо вписал между строк, в скобках, свои первые комментарии, и хотя он имеет в виду колебания русского правительства в его отношениях с Наполеоном, однако его замечания представляются мне настолько существенными, что я перепишу и их:
(Если правительство велит церкви предать анафеме человека, у которого нет ничего общего с церковью, а потом чтить этого же человека как союзника, то тем самым подрывается уважение народа к вере. Правительство, которое велит народу изо дня в день молиться за людей, ненавидимых всем миром, тем самым ставит под сомнение самое церковь: с чем же мы имеем дело – с церковью или с полицейским театром…)
Однако искусства и науки должны елико возможно поощряться как главная опора образования и тем самым и религии. Высшим законом должно быть общественное благо. Суверен есть лишь средство, но не цель. Отечество неделимо и не может увеличиваться в своих пределах. Оно имеет твердо установленные границы… (Присоединив к России Финляндию, Бессарабию и Польшу, император Александр навлек на наши головы справедливое негодование всей Европы, причем в то время, когда сами мы испытываем нетерпимый гнет и нам приходится бояться всей скверны, которая может ожидать узурпатора…)
Россией должна править династия. Монархия лучше, чем анархия, и Бурбон лучше, чем Робеспьер…
Ну, за это последнее его, может быть, и не заключили бы. Хотя и в этом можно усмотреть преступление. Ибо утверждать преимущества Бурбонов в сравнении с Робеспьером можно только в том случае, если не считать эти преимущества само собою разумеющимися! Однако образ мыслей, не считающий их само собою разумеющимися, уже сам по себе преступный образ мыслей… Это даже смешно! А вот то, что за этим следует, относится уже к тому безумию, за которое его посадили за решетку, за которое ему выбили зубы:
Суверен правит, повинуясь закону, который стоит над ним. И имени господа не должно поминать всуе… Суверен есть первый слуга государства, личность его священна, но он ответствен за свои поступки, если же он поддается постыдным страстям, забывает свой долг, совершает ложные шаги, то его можно взять под стражу… Отечество представлено через выборных от нации… Они собираются на Учредительное собрание. По своим интересам нация распадается на сословия, однако каждое из них защищают одни и те же законы, и все сословия пользуются одинаковой гражданской свободой. Не истязатели, не оковы… Знания должны обеспечивать право на занимаемую должность…
Стой-стой! Знания должны обеспечивать право на должность? Это же бессовестно емкая мысль, бессовестно скупо сформулированная… Не сословие, не имя, не протекция, а знания… Но это так же невозможно, еще более невозможно, чем все остальное, о чем он бредит:
В империи должно быть единое и влиятельное дворянство, оно служит связью между различными частями империи. Оно должно быть тем, что препятствует правителям становиться деспотами. Оно должно быть хранителем национальной чести… И все же дворянство должно быть только средством для достижения общего блага, а не самоцелью… Различия между сословиями должны быть пропорциональны их нравственности. Задачей военных сил государства должна быть защита отечества от насилия, а не осуществление насилия… Ни один закон не входит в силу иначе, как с согласия нации… Также и налоги. Суверен предлагает законы. Народ должен быть вправе домогаться от него предложения таковых… Все судьи должны быть избираемы. Правосудие – как в гражданских, так и в уголовных делах – должно быть неограниченно гласным… Любое тайное государственное действие должно рассматриваться как насилие… В любом нарушении закона следует усматривать преступление против государства. Каждый гражданин должен обладать правом подать в связи с этим жалобу… Никто не может быть осужден без суда… Каждый вправе делать все, что не нарушает общественного порядка… Каждый имеет право думать, следуя своим убеждениям, и говорить то, что он думает. Наказуемы должны быть только ложь, клевета и мятеж. России нужны граждане, рабов у нее более чем достаточно…
О дьявол! Это же звучит почти как Magna Charta[50]50
Великая хартия (лат.).
[Закрыть]англичан, высеченная на языке древнеримских надписей. Возможно, где-нибудь в мире это и осуществимо. Однако в Лифляндии, на мызе Выйсику Вильяндиского уезда, бред моего зятя, господи помилуй, нельзя назвать иначе как прекрасным и благородным, но он безумнее самого безумия…
8 октября 1827 года, поздно вечером
Почти целый месяц я ни одного слова не написал в этой тетради. Наверно, я устал от дневника, это раньше или позже неизбежно случается. Но, очевидно, еще и потому, что ничего особенного за это время не произошло. Помимо того, что наступила осень и дело уже совсем идет к зиме. Желтые леса становятся одного цвета с сероватой стерней на полях.
Позавчера маленькому Георгу исполнилось девять лет. Лийзо испекла ему сливовый торт. Отец и мать подарили большой альбом для рисования, в Тарту заказали переплет из телячьей кожи с фамильным гербом, тисненным золотом.
Для своего возраста этот жучок весьма неплохо рисует, и вообще у него светлая головка. По желанию родителей я учил его какое-то время арифметике и геометрии… И понял, что Тимо возлагает большие надежды на его будущее. Только неизвестно, насколько реальны эти надежды для сына такого человека в наших обстоятельствах… Во всяком случае странная милость, которую Александр проявил к этой семье и которой она не пожелала воспользоваться, в какой-то мере и сейчас, в николаевские дни, остается в силе. Притом что отец здесь в своем имении живет, в сущности, как узник, что пытаются шпионить за каждым его шагом, за каждым словом, в это же самое время по высочайшему повелению сын его с нынешней осени зачислен в Царскосельский лицей. Это нам известно еще с весны. И вчера мальчик вместе с матерью отправился в путь, навстречу новой жизни.