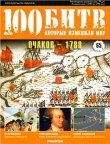Текст книги "Императорский безумец"
Автор книги: Яан Кросс
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 30 страниц)
О дьявол! В этих страницах только в том случае есть какой-то смысл (впрочем, даже и в этом случае вряд ли, вряд ли!), если я буду здесь в такой же мере честен перед самим собой, каким хочу быть перед ней… Мои давние и в общем-то редкие унтер-офицерские похождения промелькнули у меня в памяти, когда мы стояли там на лестнице. Похождения с гродненскими и курляндскими деревенскими девицами и о которых мне стыдно вспоминать. В одних случаях из-за их пошлой пустоты, в других – из-за глупого стремления к серьезности. Мои давние похождения и моя давняя неутоленность. Была еще и третья причина, которая, возможно, меня подталкивала: мое желание отомстить в этом доме за пресловутую любовь Ээвы и Тимо, кому-то за что-то отомстить непристойностью. В сущности, я даже не знаю, кому и за что. Мне не хватало нужного спокойствия, чтобы разобраться.
Я сказал, и голос против моего желания прозвучал сипло:
– Вернемся наверх и переждем дождь.
Я не отпустил ее локоть. Вел ее перед собой по лестнице. Снял с ее плеч свой плащ, бросил его на спинку стула. Она села на прежнее место на плетеном диванчике и сказала – почему-то почти шепотом, точно угадывала мои мысли:
– Хорошо. Вы собирались рассказать мне о позапрошлогоднем бунте в столице…
Я сказал:
– Отложим это. Сегодня мне хочется говорить о другом…
На чугунной плите в печной нише у меня стоял горячий чайник. Я налил нам обоим чай. Поставил на стол бутылку Ээвиного малинового ликера и рюмки и наполнил их.
– Ну, согреемся немножко. Сегодня свежо.
Она покачала головой, а я свою рюмку выпил до дна. И почувствовал, что у меня развязался язык. И было желание этим воспользоваться, чего вообще-то мне часто недостает. Но не в этот раз. Ибо я хотел знать, как далеко она позволит мне зайти.
Черт его знает – ведь глупо об этом писать, даже на тех страницах, которые, во всяком случае, пока я жив, никто, кроме меня самого, читать не будет. А все равно глупо…
– …M-lle Риетта, смотрели вы когда-нибудь на картину в овальной раме, что висит в простенке между окнами в малой зале? Это картина знаменитого французского художника. Картина Грёза. Он писал преимущественно молоденьких, удивительно томных девушек. При условии, если они были свежи и прекрасны, ну я сказал бы, как персики. Риетта, я целый месяц любуюсь вами. Грёз был бы счастлив, если бы ему довелось увидеть вас. Но он давно умер. А теперь это счастье выпало на мою долю. Нет, написать вас я не сумею. Это правда. Но зато видеть вас я умею. Вашу особенную свежесть. Вашу женственность и вашу детскость. Так что мне непременно нужно уяснить себе, каким образом то и другое слито в вас. – И тому подобное… Такое, что, случись самому говорящему послушать себя со стороны, ему станет стыдно, но он все равно с еще большим пылом будет продолжать. Ибо убедится в действии своих слов и почувствует победную радость и в то же время и жалость, когда увидит, как у девушки пламенеют лицо и шея. Как ее испуганный ротик не может удержаться от польщенной улыбки и как она не в силах отказаться от наслаждения своим испугом. Пока говорящий не схватит ее руки в свои. Пока она сама не обнаружит, что мужчина держит ее на руках. Пока рот ее уже не может отвечать на горячечный и рассеивающийся вопрос, который она все время себе задавала. Боже, как далеко я позволю ему зайти?!.
Не знаю, сколь настойчиво спрашивала себя об этом Риетта, но мне она позволила дойти до конца.
Когда я снова увидел окружающее, дождь, как и прежде, стучал в окно над письменным столом. Мы лежали на моей железной кровати, на смятом, скомканном сером одеяле, отвернувшись друг от друга. Я подумал: ведь прав Овидий, говоря, что любая тварь потом становится печальной. Хотя, по-моему, должно быть как раз наоборот… И вдруг я увидел, что Риетта уткнулась лицом в подушку и ее обнаженные плечи содрогаются от рыданий.
Спустя какое-то мгновение я понял, что мне следует ее утешать. И что это нудно и бессмысленно… Я протянул руку, погладил ее медные волосы и попытался потихоньку повернуть к себе ее лицо, а сам при этом думал: дождь еще сильнее сыплет, а история эта теперь так или иначе на моей шее… Я спросил (как всегда в таких случаях спрашивают):
– Риетта, почему ты плачешь? Отчего?
И тут я как бы что-то от себя отодвинул, как бы отдернул какую-то булавкой приколотую занавеску (и булавка слегка меня при этом уколола). Я сказал: «Дорогая, тебе совсем не нужно…»
Сначала она зарыдала еще сильнее. Как всегда в таких случаях. Потом резко повернула ко мне мокрое лицо в красных пятнах (будто только теперь мне открылась) и так на меня посмотрела, что я вздрогнул и насторожился. Она сказала:
– Это просто ужасно… Как же вы ко мне относитесь!..
– Что ужасно? Что значит как…
– Вы даже не заметили… Вам это совсем не важно!
– Чего? Чего именно?
Я в самом деле не понял, о чем она. И, по правде говоря, мне было в общем безразлично… До тех пор, пока она не сказала…
– Что я не была девушкой.
Я немного помолчал. Наверно, даже достаточно долго.
Черт побери! Какая-то девица может быть, а может и не быть девушкой. Мужчину это может удивить или не удивить. Удивление можно изобразить, а можно и не изображать. Но когда девушка сама прямо тебе об этом говорит, она сразу становится очень близкой. Очевидно, в силу того, что к безмолвно совершаемому всеми бессловесными божьими тварями вдруг прибавляется человеческое слово… Не знаю. Я сказал:
– Риетта, пойми, я не хотел обидеть тебя своим удивлением… Я считал, что, если ты захочешь мне сказать, так скажешь сама…
Эх… Ну, до того как она ответила, это было только отчасти правдой. На самом деле у меня промелькнула мысль. Ту, которую так просто взять, уже десять раз брали… Так чему же мне удивляться и зачем спрашивать?.. Она и не поверит моему удивлению. Или сделает вид, что поверила, и начнет мне, дурню, сочинять, что, мол, в детстве упала с дерева… Но теперь, после ее самообличения, если это можно так назвать, я сказал ей (хотя и понимал, что говорю еще не совсем честно):
– Риетта, если говорить правду, то я в самом деле очень хочу знать.
Я взял ее за руки, она села и, опустив голову, рассказала мне свою историю. Это был племянник ее директрисы. Тартуский студент. Член Куронии[23]23
Студенческая корпорация (лат.).
[Закрыть], юрист. С обещаниями жениться. С прошлой весны, все лето (поэтому она и осталась на лето в Риге), до самой осени. А в сентябре молодой барин уехал в Тарту. И в октябре был помолвлен с дочкой какого-то помещика. Вот почему в последнюю школьную зиму Риетте не давались задачи по арифметике. И петровские реформы тоже. Особенно после того, как в Риге стало известно, что на рождество ее Петер сыграл свадьбу…
Разумеется, мне следовало ее утешать. Хотя я и чувствовал, что, возможно, все это и не совсем так, как она говорит, но тем не менее весьма правдоподобно.
Ну, я говорил ей все, что в таких случаях, наверно, всегда принято говорить: Риетточка, невинностью и прежде злоупотребляли, ее обманывали. Но поверь мне, пятно предательства остается не на жертве, а на предателе. Я говорил: «Поверь мне! Поверь мне!» Я называл ее дорогая. Я снова стал целовать ее голые руки. И когда я при этом взглянул на себя со стороны, мне уже не было стыдно. Но теперь она вдруг отодвинулась от меня и с ужасом сказала:
– Якоб! Мы забыли, что отец может каждую минуту прийти сюда за мной!
И это, разумеется, была правда. Мы быстро привели себя в порядок. Я накинул на нее свой плащ (дождь еще не совсем прошел), и мы условились, что встретимся завтра, в полдень, за парком, где по одну сторону ржаное поле, по другую до северо-восточного утла парка тянется ольшаник.
В сущности, не знаю зачем. И не знаю, что из этого получится. Все равно. Там будет видно.
Четверг, 9 июня
Сегодня вскоре после завтрака, наверно около половины десятого, из парка стали доноситься пистолетные выстрелы. Значит, Тимо упражнялся в стрельбе по мишени. В давние времена он этим много занимался. Теперь, с неделю тому назад, он вдруг опять отправился в парк стрелять, между прочим, в один из тех дней, когда Ээвы не было дома (в тот раз она ездила, кажется, в Пыльтсамаа к приходскому судье с какими-то бумагами). Так что сегодня утром мне подумалось: Тимо, видимо, считает, что его выстрелы могут действовать Ээве на нервы, поэтому он стреляет, когда ее нет.
Я следил: примерно с минутными перерывами он выпустил четыре заряда и минут пять потратил на то, чтобы зарядить свои четыре пистолета. Время от времени он выдерживал пятнадцатиминутные паузы.

Около половины одиннадцатого я спустился вниз. Я собирался сделать большой круг и незамеченным пройти на место встречи с Риеттой. Совсем ни к чему, чтобы в имении видели, как мы вместе ходим. А может быть, у меня просто не было нужного спокойствия, чтобы сидеть в комнате и читать.
Я прошел через яблоневый сад до северного конца парка и зашагал по старой проселочной дороге уже по другую сторону живой изгороди из акаций в направлении, откуда доносились пистолетные выстрелы Тимо. Я еще подумал, пойду скажу ему «доброе утро» и попрошу разрешения посмотреть, как он упражняется в стрельбе. Я, наверно, даже уже обдумал, как мне к нему обратиться. Его утверждаемое безумие всегда затрудняло мне обращение к нему. Каждый раз я должен был переступить через какое-то препятствие.
Сквозь заросли акаций, все еще влажных от вчерашнего дождя, я видел, что Тимо стоял в десяти шагах от изгороди, на нем был зеленый домашний сюртук, в правой руке пистолет, рука вытянута, он как раз целился. В сорока шагах впереди между двух старых лип на определенной высоте лежала длинная горизонтальная планка. И в ней, на расстоянии с полпяди одно от другого, были просверлены отверстия, в которые вставлялись светлые еловые шишки. С левой стороны с трети планки шишки были уже состреляны. В этот миг раздался выстрел, и крайняя шишка слева разлетелась на кусочки. Как раз напротив меня, по ту сторону акаций, стояли желтые садовые стулья и стол, на нем три коробки с пулями для длинноствольных кухенрейтеровских пистолетов и ящичек с порохом. Я не стал сквозь изгородь окликать Тимо и направился к калитке, до которой было несколько шагов, чтобы оттуда подойти к нему. Но тут же остановился. Сквозь мокрые кусты я увидел, что из-за деревьев вышел Ламинг, и теперь, одновременно с Тимо, они приближались к столу с пистолетами. Я сразу же отказался от мысли войти в парк. Я не стремился оказаться в обществе Ламинга. Но разговор между Тимо и управляющим я волей-неволей слышал. Волей-неволей в том смысле, что это не входило в мои намерения. Однако признаюсь, что не совсем вопреки желанию, потому что недавний странный разговор Тимо с Ламингом разжег мое любопытство. Я слышал, как Ламинг спросил:
– Как чувствует себя господин фон Бок сегодня?
– Было совсем неплохо, – сказал Тимо и положил пистолет на стол рядом с другим, – да вот иквибы досаждают.
– Ах, сегодня опять?.. – с беспокойством спросил Ламинг.
– Время от времени, слегка. Садитесь.
Тимо присел на край стола и стал заряжать один из «кухенрейтеров». Ламинг (чего я, по правде говоря, от него не ожидал) осторожно опустился на садовый стул.
– Вы хотите мне что-нибудь сказать? – спросил Тимо, сдувая сажу с пистолетного замка и искоса глядя на Ламинга.
Должен признаться, любезный тон Тимо в разговоре с Ламингом меня удивил. После того особого напряжения, которое явно звучало в его голосе в субботу. Но еще больше подивился я Ламингу. Управляющий, значит, вовсе не считал своего хозяина безумным. Ибо пойти разговаривать с помешанным, стреляющим из четырех пистолетов, который к тому же в субботу был к нему столь враждебен, – на это требовалась немалая смелость. Или это означало, что разговор был ему по какой-то причине особенно нужен. Ламинг что-то промямлил, сощурил глаза, я не понял, то ли смеясь, то ли сонно, и каким-то странным тоном спросил:
– Господин фон Бок в прошлый раз обещал, что скажет мне правду. Когда мы окажемся вдвоем.
– Ну и что?
– Сейчас мы вдвоем.
Теперь я понял, что делало тон Ламинга странным: интонация была настойчивой и в то же время просительной.
Тимо уже зарядил пистолет и спросил, кстати, куда тише, чем я ожидал:
– Что за вопрос мой управитель мне задает?..
Ламинг медленно ответил:
– Вы ведь мною – как своим управителем были в свое время недовольны? Правильно?
– Правильно.
– Вы ведь ничего, так сказать, не имеете против того, что я умер? Правильно?
– Правильно.
– Это очень хорошо, что вы говорите мне правду. А теперь я хочу знать: какого вы мнения о моем брате?
– Ах вот что! – раздельно произнес Тимо. – Послушайте, он ведь у вас тоже умер?
– Значит, по вашему мнению, Николай тоже… умер?
– Николай? Как так? – Тимо вдруг вытянулся во весь рост перед Ламингом и приставил длинное дуло «кухенрейтера» к его синему жилету против сердца.
– Слушайте, Ламинг, хватит дурака валять! У вас был один-единственный брат Йохан. На всю Ригу известный пропойца. Десять лет назад умерший. Что за вздор вы мелете про Николая? А?
– Ой-ей-ей, господин фон Бок, вы ослышались, – сказал Ламинг, правда несколько испуганно, но как-то неожиданно деловито, пытаясь потихоньку отвести пистолет от своей груди, – я даже не упомянул имени Николая! Боже упаси! Никоим образом не называл…
– Ах так! Возможно, – произнес Тимо вдруг неожиданно равнодушно, засовывая пистолет за пояс. – Ну, ладно. Значит, это имя назвали мои иквибы.
– Наверняка, – сказал Ламинг, отодвинувшись вместе со стулом по мокрой земле подальше от Тимо, и встал. – А эти ваши иквибы… какие они?
– Ох, не нужно вам этого знать, – глухо сказал Тимо. – Кто узнал, какие они, на того они сразу же набрасываются. И кто не знает нужных формул, тот, – он снова поднес пистолет Ламингу к груди, – тот вообще просто… пшик!
Ламинг, улыбаясь, немного попятился и ушел. Тимо зарядил остальные три пистолета и со всеми четырьмя направился в свой тир снова стрелять. Мгновение я думал, не пойти ли и не спросить ли у Тимо, что это за очередной нелепый разговор, но он показался мне слишком для этого странным. И помимо того, не следовало мне его слышать.
Я постарался как можно меньше шуршать в акациях и отошел подальше. По опушке ольшаника обошел вокруг поля и точно в назначенное время успел на место встречи, Риетта была уже там.
Гибкость и мягкость ее ладоней и рук и чудесная гладкость ее горящих щек были настолько сущими, что только что происходившие безумные или полубезумные разговоры улетучились из моей памяти. Я снял с Риеттиных плеч свой плащ и разостлал его прямо на траве в тени ольховых кустов. Я говорил ей о многом. В нескольких сотнях саженей раздавались пистолетные выстрелы Тимо, они звучали слабо, приглушенно. Я, как умел, старался утешить Риетту… Но единственное, в чем я не стал заверять ее, что на ней женюсь… И когда мы условились, что во вторник она придет ко мне на урок, мне, наверно, захотелось чуточку ее поддразнить, и я спросил:
– По-видимому, великий декабрьский бунт теперь тебя больше уже не интересует?..
Она взглянула на меня большими глазами, крепко обняла за шею, сунула нос мне под подбородок и затрясла головой. А мне показалось, что возле ворота у меня полно щебечущих птиц… Фу-ты, леший!..
Лучше буду вспоминать, как текла наша – Тимо, Ээвы и моя – жизнь в имении весной восемнадцатого года. Столько, сколько она длилась…
Вернувшись в конце февраля вместе с Ээвой из последней тартуской поездки, Тимо особенно усердно принялся здесь вот, в этой самой комнате с эркером, за какое-то сочинение. Я думал тогда, что, наверно, это жизнеописание Лерберга, над которым он, по его словам, уже работал. Спрашивать я не стал, я не чувствовал себя настолько ему близким. И Ээве я тоже не стал задавать вопросов, хотя она довольно часто ходила сюда наверх, в рабочую комнату Тимо, и, видимо, в какой-то мере была посвящена в его дела. Это явствовало из того (как, по крайней мере, мне представляется теперь, задним числом), что странные изменения, происходившие с Тимо, время от времени сказывались и на ней. Но, возможно, все это мне стало казаться только потом. Начиная с ранней весны, Тимо стал каким-то немногословным (особенной разговорчивостью он, правда, никогда не отличался, не считая редких случаев, когда был опьянен особенно интересной ему темой). Иногда в разговоре он намекал на что-то трагическое. Кстати, на настроение обоих не могло не оказать влияния то обстоятельство, что окружающее дворянство и родственники все больше их (или нас) игнорировали. И если бы только это! Было намного хуже. Приведу один пример.
В апреле с последним весенним снегом мы поехали на пасхальное богослужение в церковь пыльтсамааского замка послушать проповедь старого Темлера, но главным образом – прекрасный орган. Никто из нас особенно привержен церкви не был, однако по случаю праздника мы все же туда отправились.
Из селения и из деревень ближней округи в церкви собралось, наверно, не меньше тысячи человек. Когда мы втроем и с нами еще четвертый – кучер – вошли в храм, уже звучало вступление. Кучер смешался с толпой и остался позади, а мы втроем прошли вперед и заняли места фон Боков на скамье у самой кафедры. И вдруг владелица лустивереского поместья Марие Самсон фон Химмельстирн поднялась со своего места – она сидела на такой же деревянной скамье, на один ряд позади нас – лицо суровое, как у гневного каменного изваяния. Она заставила встать и своего Рейнхольда и пронзительным голосом во всеуслышание объявила: «Eher werde ich im Kuhstahl mein Gebet sagen! Da weiß man wenigstens, wo man ist!»[24]24
Лучше я буду молиться в хлеве. Там по крайней мере знаешь, где ты находишься (нем.).
[Закрыть]
Они прошествовали – госпожа впереди, муж по пятам за ней – через всю церковь и вышли на улицу. Я смотрел насмешливо, но замирая от испуга, как сперва вставали жены – паюсиская госпожа Фитингоф и пэрстиская госпожа фон Белоу и… дьявол знает все их фамилии, а за ними быстрее или медленнее поднимались их мужья и как поредело наше окружение, потянувшееся за Самсонами. Только арендатор старого пыльтсамааского замка, нескладный господин фон Валь и его всегда стрекочущая жена продолжали сидеть. Потом говорили, будто госпожа пробовала теребить своего мужа, чтобы тоже уйти, но ему посчастливилось уснуть еще до начала проповеди Темлера, и госпоже Валь пришлось смириться и остаться на своем месте. Только что касается Валя, так то были несправедливые разговоры. Как потом выяснилось.
Ээва, разумеется, слышала слова госпожи Самсон. Она даже не шевельнулась, лишь опустила побледневшее лицо. Она вытащила из своей норковой муфты белый кружевной платок. Плакать она, конечно, не собиралась. Просто в момент острого смятения сжала его в руке. Тимо смотрел на движение вокруг себя, пожимая плечами, и мне показалось, что он слегка улыбался, потом повернулся лицом к алтарю и стал рассматривать изображенные там картины. В этот момент Ээва уронила носовой платок. Я сразу не сообразил, что мне следовало его поднять (до сих пор замечаю, что в таких, как я, благовоспитанность не очень-то глубоко сидит). Тимо не стал ждать, пока я сдвинусь с места, он сделал, как бы это сказать, – маленький, но весьма многозначительный жест. Конечно, это было странно. А все-таки, черт побери, замечательно! Он поднял с полу Ээвин крохотный носовой платочек и подал ей. Потом поднес ее руку к губам – мы сидели у всех на виду – адаверские Штакельберги и прочие еще возились за нашими спинами, собираясь уходить, – и целовал Ээве руку до тех пор, пока дворянские скамейки не опустели.
Из всех родственников в ту весну нас соизволила посетить только Элизабет. То есть Эльси, сестра Тимо, та самая, что замужем за Петером Цёге фон Мантейфелем из Харьюмаа. И Эльси во всяком случае сделала со своей стороны все, чтобы вместе с ней к нам приехал и ее муж. Они пробыли в Выйсику всего несколько дней и держались ужасно холодно и важно. А нам явно надлежало понимать, что их приезд – необыкновенное и невероятное снисхождение. Меня они в расчет вообще не принимали – веснушчатая и вечно будто полунасморочная Эльси и ее ширококостный, темноволосый, накоротко оболваненный Петер, из которого в дальнейшем получился именно тот брюзга с умом острым, но недоброжелательным, который уже тогда в нем нескрываемо проглядывал. Ради Тимо и в силу создавшегося положения Ээву они внешне кое-как приняли. Я заметил, что, поговорив с Ээвой и в какой-то мере познакомившись с ней, они были несколько удивлены. Что же касается старшего брата, то в нем Эльси усматривала достойную не только сожаления, но даже восхищения жертву собственной романтической слабости. В ее отношении к Тимо – недавней гордости семьи, – несмотря ни на что, присутствовала крупица восхищения. А Петер видел в Тимо просто глупца, от которого можно ожидать чего-нибудь и похуже, чем его женитьба.
Ах да, и самый младший из братьев Тимо Карл побывал у нас в Выйсику весной 1818 года. Это был довольно непосредственный молодой человек, и из почтения к Тимо он держался по отношению к Ээве как кавалер. Когда он приехал, то намеревался остаться в Выйсику подольше, однако через неделю вдруг неожиданно уехал.
Хочется записать здесь некоторые высказывания Тимо в ту весну, которым суждено было приобрести большее значение, чем это могло сперва показаться.
Помню, как однажды мы сидели втроем внизу, в кабинете Тимо. Топился камин, и мы говорили о том, что в Курляндии крестьяне уже получили вольную, в то время как в Лифляндии этого еще не произошло, и что лифляндский ландтаг намеревается в ближайшем будущем предпринять в связи с этим соответствующие шаги, как вдруг Тимо сказал:
– Кто знает, как долго я еще пробуду с вами…
И я помню, как при этих словах лицо Ээвы, несмотря на падавший на него живой отблеск огня, как-то окаменело. Я сказал:
– Ну-ну, с чего это…
Тимо рассмеялся:
– Мало ли что может случиться. В один прекрасный день Наполеон снова приплывет на паруснике к берегам Франции, французы поднимут бунт, и мы от имени Священного союза пойдем их усмирять… Вероятность ведь растет с каждым днем.
Я спросил, вероятность чего он имеет в виду?
– Вероятность, что, не задетый в шестидесяти сражениях, в шестьдесят первом свое получит.
Или помню еще один завтрак. Было уже совсем по-весеннему. Мы опять сидели втроем, и Тимо рассказывал о волнении, вызванном речью императора на Варшавском сейме, в которой несколько недель тому назад он сказал, что «намеревается дать России то, что поляки уже получили», то есть конституцию. Тимо повернулся и поверх первых примул, стоявших в вазе посередине стола, посмотрел на Ээву. Он сказал:
– Китти… на всякий случай, особенно если у нас родится мальчик, постарайся дать ему самое лучшее образование, какое только сможешь.
И Ээва ответила, мне показалось, как-то удрученно (а может быть, мне все это стало казаться уже потом, кто его знает):
– Тимо, мы постараемся сделать это вместе.
В ответ на что Тимо с размаху поставил крутое яйцо, которое собирался чистить, рядом с серебряной подставкой и сказал:
– Для этого император в самом деле должен бы дать нам конституцию. Но он этого не сделает. – Тимо взял в руку разбитое с одного конца яйцо и стал особенно тщательно снимать с него скорлупу. Он сказал: – Ну, увидим.
А теперь уже можно сказать: конституции мы, разумеется, не увидели, но зато неожиданно быстро увидели кое-что другое.
Пятница, 10 июня, вечер
Сегодня какой-то суматошный день. С утра у меня была Риетта. На арифметические задачи времени у нас остается все меньше и меньше…
Нет, я все еще не обещал ей жениться. Я не обещал этого и себе самому. Но подумываю об этом всерьез. Конечно, я заверил Ээву, что останусь здесь в Выйсику и помогу ей в ее трудностях. Но мне кажется, что на самом деле во мне нет никакой необходимости. И кроме того, если бы она меня попросила остаться, я ведь мог бы остаться здесь и в качестве зятя Ламинга. Мне следовало бы поговорить с Ээвой, но все не удается. Она вернулась вчера вечером из Тарту и по просьбе доктора Робста привезла с собой еще другого врача. Чтоб доктора могли составить консилиум. И насколько я мог понять, не по поводу умственного здоровья Тимо, а какого-то нервного зуда на шее, груди и ключицах, который его очень изводит. Тартуского врача утром я видел только мельком. А Ээве, правда, бегло и стоя, я все же рассказал, что случайно услышал, как Тимо говорил с Ламингом о том, что Ламинг мертв. Чтобы она об этом знала, если, может случиться, будет говорить с тартуским врачом о душевном состоянии Тимо. Я рассказал ей об этом разговоре торопливым шепотом в холле под семейными портретами Боков и Раутенфельдов, и мне показалось, что Ээва слушала меня с каким-то испуганным выражением лица. Она спросила:
– Больше ничего?
Я покачал головой. Она сказала:
– Якоб, мне нужно с тобой поговорить, как только я найду время.
За обедом Ээва молчала. Она вышла к столу, за которым сидели оба доктора и я, явно только из вежливости, сделала несколько глотков и вернулась к Тимо. Полагаю, что доктора между собою обсуждали состояние здоровья Тимо, но при мне они об этом не заговаривали. Привезенному из Тарту врачу около тридцати, у него хрупкие кости и крупная угловатая голова, и всей своей насмешливой деловитостью он являет собою полную противоположность мягкости доктора Робста. После обеда мы сыграли с ним здесь у меня партию в шахматы. Фамилия его Фельман. Сначала маленький Юрик смотрел, как мы играли (этот крепыш бессовестно хорошо для своих лет играет в шахматы и с большим вниманием следит, когда играют взрослые), так что я не мог говорить с доктором свободно. Но когда мальчику надоело и он ушел, я постепенно, издалека подобрался к разговору. Имеется ли у доктора свое мнение по поводу умственного здоровья господина Бока?
Доктор Фельман смотрел на меня непомерно большими темно-серыми глазами.
– Насколько я слышал, господина Бока потому и освободили из заключения, что он лишился рассудка.
– По слухам, да.
– Из этого можно заключить, что если бы он не лишился рассудка, то и дальше бы сидел в Шлиссельбурге.
– Возможно.
– А отсюда можно сделать вывод: если бы правительство вдруг нашло, что господин Бок в здравом уме, его вернули бы в Шлиссельбург.
– Значит?..
Доктор Фельман странно сжал свой четкий и упрямый рот в трубочку:
– Вы – брат этой прелестной и так нашумевшей госпожи Бок?
– Да.
– Видите ли, мне, конечно, неизвестно, каково было состояние здоровья господина Бока в разные периоды его пребывания в Шлиссельбурге. Сейчас он, по-моему, измучен, нервен, но девять лет каземата выдержал довольно благополучно, если не считать отсутствия зубов, и душевно он абсолютно здоров. Но я не психиатр. Формально я даже еще вообще не врач, я студент. Госпожа Бок хотела пригласить сюда профессора Эрдмана, но профессор Эрдман не смог поехать и послал меня.
После чего он сказал gardez, и через четыре или пять ходов я сдался.
Часов в шесть вечера кучер Юхан повез доктора Фельмана в Тарту, и я ждал, что Ээва придет ко мне сказать то, что хотела, и выслушать то, что я намеревался сказать ей, но она не пришла, а сейчас уже девять часов.
Наши пятьдесят коров и пятьдесят телок возвращаются с пастбища домой. Отсюда из-за стола мне не видно, как они идут, но справа у наших хлевов стоит гул их стоголосого мычания, как будто там не дважды пятьдесят скотин, а дважды пятьдесят «Елизавет». Я думаю о том пароходе, который ходит между Петербургом и Кронштадтом: я видел, как он выпускает пар, и слышал, как ревет его труба, когда мы со старым Мазингом и Ээвой ездили в столицу весной семнадцатого года. Однако о том, что произошло весной восемнадцатого, у меня написана еще только половина.
Одним ясным майским утром (теперь я знаю, что это было в воскресенье, девятнадцатого мая) я, как всегда, встал часов около семи. Подошел к открытому окну и вдохнул свежий утренний воздух. Я слышал, как Тимо, который всегда рано вставал, уже играл на фортепиано, стоявшем в малой зале. Он был превосходный пианист. Он играл то, что я уже слышал в его исполнении: отрывки из написанной в прошлом году Шубертом Четвертой симфонии. Вдруг на половине такта игра оборвалась. Помню, что я как раз одевался и мельком подумал, почему он перестал играть? Потом опять подошел к окну, чтобы обдумать план на предстоящий день (прочесть пятьдесят страниц романа Айхендорфа «Ahnung und Gegenwart»[25]25
Айхендорф Йозеф (1788–1857) – немецкий писатель романтического направления. Роман «Предчувствие и действительность», о котором идет речь, написан в 1815 году.
[Закрыть], перекопать для огорода сорок саженей земли, проросшей сорняками). Я взглянул в сад и увидел: за кустами черной смородины, между стволами яблонь стоит солдат с ружьем. Мне вспомнилось, что я слышал, будто во времена деда Тимо в Выйсику держали в саду сторожей с ружьями, но все-таки только осенью, когда на деревьях висели плоды, и, кроме того, конечно же то не были солдаты… И помню, как кое-что недавнее, едва заметное, едва уловимое, обратилось в моей душе в мрачное предчувствие, в испуг – как будто в меня пусть и без боли всадили невидимый кол, отчего я одеревенел…
Я спустился. Прошел через классную комнату в бильярдную, услышал голоса и вошел в малую залу. Мне пришлось пройти между двумя жандармами в голубых мундирах, стоявшими в дверях. Тимо сидел в маленьком кресле под картиной Грёза, Ээва стояла за его спиной, положив руки ему на плечи. Напротив в другом кресле сидел низенький косоглазый генерал, весь в орденах и крестах, вышитый золотыми дубовыми листьями воротник подпирал ему уши. Возле генерала стоял полковник с аксельбантами. Дверь в кабинет Тимо была распахнута, и я видел, что в ящиках его письменного стола рылся жандарм. Когда я вошел в залу, Тимо сказал генералу:
– Это брат моей жены. Я надеюсь, что в отношении него господин маркиз не держит в черенке кинжала милостивого императорского рескрипта.
Генерал раздраженно произнес:
– Господин Бок, я повторяю вам, у меня есть прямое повеление императора следить, чтобы никто не докучал вашей супруге или членам вашей семьи.
Ээва сказала:
– Якоб, это генерал-губернатор, маркиз Паулуччи. Государь прислал его сюда. Чтобы он лично арестовал Тимо и позаботился о том, чтобы не беспокоили его семью. Подумай, какая честь!
Два жандарма вышли с охапками бумаг из кабинета Тимо и положили их на ковер перед генералом.
Маркиз встал, поднял с полу несколько листков и поднес их к глазам. Он явно был близорук.
– От кого эти письма?
Тимо взглянул: «От генерала Дюмурье».
– Этого революционного эмигранта?
– Если желаете.
– Его письма вам?
– Мне.
– Откуда он вас знает?
– Мы познакомились в Англии.
– Когда?
– В тринадцатом году.
– В связи с чем вы туда ездили?
– Спросите государя.
– Кхм…
Генерал-губернатор вытащил из груды еще несколько листков.
– Что это?
– Стихотворение.
– Я вижу. An Hernn Obristlieutenant von Bock. Den 22. Oktober 1813…[26]26
Господину полковнику фон Боку. 22 октября 1813… (нем.)
[Закрыть] Кто вам его написал?