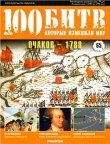Текст книги "Императорский безумец"
Автор книги: Яан Кросс
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 30 страниц)
Панихиду в церкви должен был служить пастор Кольбе из Паламусе, близкий родственник Мазинга по женской линии. Мы с Ээвой еще в девять часов утра побывали в церкви. Несмотря на столь ранний час, там собралось не меньше сотни окрестных жителей. Свечи горели перед алтарем вокруг открытого гроба, и четыре ктитора несли почетный караул. Мы подошли к гробу, чтобы на прощанье взглянуть на старика: пусть говорят про него как угодно, но для нас он, несомненно, был нашим вторым благодетелем. А возможно, даже и первым. Ибо то, что в его доме было заложено в нас с Ээвой за три с лишним года (основы первоначальных знаний, критический взгляд на мир и – я надеюсь – основы человеческого достоинства, не говоря уже о всякого рода навыках, вплоть до умения чертить, которым я зарабатываю сейчас себе и своей семье хлеб насущный) – убежден, что все это для образования личности Ээвиной и моей было куда более существенно, чем какое угодно наследство. Конечно, все то, что перед нами открылось благодаря Тимо, не менее важно. Для меня – возможность… и соблазн – после школы Мазинга расширять свое образование и – по мере того как открывались мои глаза – оказываться перед все более безнадежными проблемами. Для Ээвы – необходимость найти себя в новом, навязанном ей мире и способность мерить этот мир собственной меркой… Так что, может быть, следует спросить, не оказался ли Тимо, наш первый благодетель, по отношению к нам, как бы сказать, – неким Мефистофелем наизнанку?..
При свете свечей мы в последний раз смотрели на старого пробста. Нос у него еще больше заострился. Его тонкий с горькой усмешкой рот был таким же, как при жизни: в одном уголке – проказливость, в другом – горечь, как тогда – мне вдруг отчетливо вспомнилось это там, в церкви, – когда он говорил нам однажды, наверно лет двадцать назад, за завтраком (а возможно, и еще не раз позже), что благодаря ему у местного народа теперь есть наконец-то своя разумная и содержательная словесность, только беда, что сам местный народ об этом не знает.
До панихиды оставался еще целый час. Мы с Ээвой прошли по дороге, устланной запорошенными снегом еловыми ветками, обратно к пасторату. Расстояние всего сотня шагов. А когда мы вошли в дом, я сразу понял, что за это время что-то случилось.
Двери столовой, библиотеки и рабочей комнаты пробста были распахнуты настежь, а в самих комнатах никого не было. Все люди, приехавшие в пасторат, находились в зале. В недоумении мы с Ээвой посмотрели друг на друга и тоже направились туда. Толпа в траурных одеждах с испуганными, раздраженными, возмущенными лицами стояла в зале, посредине толпы – очень бледная госпожа Мазинг и багровый профессор Иеше, последний что-то говорил, а она старалась его успокоить. Иеше выкрикивал:
– Herrschaften![79]79
Господа! (нем.)
[Закрыть] Понимаете! Она пропала! Пропала! Ее необходимо немедленно найти!
Антон, единственный в доме зять, Антон фон Шульц, всегда позволявший себе бесцеремонности и резкости (по-видимому считая, что ему не оказывают в семье должного уважения), огрызнулся:
– Что же, профессор хочет сказать, что кто-то из нас ее украл?!
Иеше закричал почти фальцетом:
– Donnerwetter![80]80
Черт возьми! (нем.)
[Закрыть] Я утверждаю, что она пропала и ее нужно найти!
Госпожа Мазинг, ломая руки, воскликнула:
– Боже мой… оставим по крайней мере грубости…
Я спросил кого-то, стоявшего рядом, о чем идет речь, но, прежде чем тот успел мне ответить, профессор Иеше разъяснил во всеуслышание:
– Я вижу, господа не знают, что случилось. Смотрите, в этом ящике, – профессор Иеше поднял обеими руками черный ящик длиной в полторы пяди и повернулся с ним направо и налево, – в этом ящике пробст хранил свой последний восемнадцатилетний труд. Рукопись большого эстонско-немецкого словаря. Практически законченную. Огромный труд. Шестьдесят печатных листов. Ничего подобного прежде не было сделано. Его словарь в четыре раза больше, чем словарь Хупеля. В будущем году этот словарь должны были напечатать. Пробст сказал мне во вторник, что ему хотелось бы дожить до семидесяти лет единственно ради того, чтобы своими глазами увидеть словарь напечатанным. Он надеялся, что гонорар поможет его семье избавиться от всех хозяйственных забот…
Я прислушался: в эту минуту зазвонили колокола. Началась панихида. Иеше продолжал:
– Тогда во вторник пробст велел принести ящик со словарем к своей постели. В четверг, когда он скончался, госпожа Мазинг отнесла ящик в его рабочую комнату и поставила на письменный стол. Сегодня утром он был еще там…
Кто-то воскликнул:
– Вы же и сейчас держите его в руках!
Иеше почти взвизгнул:
– Но он пустой!
Иеше открыл крышку и показал всем, что ящик пуст. Люди в траурной одежде смотрели молча. Звонили церковные колокола. Иеше продолжал:
– Сегодня утром рукопись была в ящике. Значит, ее забрали в течение последнего часа…
Антон крикнул:
– Среди нас вор!
Госпожа Мазинг тихо произнесла:
– Дорогой Иеше… я вас прошу, я уже достаточно наплакалась…
Иеше прервал ее:
– Милостивая государыня, я понимаю, вы готовы пожертвовать своим благополучием и благополучием своей семьи, чтобы избежать скандала… А я говорю вам: во имя науки этого делать нельзя! Глупая шутка остается глупой шуткой, воровство – воровством. Вы должны приказать, чтобы поставили охрану и чтобы никто не мог отсюда уйти. Вы должны послать за полицией!..
Антон вставил:
– Разделимся на две группы. Одна у другой будет шарить по карманам и за пазухой!
Госпожа Мазинг взяла профессора за руку:
– Дорогой друг, я иду в церковь на отпевание моего мужа. И я приглашаю идти со мной всех, кто его уважал и любил. – Она обратилась к Иеше: – Скажите, что мне еще остается делать в эту минуту?
Иеше пожал плечами:
– Как вам угодно. – Он обратился к толпе: – Я ставлю этот ящик сюда, на стол. И надеюсь, что, когда мы вернемся из церкви, рукопись будет в нем лежать. Кто бы ее ни взял, должен сам понимать: раньше чем через пятьдесят лет никто под своим именем издать ее не сможет, ибо всем известно, что ни один человек, кроме Мазинга, не был способен осилить такую махину.
Мы отправились в церковь. Но я не помню ни одного слова из того, что говорил Кольбе. Когда мы вернулись в пасторат, ящик был пуст по-прежнему. И только когда я в этом убедился, то понял, что у меня все же тлела надежда, что рукопись будет возвращена. Ибо я понимал, может быть скорее чутьем, но все же достаточно ясно, что значит эта пропажа для дальнейшего развития нашего языка.
В Тарту за гробом последовало несколько десятков саней. И наши в том числе. В тот же день к вечеру пробста похоронили на Яановском кладбище в семейном склепе его первого тестя, ратмана Элерца. Шел мокрый снег, перед склепом было произнесено много прощальных слов. Иеше в своей речи снова вернулся к пропаже. Он сказал, что отдельные страницы исчезнувшей рукописи были напечатаны для пробы: одна, на которой было слово «садовник», вторая, где было слово «смерть». И хотя смерть отняла у нас нашего досточтимого коллегу, но его неустанный труд садовника на ниве эстонского языка, заросшей сорной травой, к нашему всеобщему и великому несчастью, не пропал бы, если бы чья-то легкомысленная, а может быть, и преступная рука не схватила мешок с самыми ценными семенами, собранными трудом этого садовника… Пусть же совершивший это хотя бы post factum опомнится и вернет рукопись семье, или пришлет ее в университет, или в консисторию. Ибо, оставив рукопись у себя, он все равно никогда никакой прибыли из нее не извлечет, поскольку опубликовать рукопись можно только под достопочтенным именем покойного пробста и ни под чьим иным. Любая попытка сразу обнаружит воробья, пытающегося петь канарейкой…
В ненастье приехавшие сюда люди стояли вокруг оратора, и эти необоснованные или обоснованные обвинения вместе с мокрым снегом падали на их обнаженные головы и на головы многочисленных пришедших на кладбище тартусцев, не понимавших, о чем идет речь. А маленькая госпожа Мазинг беспомощно сжимала свой все еще красивый рот, и ее повелевающие, молящие, испуганные глаза лани под траурным Крепом заклинали Иеше замолчать, но прервать его речь она все же не решилась.
Когда мы возвращались с кладбища, я слышал разговоры, что сам окружной судья Химмельстерн обещал напечатать в «Dorptsche Zeitung»[81]81
«Дерптская газета» (нем,).
[Закрыть] обращение, чтобы тот, в чьих руках находится рукопись, вернул ее обратно… Когда мы садились в сани, я своими ушами слышал, как госпожа Мазинг сказала Шульцу, мужу своей падчерицы (которого она вообще терпеть не может, так что обратиться к нему ей было нелегко):
– Антон, ты знаешь окружного судью, не можешь ли ты попросить его, чтобы он отказался от мысли печатать обращение… Даже страшно подумать – какая тень ляжет на наших знакомых и на всех нас… О господи…
Вечером, уже в темноте, мы вернулись в Экси и остались ночевать у госпожи Мазинг. Консистория приняла решение, что вначале Кольбе будет служить и в Паламусеском и Эксиском приходах, и госпожа Мазинг сможет таким образом вместе с дочерью прожить траурный год в пасторате.
Поздним вечером за столом сидели Кольбе с женой и кое-кто из местных жителей, профессор Иеше остался в Тарту. Но посеянное им дало всходы во мне. Когда опять заговорили о рукописи, я сказал:
– Госпожа Кара… вам надлежало последовать совету профессора Иеше. Кого-то поставить на страже у окон, чтобы никто не смог улизнуть, и вызывать полицию.
Госпожа Мазинг, как это свойственно южанкам, вспыхнула:
– Полицию?! А что бы полиция сделала… если бы, в конце концов, и притащилась сюда? Стала бы обыскивать?! Интересно, как бы она обыскивала наших пасторов и помещиков!
Я сказал:
– Она обыскала бы подозрительных…
Госпожа Кара воскликнула:
– А я не хочу, чтобы среди нас были подозрительные!
Я не отступал:
– Но ведь они все равно среди нас были.
Госпожа Кара воскликнула с таким жаром, который в устах эстонки или немки показался бы странным:
– Все равно?! Все равно ничего бы не нашли! В таких случаях никогда ничего не находят! И Антон тут же наговорил бы то самое, что он уже и так успел сказать…
Я понимал, что зашел слишком далеко и что мне, человеку все же постороннему, не подобало спрашивать, что же такое сказал Антон, если у Кары не повернулся язык повторить. Но Кольбе спросил вместо меня:
– А что же успел сказать господин Антон?
Вопрос почтенного и несомненно доброжелательного старика помог Каре продолжить, тем более что темперамент не позволял ей молчать:
– Антон сказал мне: «…Кара, наверное, этой рукописи и не было никогда!» Представляете себе! Ухмыляется в свой лисий воротник и говорит: «Очевидно, все восемнадцать лет эти разговоры старика были просто пустопорожней болтовней. Блеф великого обманщика». Антон даже повторил, как будто я недостаточно понимаю по-немецки: «Понимаешь, il grandissimo bluffo!» И еще прибавил, что, конечно, я теперь приму участие в игре, чтобы вызвать к себе сочувствие и интерес… Такой porco![82]82
Свинья (итал.).
[Закрыть] Простите меня…
Кольбе сердито покачал круглой седой головой.
– Ну, подобные разговоры, разумеется, ведут со зла. Я не видел готовой рукописи пробста. Но я своими глазами видел горы лингвистических материалов…
Кара воскликнула:
– Я так разозлилась на Антона, что у меня потемнело в глазах. И тут же в санях я шепотом сказала ему: «Антон, теперь мне ясно, что это твоя работа! Ты отомстил за то, что мы с Отто, по твоему мнению, были недостаточно терпимы к тебе!» Антон стал на меня кричать – то есть кричать он не посмел, кругом были люди, – он прошипел, что я сошла с ума. Это меня насмешило, я ударила лошадь и оставила его фыркать среди дороги. И теперь я боюсь, что он не станет просить Химмельстерна, как я хотела, чтобы тот не давал объявления в газете… Потому что, боже правый, я не хочу, чтобы пошли разговоры!
Мне хотелось сказать ей: «Сударыня, разговоры все равно уже идут…», но я ничего не сказал.
По нашей просьбе нам с Ээвой предоставили на ночь те самые крохотные комнатки с перегородкой не доверху, в которых мы в этом доме когда-то жили, и сами стены пробудили так много воспоминаний почти двадцатилетней давности, что мы с Ээвой, разделенные дощатой стенкой, полночи вспоминали друг с другом прошлое.
– Помнишь, Якоб, как Кара – тогда она была еще гувернантка, каждое утро в шесть часов приходила сюда будить нас? Помнишь, как она заставляла нас вместе с нею петь:
Тимо уже сказал им, что хочет назвать меня Катариной…
– А помнишь, Ээва, как пробст приходил сюда, чтобы тащить нас на урок скрипки?
– Как же не помнить… Он каждый день мучил скрипкой своих девчонок.
– Ээва, а у тебя сохранилась скрипка? Тимо ведь подарил тебе? Но я никогда не слышал, чтобы ты играла.
За стенкой Ээва ответила:
– Я так много играла, Якоб, но иначе…
В темноте ее фраза осталась висеть в воздухе, и я спросил:
– Ты имеешь в виду… жену царского друга… ну, и жену чуть ли не цареубийцы?
По ту сторону дощатой перегородки Ээва продолжала шепотом:
– …Да-а… Я старалась быть женой мыслителя и женой достойного сочувствия безумца… Меня просто не хватило, чтобы еще играть на скрипке… Sostenuto[84]84
Sostenuto (итал.) – буквально: сдержанно (музыкальное обозначение сдержанного темпа).
[Закрыть], чему научил меня старый Мазинг, это все, что я умею…
Утром мы поехали домой. Когда мы свернули на Пуурман и оказались в лесу, где заскользили по снегу и сани уже не скрежетали и не подпрыгивали, я сказал:
– Что касается беспокойства госпожи Мазинг за семейную и прочую репутацию, я этого не понимаю. Если рукопись окончательно пропадет, то вина за это в какой-то мере навсегда ляжет на госпожу Мазинг. Даже если допустить, что рукопись все равно бы не нашлась, попытайся она принять какие-то меры. Но во имя науки, как сказал Иеше, или во имя истины, как можно было бы сказать, – ей все же следовало что-то предпринять, чтобы найти преступника! Вместо того чтобы… – Я замолчал. Мне не хотелось слишком плохо говорить о бедной госпоже Мазинг.
Только спустя некоторое время под мерный шаг лошади Ээва отозвалась:
– …Мало ли что следовало бы… Бог его знает, какие предположения могут быть у госпожи Мазинг по поводу преступника. Она действительно может подозревать Антона или еще кого-нибудь. Откуда нам знать… Я думаю, что она вправе поступать так, как считает нужным…
В тот вечер в Экси после похорон старого пробста в нашей бывшей комнатке с дощатой перегородкой я вдруг почувствовал, что сестра, как в былые годы, близка мне. Но это заблуждение, вызванное воспоминаниями. На самом деле судьба совсем отдалила ее от меня, сделала другой, научила иначе думать… На самом деле моя сестра, увы, дама.
18 февраля 1836 г.
Вижу, что прошло четыре года с тех пор, как сделана последняя запись. Можно сказать – целая вечность.
Если перерывы в дневнике становятся такими долгими, какой же это дневник?! Но можно поставить вопрос иначе: если в жизни перерывы между событиями, между выплесками из этой серой реки, становятся такими долгими, что же это за жизнь?!
Сегодня я снова достал из-под половицы эту тетрадь. Сдул с нее пыль и песок. Но не для того чтобы написать сюда историю моей жизни за эти четыре года. Ибо о чем же мне писать? Мы жили здесь в этом старом каменном доме у реки самой обыденной жизнью. Анна была мне хорошей женой, и я старался быть безупречным мужем. Особенно первый год после смерти Маали я нередко ловил себя на мелких проявлениях любви к Анне, совсем незначительных проявлениях нежности, маленьких услугах, которые мне казались смешными, когда я сам их замечал. Примеры?
Помню, весной следующего после смерти Маали года в середине июня, если не ошибаюсь, однажды воскресным утром Анна сказала, как бы между прочим, что сегодня день рождения ее отца.
Я не стал спрашивать, сколько ему было бы лет. Потому что мне нужно было делать вид, что я думаю совсем не о том человеке, о котором на самом деле думал… Я быстро встал из-за стола… Мы уже кончили завтракать и выпили кофе. Я тут же посреди комнаты привлек Анну к себе, поцеловал ее горячим и долгим поцелуем (наверно, и для того, чтобы она больше не говорила об отце) и сразу вышел. В сарае я перевернул лодку, поставил ее на киль, отыскал валявшиеся там забытые четыре ивовых прута. Я прибил их к бортам лодки, натянул на них зеленый брезент, спустил лодку на воду и позвал Анну покататься… Ээва уже насосалась и уснула. Анна села в лодку, и мы поплыли к Лийгрисаару. Дул холодный ветер, я набросил Анне на плечи свою куртку… и она спросила меня… и не только в этот раз… что со мной, что я вдруг так добр к ней…
Когда я стал вдумываться, я понял: причины моей нежности коренились не во мне, а, как я считал, в ней, и я старался любовью освободить от этого и ее, и нашу жизнь.
Нет-нет, уже давно по поводу всего этого я только усмехаюсь, и мы живем спокойной и будничной жизнью. С деньгами было очень туго. Заказы на землемерные работы кончились, так что практически единственное, чем мы располагали, были река и, разумеется, наш клочок земли. Поэтому мы были все же сыты. Однако, говоря по правде, мы сильно пообносились, но благодаря Анне одежда наша, тщательно починенная и чистая, всегда имеет приличный вид.
Ээве скоро минет пять. Она милая курносая девчушка с ясными материнскими глазами, и играючи она выучила со мной половину азбуки… Больше у нас детей не было. Не знаю почему. В этом отношении мы не остерегались. И я не думаю, что произошло это потому, что каждый раз в такое мгновение меня пронизывало: будет ли у господина Ламинга еще один внук?.. Нет-нет, при подобной мысли я уже давно только усмехаюсь. А сейчас я не для того достал дневник, чтобы рассказать о себе. А ради того чтобы записать здесь еще одно обстоятельство, касающееся жизни сестры и ее мужа: наш господин мичман приезжал в Выйсику погостить. Господин Георг фон Бок-младший. Анна…
22 февраля
Предыдущей ночью Анна пришла взглянуть, почему я так поздно сижу за столом.
Да. На прошлой неделе Юрик приезжал в Выйсику в гости к родителям. Ээва заблаговременно прислала мне весточку: Юрик сообщил, что на несколько дней приедет в отпуск. Ждем его в четверг. Если хочешь увидеть племянника, приезжай в этот день к обеду.
Ээва давно заметила, что этот умный сообразительный мальчик нравился мне и что его жизнь меня интересовала. Подобный полумужицкий зародыш офицера – случай достаточно редкий, чтобы не представлять интереса. Тревожного интереса, должен признаться, после нашей последней встречи в Пярну, после того, что этот мальчик сказал отцу в роковой вечер несостоявшегося бегства. Хотя, может быть, человек с более холодным умом счел бы, что именно этого и следовало ожидать.
В четверг еще до полудня, только я взглянул на часы, чтобы знать, не пора ли мне поскакать в Выйсику, у наших ворот спрыгнул с лошади молоденький мичман в черной морской тужурке с золотыми пуговицами и невысоких сапогах. Юрик вчера приехал в Выйсику и сегодня утром уже побывал с визитами у Валей и Лилиенфельдов в Вана– и Уус-Пыльтсамаа и теперь приехал к дяде Якобу и его жене…
Юрику скоро восемнадцать. Я внимательно разглядывал его при дневном свете. Конечно, со временем нашей пярнуской встречи он изменился до неузнаваемости. В этом возрасте шесть или семь лет совсем меняют человека. Однако что-то все-таки осталось. Он чуточку пониже отца, у него материнские зеленовато-серые глаза и отцовский, как бы не дающий покоя взгляд. Он стройный и в то же время крепкий мальчик. У него Ээвины русые, слегка вьющиеся волосы и рыжеватый пушок на верхней губе, тщательно подстриженный.
Мы решили, что вместе поедем в Выйсику к обеду, и у нас оставалось еще больше двух часов. Анна принесла нам бутылку ягодного вина. Юрик осмотрел мои книжные полки и попросил почитать во время отпуска «Pere Goriot»[85]85
«Отец Горио» (франц.).
[Закрыть] Бальзака. У отца он этой книги не видел.
Он говорил размеренно и точно. Он был безукоризненно внимателен к Анне и меня, само собою разумеется, называл дядей. Он рассказал коротко и без преувеличений о навигации на учебных судах своего корпуса. Согласно предписанию – пока только до Порккала, Готланда и Риги. А в марте – из Николаева в плаванье по Черному морю. В будущем году – через Копенгаген в Северное море. А еще через год – в Гибралтар и Средиземное море.
Я сказал:
– Так-так… А как тебе живется там, в Петербурге, в корпусе?
– Как всем кадетам.
– Сильно приходится налегать?
– Приходится.
– Ну, а за девушками уже ухаживаешь?
Он мило улыбнулся, обнажив белые зубы, и покачал головой:
– Я решил: не раньше, чем получу эполеты старшего лейтенанта.
– Вот как… А ты думал о том, на какой высоте установишь для себя барьер? Как высоко прыгнешь?
Он как-то неуловимо усмехнулся под своим рыжеватым пушком.
– До морского министра империи, разумеется.
Я спросил (потому что хорошо помнил наш последний с ним разговор в день, когда ему исполнилось девять лет, поздним вечером, накануне его отъезда в Царское):
– А каковы твои отношения с императором?..
– Что вы имеете в виду?
Он говорит мне «вы», и это можно считать естественным. Он ведь был еще совсем ребенком, когда говорил мне «ты», ну… а теперь он, ну, наверно, в каком-то смысле более взрослый, чем обычно бывают юноши в его возрасте.
Я сказал:
– Я имею в виду твое отношение к императору. Ты ему друг? Или недруг? Это ведь не так просто. Учитывая судьбу твоего отца.
Он спокойно посмотрел на меня. Он ответил не слишком торопливо, однако все же сразу, так, чтобы мне стало понятно, насколько это давно продуманный им вопрос, на который он уже давно себе ответил:
– Я не усложняю этого для себя. Если бы у нас еще царствовал император Александр, – может быть, мне и не удалось бы все в себе подавить. А по отношению к императору Николаю это было бы не просто крамольно. Это было бы неблагодарностью.
О Боже, мне и самому приходила в голову эта мысль, но когда я то же самое услышал из уст этого мальчика… то… мне показалось, что здесь что-то превратно… и вдруг мне пришла в голову совсем дикая мысль… Мы сидим в столовой. Анна возится в кухне и нашей беседе не мешает… Дикая мысль… А почему бы мальчику не знать правды? Какое у него право скользить по поверхности своей судьбы и судьбы его страны? Какое он имеет право быть самонадеянным и по-детски невинным? Почему бы ему не пропитаться правдой как уксусом?
Я спросил:
– Юрик, а ты знаешь, почему с твоим отцом произошло то, что с ним произошло?
– Из-за петиции, как я слышал. Никто точно не знает.
Я говорю – для себя самого неожиданно, я знаю, что преждевременно, да и нужно ли это вообще, – но нет, но нет, я хочу этого мальчика связать с его отцом, хочу исправить (если это не означает обратного!), сделать то, чего не сделал девять лет назад, перед его отъездом в Царское.
– Юрик, я знаю, почему это произошло.
Он смотрит на меня с нескрываемым юношеским удивлением.
– Хочешь знать?
– Господи! Конечно!
– Но ты должен дать мне честное слово офицера, что об этом, что бы ни случилось, будешь знать только ты.
Он немного подумал. Столь серьезное дело, как честное слово офицера, требует обдумывания.
– Я клянусь.
– Подожди минутку.
Я не хочу, чтобы он видел, где я прячу бумаги. Я иду к себе в комнату и достаю из-под половицы рукопись Тимо. Сдуваю с нее пыль и песок и кладу на свой стол. Потом зову Юрика из соседней комнаты.
– Видишь? Садись за стол и читай. Я нашел это в барском доме. Случайно. В тайнике. Очевидно, твой отец спрятал это там до своего ареста. И за десять лет забыл про это. Он страдал провалами памяти. Он говорил мне об этом. Во всяком случае вернуть ему этого нельзя. По-моему. Это может вывести его из равновесия. И маме твоей я не стал этого показывать. Так что это может принадлежать тебе. Только взять с собой и держать у себя ты не можешь. Но ты должен это прочесть. И продумать…
(Сейчас, вспоминая, мне кажется, что я почти приревновал мальчика к императору за его невозмутимо верноподданническое к нему отношение. Или что-то в этом роде…)
Он ничего не отвечает. Он начинает читать. Я сажусь по другую сторону стола и слежу за его лицом.
Он прочел Приложение и отложил его в сторону. Так. Теперь у него есть ориентиры. Теперь он уже все понимает. Теперь он с жаром подходит к самой сущности. Вижу, каким сосредоточенным становится его взгляд. Я слышу, как в кухне Анна скребет железной щеткой котел – кх-кх-кх-кх. И как чья-то лошадь (наверно, лилиенфельдовского управляющего) проходит с санями – тумп-тумп-тумп – мимо наших ворот. Вижу, как у Юрика запылали щеки – когда он читает о необходимости отречься от отца и матери, если этого потребует отечество. Я чувствую, как волокна вступительных фраз преамбулы Тимо щекочут мальчику зародыши будущих крылышек. Он читает поразительно быстро. Он, должно быть, молниеносно все схватывает. Затем я вижу, как его пыл остывает, как он просто борется со скукой, когда с шестой-седьмой страницы топчется по конспекту русской истории, и как он пугается и оживляется от неожиданных потрясающих фактов (вверх ногами вместе с ним я читаю давно мне известную рукопись), на тридцать первой странице он проглатывает слюну и настораживается…
Разве вам никогда не доводилось слышать про Сперанского, Бека и знаменитых профессоров? Не называя тысячи убитых нашими так называемыми трибуналами?.. И тут сразу же появляется помазанный император, глава Священного союза, председатель библейских обществ, который, памятуя страдания Христа, кротко отдает свою державу в руки прислужников и авантюристов и у которого в запасе имеется такая огромная коллекция игрушек, что нам для получения их приходится отдавать последние капли крови, который из всего нашего дворянства делает клоунов и капралов, который к предусмотренному дню приказывает превратить все крестьянские лачуги в греческие храмы, который велит нам держать лошадей, едящих только овес, в то время как у нас недостаточно даже соломы, который запретом всех книг отменяет домашнее воспитание и заставляет нас посылать наших детей учиться у его лицемеров или под палку его капралов… Появляется император, который, не краснея, вместе с продажной женщиной насаждает дух фарисейства…
Я вижу, на лбу у Юрика выступили капли пота. У него пылают уши. Будто ему справа и слева надавали оплеух. Но лицо пугающе бледное. Дрожащими руками он складывает прочитанные страницы и аккуратно кладет их на остальные. Его верхняя губа под рыжеватым пушком странно подергивается. Он смотрит перед собою на стол и говорит:
– Дядя Якоб, я не должен этого читать…
Я спросил – и не скрываю, что, может быть, даже с некоторой злостью, потому что мои собственные ощущения от чтения этой роковой рукописи были слишком мне памятны, – я спросил:
– Ну, а как ты считаешь, это ложь, что написал твой отец.
Он молчит.
Я спросил:
– Или тебе кажется, что в свое время это могло быть правдой, а восемнадцать лет спустя стало ложью?
Он молчит. Я вижу, что он близок к слезам. Господи, да ведь он семнадцатилетний мальчик. Он же ребенок. Несчастный ребенок, насильно брошенный в среду чужих людей, чуждых понятий. Мне следует его пожалеть. И мне жаль его… Только он тут же справляется с минутной слабостью. Он выпрямляется на стуле и говорит странным ледяным тоном (но, может быть, я неправильно это толкую и это просто искренность):
– Я не знаю. Но в одном я уверен. Я должен быть в силах защитить отца перед самим собой. Я уже слишком много прочел, если я буду читать дальше, я должен буду его осудить. А я не хочу…
Он сидит напротив меня. Он вытирает лоб квадратиком чистого белого носового платка из перкали. Он вполне собран. Однако я чувствую: мне нужно время, чтобы разобраться в нем. Я спрашиваю:
– А для чего ты ездил с визитами?
– А, визиты… – Он с явным облегчением поддерживает новое направление разговора, почти с благодарностью, а все же как будто слишком охотно. – Здешние соседи относятся к нам со странным предубеждением. Мне говорила об этом мама. Сегодня я убедился в этом и сам. У старой госпожи Лилиенфельд. Я пробуду дома неделю. И сделаю еще нёсколько визитов. Побываю у Самсонов в Лустивере. Мне хочется по мере сил рассеять это предубеждение.
– А-га… А как же ты это сделаешь?
– Я буду говорить с соседями. Они смогут убедиться, что один из фон Боков – безупречный мичман. Я скажу им, что так считает император.
– Вот как? Он так считает?
– Да.
– Откуда тебе это известно?
– Месяц назад император посетил наш корпус. Вместе с наследником. Он разговаривал с кадетами. Мы с наследником ровесники. Император сказал: «A-а… Георгий Тимофеевич фон Бок?.. – И тут же при всех спросил наследника – Александр Николаевич, говорит тебе что-нибудь это имя?» Наследник кивнул. Император сказал: «Видишь? А сейчас он самый молодой и самый исполнительный мичман во всем корпусе».
Я спросил Юрика:
– И ты будешь об этом рассказывать и соседним господам?
Юрик сказал:
– А почему мне не рассказывать? О том, что я самый исполнительный, я, конечно, говорить не стану. Но слова императора о том, что я самый молодой и уже мичман, почему же не повторить? Если все эти господа, не имея при этом никаких доказательств, говорят, что император считает моего отца безумцем?! И если император в присутствии сотни свидетелей сказал, что я самый молодой мичман в корпусе, и если это именно так и есть? Я хочу, чтобы опять можно было с честью носить фамилию фон Бок. Понимаете?
Я сказал, что понимаю. Но когда он взглянул на часы и предложил мне ехать, чтобы не опоздать к обеду, я сказал:
– Знаешь… Я должен был поехать для того, чтобы повидаться с тобой и поговорить… Сейчас я тебя увидел и поговорил. Я приеду в следующий четверг к твоему прощальному обеду.
25 февраля 1836 г.
Вчера, как и обещал, я присутствовал на обеде по поводу отъезда Юрика. Я год не был в Выйсику. У меня такое ощущение, какое в таких случаях всегда возникает: вещи более блеклые и они меньше, чем ты их себе представлял, человеческие лица и все очертания какие-то потускневшие. При этом все люди оказываются такими же, как и были, лишь только с ними заговоришь.
Стол был накрыт. У дверей залы стоял наготове темно-зеленый, обитый железом сундучок Юрика, но его самого не было видно. Я спросил, где он. Тимо сказал:
– Он прощается. У Эльси и Петера…
Что-то в голосе Тимо заставило меня взглянуть на него. Я подумал: ну, это естественно, что мальчик прощается со своими тетушкой и дядей… Они же не придут в Кивиялг. Стоя у камина, мы с Тимо посмотрели друг другу в глаза. Больше он ничего не добавил… Но вдруг похлопал меня по плечу, и его взгляд, прежде чем он отвернулся к окну и стал набивать трубку, сказал, по-моему, только одно: да-а. Это так. Иначе и быть не может. И не станем этому удивляться…
Пока Юрик в господском доме разговаривал с Петером и Эльси, младшие Мантейфели – Макс и Алекс, – два балбеса, пятнадцать и тринадцать, ждали его, чтобы рысцой сопровождать великолепного моряка, их двоюродного брата, в Кивиялг. Клэр и Эмма уже пришли и ожидали его здесь. Они дуэтом щебетали, какой Юрик воспитанный и мужественный. И восемнадцатилетняя Эмма полушутливо-полусерьезно вздыхала: