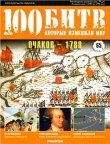Текст книги "Императорский безумец"
Автор книги: Яан Кросс
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 30 страниц)
А все-таки предчувствия у меня мрачные.
9 мая 1829 г.
Совсем немного прошло времени, и мои мрачные предчувствия сбылись. Вернее, каким-то чудом еще не совсем сбылись, однако в достаточной степени для того, чтобы понять, что нам предстоит и как намереваются с нами поступить. (Сущей наивностью было бы писать, что я только сегодня все это понял. Если я уже несколько недель, о господи, можно сказать, уже годами ясно все себе представляю…)
Сегодня утром Ээва уехала в Вильянди, чтобы пополнить у Шеллера нашу домашнюю аптечку. Она сказала, что у Тимо снова выступила его экзема. И в деревне у ее подопечных всякие напасти, требующие лекарств. Часов в одиннадцать Тимо поехал кататься верхом и должен был вернуться к обеду, то есть часам к четырем, как он обычно возвращался.
Только он проскакал через плотину у мельницы и исчез в кустах, как ко мне постучали. Дверь не была заперта. Я крикнул: «Войдите!» – и в мою комнату вошел господин Петер Мантейфель.
Вместо того чтобы подняться ему навстречу, из какого-то инстинктивного протеста, я остался сидеть в своем плетеном кресле. Я даже не берусь утверждать, сказал ли он мне «здравствуйте». Во всяком случае, он сразу же произнес с как бы само собой разумеющейся повелительной интонацией:
– Якоб, идемте со мной!
Я продолжал сидеть, хотя это и было мелко. Довольно небрежно я указал ему на второе кресло:
– Не торопитесь, господин Петер. Куда именно?
Не садясь, он пояснил:
– Вам несомненно известно, что здесь, в поместье, я теперь полицейская власть. Видите, вот ключ от письменного стола вашего зятя. Поддельный, как принято говорить. Но абсолютно точный. Я пойду смотреть его бумаги. В его отсутствие. Вы понимаете, что лишь для того, чтобы он не стал мне препятствовать. Конечно, я не буду от него скрывать, что ходил. А потом пусть протестует сколько ему вздумается. Однако полагаю, что не станет. Ибо знает, что в его юридическом положении поднимать крик – напрасный труд.
– А мне зачем идти вместе с вами?
– А затем, что будете у меня свидетелем, если начнет протестовать ваша сестра. Ибо в какой-то мере она тоже попечительница своего мужа. Со стороны властей это был необдуманный шаг. Но он сделан. А она, будучи женщиной, способна наговорить глупостей, и, поскольку ее безумной не считают, она может обвинить меня кто его знает в каких нарушениях закона. Где-нибудь могут даже… ну, если и не поверить, то в каких-то пределах выслушать. Все же ведь госпожа фон Бок. Теперь уже больше не спрашивают, откуда она родом. И кое-где найдутся дураки, у которых ее скандальное происхождение, можно допустить, зачтется даже в ее пользу. Да, кроме того, вы сами – вы могли бы увидеть, что я пришел к нему в кабинет. Пойти за мной и потребовать объяснений. Так уж лучше идемте сразу вместе.
Я поймал себя на том, что лихорадочно пытался понять: была ли в поведении господина Мантейфеля высшая степень бесстыдства или это прямота, характерная для прибалтийского дворянина с его грубым нравом. И понял, что ответить я должен совсем на другой вопрос… Я сказал:
– У вас ключ от его стола. Но его комната на замке. Я это знаю.
– В господском доме имеется комплект ключей от всего Кивиялга, – невозмутимо сказал Петер и достал из кармана своего синего домашнего сюртука ключ. – Видите, номер пять.
Мне нужно было ему ответить.
Я сказал:
– …Послушайте, господин Мантейфель… – Мне хотелось сказать: «Слушайте, делайте, что хотите! Я в этом участвовать не буду. Ни в коем случае! И вам я советую, лучше откажитесь от вторжения. По-моему, это бесстыдство и насилие!»

Но я молчал. Я взвешивал: ясно, что мои слова не возымеют ни малейшего действия. Они даже не подзадорят его. Он поступит именно так, как решил. Настолько я его знаю… Но, может быть, я смогу чему-нибудь воспрепятствовать, если, наоборот, пойду с ним? Тоже вряд ли. Но я, по крайней мере, увижу, что он будет там делать, заберет ли он какие-нибудь бумаги Тимо с собой… Боже мой, я смогу по крайней мере свидетельствовать в том, что там произойдет… Я сказал:
– Хорошо. Я пойду с вами. – И почувствовал, что это прозвучало совсем не так, как мне хотелось. Когда мы уже вышли из комнаты, я добавил: – А все же я посоветовал бы вам от этой затеи отказаться. – При этих словах я даже замедлил шаги, чего он не сделал, так что, проходя через столовую, мне пришлось снова поторопиться, чтобы успеть за ним; выйдя из столовой в коридор, я резко сказал (моя резкость, может быть, объяснялась и тем, что мне пришлось торопиться):
– И само собой разумеется, я иду только для того, чтобы, если потребуется, свидетельствовать против вас.
Господин Мантейфель остановился и обернулся ко мне, мы вдруг оказались в полутемном коридоре лицом к лицу. Я подумал: так, теперь я избегу этого… и в то же время: теперь он не даст мне увидеть, что он там сделает… и еще: теперь я не увижу, какие у Тимо там бумаги…
Однако господин Мантейфель был более самоуверен, чем я полагал. Он вытаращил на меня глаза и произнес только: «Кхм». Потом прошел еще пять шагов и отпер дверь комнаты Тимо: «Bitte schon!»[66]66
Пожалуйста! (нем.)
[Закрыть]
Сперва он демонстративно не обращал на меня внимания. Он тяжело и небрежно опустился в кресло перед письменным столом красного дерева, достал ключ, отпер дверцы обеих тумбочек и выдвинул ящики.
В двух ящиках из шести лежала всякая случайная мелочь: одна сломанная, а другая цельная шпора, старинный кисет из свиного пузыря, ржавый остов пистолета и несколько гильз от патронов, несколько медных ложечек, брючный ремень и несколько пряжек от ремней, два небольших подсвечника, два-три простых огнива, явно изделия здешней выйсикуской помещичьей кузницы, несколько пучков гусиных перьев с еще не заточенными концами, несколько ножей для перьев, а пол-ящика занимали бубенчики. В другом ящике лежала неполная стопа чистой бумаги, еще в одном – книги, а два ящика были заполнены более или менее аккуратно сложенными в стопки исписанными листами.
На ящики со всей этой мелочью господин Мантейфель не стал тратить времени. В ящике с чистой бумагой он двумя пальцами приподнял пачку и, дав листам сбежать, убедился, что бумага неиспользованная. Книги он по одной вынимал и складывал на столе в стопки, я сосчитал, двадцать семь книг разного формата. Он раскрыл верхнюю книгу, посмотрел титульный лист и сунул ее обратно в ящик. Вторую. Третью. Четвертую. Пятую. Мне показалось, что в его размеренных движениях появилось какое-то раздражение… Я стоял в нескольких шагах. Скользнул глазами по дивану, по стульям, по курительному столику с трубками Тимо и по большому глобусу, который напомнил мне драматическое «противостояние» Ээвы и Паулуччи, и вдоль полок книжных шкафов по мою сторону с полутысячью томов, теми, которые Тимо не считал нужным держать под замком… Я на шаг придвинулся к господину Мантейфелю и через его плечо заглянул в девятую, вынутую из ящика книгу. Это была французская поваренная книга. И следующая, и еще следующая были поваренные книги на французском языке. Затем пошли немецкие, русские, польские, английские и эстонские поваренные книги. Две последние, если не ошибаюсь, 1781 и 1816 годов издания.
Я спросил:
– …И все поваренные?
– Все, – ответил господин Мантейфель. – Я всегда говорил, что он сумасшедший. – Вдруг он повернулся и посмотрел на меня узко сощуренными глазами: – Или вы полагаете, что, может быть, это не так?
Глядя ему в глаза, я ответил без малейших угрызений совести:
– То есть как это не так? Если это сказали два императора и вы тоже?!
Господин Мантейфель еще мгновение смотрел на меня, потом отвернулся к ящикам с рукописями. Больше двух часов он перебирал и перелистывал груды исписанных листов. Могу сказать: не будь меня, ему пришлось бы рыться в них в два раза дольше. Даже в три раза дольше. Потому что с первого взгляда я мог сказать ему с абсолютной точностью, что это были записанные Тимо в школьные годы уроки Лерберга с 1794 по 1800. Те самые записи, по которым я главным образом учился в доме Мазинга и которые привез с собой обратно в Выйсику. И только на дне нижнего ящика, под последними школьными сочинениями, в конце описания небесной механики Лапласа, господин Мантейфель обнаружил единственный в этих ящиках листок, представляющий собою нечто иное, он был более поздний и, может быть, в какой-то мере отвечал представлениям Мантейфеля о тех записях, которые он собирался найти.
Он вытащил этот последний листок и долго смотрел на него. Наконец он пробормотал:
– Подойдите сюда, посмотрите, что это, по-вашему?
Я посмотрел. И теперь попытаюсь как только сумею точно записать то, что прочел. Совсем точно, конечно, у меня не получится, ибо такое связно запомнить невозможно.
Высокочтимый господин фельдмаршал, ваше сиятельство Бурхард Кристофорович!
Поскольку я получил известие, что Нептун Вотанович Перунский назначен новым главным прокурором святейшего синода, я прошу Вашу светлость позаботиться, чтобы мое письмо с насущно необходимыми государству предложениями незамедлительно попало в руки высших авторитетов.
Самая сферическая добродетель моего самого верного друга Ивана Диаволовича есть лишь ему одному присущее умение засевать Фукидидов органной музыкой. Однако воду из ванны, где умывались музы, продает и покупает Василий Николаевич за наименее смердящие деньги. И если вашему сиятельству потребуется назначить Высшего имперского арбитра Честности на соответственно несомненно сверхдоходную должность, то было бы инфамно забыть нашего дорогого дядюшку Петра Павловича. Ибо кто же еще заслуживает большего уважения, чем наши сверхмилые родственники! И приветствуйте от меня сердечно племянника, гвардейского капитана, которого я в последний раз встретил то ли в Никарагуа, то ли в Витебске и который, правда, всего лишь 30 лет как умер, ergo[67]67
Следовательно (лат.).
[Закрыть] находится возле самой основы человеческой деятельности столь короткое время, что у вашей светлости могут возникнуть трудности при установлении с ним связи, дабы передать ему от меня привет, невзирая на это остаюсь самым сомнительным слугой врагов вашей светлостиTimothy Shock
– Ну, так что это такое? – переспросил господин Мантейфель (господин Петр Павлович Мантейфель) и сжал челюсти.
Я ответил, что не понимаю, что это такое.
– А кто это фельдмаршал Бурхард Кристофорович? – спросил господин Петер.
Я высказал предположение:
– Думаю, что Миних.
– А когда Миних умер? – спросил господин Петер.
Я сказал:
– Ну, лет семьдесят назад.
Господин Петер не стал спрашивать, кто, по моему мнению, «наш дорогой дядюшка Петр Павлович». Вместо этого он спросил весьма подчеркнуто:
– А все-таки что это за дьявольщина, по вашему мнению?
Я повторил, что я не знаю. Отнеся это непонимание за счет моей крестьянской тупости, он, хмыкнув, меня простил. Он положил фантастическое письмо Тимо обратно на дно ящика и поверх него сложил аккуратными стопками записи уроков Лерберга. Тщательно задвинул ящики и запер дверцы на замок. Поворачивая ключ уже в дверях комнаты Тимо, он сказал:
– Ну, скажете вы им или не скажете – дело ваше. Только, если промолчите, не следует думать, что…
Я сказал:
– Не беспокойтесь, я им обязательно расскажу.
Он опять хмыкнул и посмотрел на меня долгим взглядом. Мы разошлись перед дверью в столовую. Я вернулся сюда в свою комнату и пытаюсь разобраться, что же произошло.
Об этой постыдной возне в ящиках письменного стола Тимо я прежде всего расскажу Ээве… Прежде всего ей. Как только она вернется из Вильянди. Потому что я не знаю, как это сообщение подействует на Тимо. Пусть Ээва сама решает, сказать ему об этом или не говорить. Но главное не в этом. Главное, что насильственное вторжение в бумаги Тимо происходит и будет происходить и дальше. Ибо Тимо куда-то спрятал свои последние записи, и Петер понимает, что где-то они существуют. Может случиться, я не буду принимать участия в его следующих полицейских розысках, но я уверен, что они будут продолжаться. Главное – это новое деспотическое насилие не только над бумагами Тимо, но и над ним самим и над Ээвой. И второе и самое решающее: Петер легко может спросить себя, при его брюзгливом подозрительном нраве это вполне правдоподобно; а не играет ли его сумасшедший шурин в одну игру со своим навозным зятем? Может быть, его сумасшедший или полусумасшедший, а то и сверх меры умный шурин водит его за нос и держит подозрительные бумаги в комнате у своего зятя? При этом у Петера есть все ключи от Кивиялга, что я видел собственными глазами. Следующий раз, когда я поеду к Анне, он через пять минут возьмет из связки ключ номер шесть, подойдет к моей двери с эдакой незаинтересованной барской миной, будто для него не имеет никакого значения, видят его или нет, повернет ключ и со своим неутомимым злобным любопытством войдет в комнату. И тогда сразу между ним и моим дневником останется только эта еловая полдюймовой толщины дощечка над дверью…
Мне нужно решить, могу ли я дальше жить в этом доме, если я хочу сохранить дневник. И могу ли я здесь оставаться, если я согласен его сжечь. И мне нужно решить, что я в этом случае должен сделать с меморандумом Тимо… Ибо я чувствую, что его сжечь я не вправе – независимо от того, как бы с ним ни поступил сам Тимо, верни я ему меморандум.
Ага, я знаю, что я сделаю: сяду на лошадь и уеду. И до завтрашнего вечера не вернусь. Через час Тимо возвратится после своей верховой прогулки, а Ээва приедет из Вильянди только завтра к обеду. Я не хочу встречаться с Тимо прежде, чем не расскажу Ээве про полицейский обход Петера. Да, сяду на лошадь и уеду. Суну дневник и рукопись Тимо в карман седла… Нет, к Анне не поеду. Мне нужно спокойно обдумать, что будет дальше. Я поеду к Тийту в его нэресаарескую лачугу. Спрячу бумаги у него в хлеву, наверху на сеновале, в таком месте, где не протекает. И сам растянусь там же, подложу под голову кулак и буду смотреть, как от дуновения ветерка колышется паутина на жердях, буду слушать, как вокруг шумит лес, буду думать, что делать дальше.
13 мая 1829 г.
В сущности, все решено. Мне остается только быстро записать, как все произошло.
Девятого я сразу же поскакал в лес к Тийту, как и намеревался. Издали еще по прислоненным к дверям граблям я увидел, что хозяина нет дома, но это меня не смутило. Поставил коня под крышу, бумаги в промасленном мешке отнес на сеновал и засунул их за четвертое стропило слева, в толщу соломенной крыши. Спустился по лестнице, стал посреди двора и поглядел на плохонький хлев и конюшню, откуда Тийт выпустил своих конягу и коровенку на пастбище, – теперь в приоткрытые ворота слышалось только сопение моего собственного серого в яблоках. Я смотрел на пустую собачью конуру (своего Клэхви Тийт взял с собой в лес) и на дорожки между хлевом, собачьей будкой и дверью в избу, протоптанные Тийтом в светло-зеленой, еще жидкой траве, сквозь которую проглядывал коричневый земляной грунт, и опять на дверь, подпертую граблями. Они говорили: не входи, если ты чужой… Я-то не был чужим… а все же…
Я стоял там посреди нэресаареского двора светлым и прохладным майским днем, в такой день, когда каждый стебелек, каждая сосновая хвоинка, кажется, вот-вот готовы открыть свою тайну и когда заранее знаешь, что все равно ничего не станет ясно… Я стоял там все еще с ощущением давящего на меня груза и одновременно уже с чувством освобождения от всякой тяжести. И все равно чертовски одинокий… И тут я увидел у камышника свою лодку, на прошлой неделе проконопаченную и покрашенную. Я метнулся к берегу, стал опрокидывать лодку, перевернул ее дном вниз, столкнул в воду, схватил лежавшие на берегу весла и принялся грести. Вниз по течению. Только через версту я понял, что верхом доскакал бы вдвое быстрее.
Я привязал лодку прямо у причала и вошел в дом. Я схватил Анну в объятия и целовал ее в полуоткрытый, онемевший от удивления рот и чувствовал, как мой порыв все наконец выложить сделал ненужным ее вопросы.
– Анна… некоторые обстоятельства пришли мне на помощь и подлили масла в огонь… под мое уже давно клокотавшее на огне решение… Анна… с прошлого года перед господом богом ты моя жена. Будь же теперь моей женой и перед людьми…
И я стал говорить, какие обстоятельства вызвали это решение. (Позже я подумал, не могло ли ей показаться, что этих обстоятельств что-то даже чересчур много.)
– Я решил уехать из Выйсику. Ты говорила мне несколько недель тому назад, что к лету должна освободить этот дом. А на прошлой неделе я слышал, что вдова бывшего управителя Лилиенфельдов в Уус-Пыльтсамаа продает свой дом на окраине Пыльтсамаа, четверть версты от замка ниже по течению реки, какое-то старое здание, сложенное из камня… Ну, конечно, стародедовская постройка, но красивый старый сад, на самом берегу, четыре просторных комнаты и кухня с обмурованной трубой, я был в этом доме, я знаю, что, если мы вместе возьмемся за него, жить там будет хорошо…
И сразу от Анны я пошел в контору зеркальной фабрики и попросил у Швальбе бричку с лошадью, спустя час я уже опять был у Анны вместе с бричкой. Анна за это время надела новое светло-зеленое платье и поверх него накинула на плечи темно-коричневую накидку. Я никогда раньше не видел, как замечательно переливаются на солнце ее пепельные волосы. Я впервые это заметил, когда она сидела со мной рядом в желтой бричке зеркальной фабрики и мы ехали к старому Рюккеру просить его сделать оглашение…
Там же в одноколке она взяла меня под руку и спросила:
– А сколько стоит этот дом в Пыльтсамаа?
Я ответил то, что слышал:
– Просят семьсот рублей. Но если наличные и сразу на стол, можно купить за пятьсот.
– И сколько у тебя наличных, чтобы выложить на стол? – спросила Анна.
Мгновение я покопался в мыслях. Я чувствовал, что должен принять важное решение на долгое время вперед. И тут я понял, что оно в сущности уже принято: оно касается моей откровенности с моей женой. Я чувствовал: кое в чем (что было скорее не моими делами, а делами других людей) я не стану раскрываться перед нею. Я имею в виду дела моей сестры и зятя, которые я подчас даже этому дневнику открываю нехотя. А вот в денежных, в житейских делах пусть моя откровенность с женой будет полной. Я сказал:
– Триста я могу выложить сразу. И я думаю, что моя сестра…
Наверно, я чуточку помедлил перед тем, как высказать мысль, что хочу попросить в долг у сестры, потому что Анна опередила меня и сказала:
– А почему это будет не твоя жена, у которой ты возьмешь деньги?
Оказывается, Анна после мужа держала в чулке больше четырехсот рублей… И я помню, что когда мы около Тюри ехали между зарослей, то в тени, то на солнце навстречу прохладному ветру, я думал: я знал, что она не девственна, но как смею я по этому поводу брюзжать? Если даже Риетте я был готов это простить! А вот что она не бедна – это для меня большая неожиданность, ибо с этой стороны я своего шага до сих пор вообще не обдумывал.
В тот же вечер старый Рюккер, сопя от удовольствия, внес нас в список оглашаемых пар. Я сказал ему, что нам очень некогда и сегодня я не успею побывать у своих родителей, чтобы сообщить им, пусть и он не торопится известить их, пока мы не сделаем этого сами. А когда мы уже проехали с версту обратно и в легких сумерках увидели справа, над полем и кустарником церковной мызы возникший, а потом исчезнувший гребень палукаской крыши, я свернул с дороги, и мы заехали к моим родителям.
Я думал только поздороваться, показать им Анну и сразу же уехать. Но у матушки стоял на огне котелок с кофе, и, вместо предполагаемого короткого визита, вышло, что мы больше часа просидели за столом. И после того как я сказал: «Глядите, вот женщина, благодаря которой вы не останетесь без невестки», – все вдруг умолкли. Старики совсем оторопели, потому что они до сих пор и слыхом не слыхали ни о какой предполагаемой невестке, а я – ну, наверно, оттого что оказался в таком глупом положении. И только Анна сумела удачно продолжить разговор, пока матушка разливала по чашкам кофе, а отец доставал из шкафа рябиновку и ставил ее на стол. До Анны мы добрались уже затемно, и я остался у нее ночевать. Рано утром мы снова отправились в той же рыйкаской бричке в Пыльтсамаа. Я сделал крюк, заехал в Нэресааре, незаметно для Анны забрал свои бумаги. Тийт, разумеется, давно знал о наших шашнях, так что и он выставил бутылку первача. Но мы к ней едва притронулись, потому что нам предстояли переговоры с госпожой Кольте и мы хотели быть бодрыми и твердыми.
Однако торговаться нам не пришлось. Мы бегло осмотрели этот старый каменный, по-старушечьи запущенный домишко, в нашем приподнятом настроении он показался нам вполне пригодным. Госпожа Кольте переселялась к сестре в Вильянди, посреди комнаты валялись груды ее хлама, стояли наполовину уложенные корзины. Наши условия она приняла, даже не шевельнув головой, похожей на одуванчик: в следующий понедельник у нотариуса Редлика – пятьсот рублей на руки, и с этого дня в доме ни чужих людей, ни чужих вещей. После этого мы с Анной поехали к Тийту. От него Анна отправилась в бричке к себе, а я на своем гнедом, ну, домой. Потому что так мне придется еще на первых порах именовать Выйсику.
Я приехал к себе, положил все бумаги в тайник, бросил плащ на вешалку и позвал Ээву к себе в комнату. И рассказал ей все, что произошло, начиная с позавчерашнего дня. Все. Только, видимо, в несколько сдвинутой последовательности. Как будто это имело какое-то значение? Во-первых, что я решил жениться и переехать в Пыльтсамаа. И что я надеюсь, Ээва ничего не имеет против. Потому что и так ясно, что я не в силах ничем помочь ни ей, ни ее мужу. И, во-вторых, что позавчера приходил Петер и рылся в бумагах Тимо и что у Петера есть полный комплект ключей от Кивиялга, – при этом сообщении Ээва приоткрыла рот и в глазах у нее было отчаяние. Но что на этот раз он ничего не нашел и ничего не забрал, это мне доподлинно известно, поскольку, по его требованию, я находился при сем… И что в начале следующего месяца я, разумеется, сделаю для их побега все, что смогу, как и обещал.
Ээва выслушала мой рассказ до конца и сказала спокойно, даже тише, чем я ожидал:
– Твое присутствие мне очень помогало, что об этом говорить… Но я должна уметь и сама справляться… И я ведь справлялась… все те годы, когда ты был со своими землемерами. И я же не могу требовать, чтобы из-за нас с Тимо у тебя не было своей жизни… Ты и так проявил терпение с Анной: по-моему, ты вполне мог бы ее привести и сюда в Выйсику… но я, конечно, понимаю… Ах, вы покупаете дом у Кольте… Ну, если ты мне здесь зачем-нибудь крайне понадобишься, так это уж не бог весть как далеко… И раз ты обещаешь помочь нам в нашей попытке нынче весной… так… в добрый час…
Кстати, Ээва сказала, что я и сам вполне, могу рассказать Тимо о нашествии Петера… Что мне даже, по мнению Ээвы, следует так поступить, потому что это наверняка его позабавит.
Я спросил: почему позабавит? И она сказала:
– Ну, если ты при этом присутствовал, так должен был понять: эти поваренные книги и бубенчики, и все, что там есть… все это положено туда, чтобы подурачить дорогого зятя… Что же касается нашего бегства, так я хочу скоро написать Юрику. Чтобы он с моим письмом пошел к директору лицея и попросился домой – из-за тяжелой болезни отца. Так у нас с ним условлено. Но о нашем побеге я ему ни слова не сказала. Все-таки он еще ребенок. Так что, если Бог даст, и Снидер окажется на месте, и тебе удастся все подготовить, то ты наконец освободишься от нас и от наших забот…
20 мая 1829 г., поздно вечером
Впервые пишу дневник здесь, в нашем пыльтсамааском доме. За оставленным госпожой Кольте старым кухонным столом; свеча на битом блюдце, окно завешено мешком.
Позавчера мы ходили к нотариусу, я выложил на стол свои и Аннины деньги и положил в карман скрепленную печатью купчую. Анна еще в Рыйка, складывает свое имущество, а я пару дней не покладая рук трудился, чтобы навести здесь хоть мало-мальский порядок. Кстати, даже тайник для бумаг у меня тоже уже готов. В комнате, предназначенной мне для работы, под одной из половиц, и кому это известно, достаточно одного движения руки, чтобы достать их. Потому что даже тут нельзя держать бумаги в слишком легкодоступном месте. Пусть от этого дома ключей у Петера и нет. И вряд ли меня удостоят чести и посадят мне на шею ламингов…
Сегодня в полдень я был занят побелкой стен в нашей большой комнате (как говорит Анна, побелкой стен в зале, вот это да!). Мне хотелось бы, если только успею, привести этот дом в порядок прежде, чем опять нужно будет ехать в Пярну. Чтобы Анна уже жила здесь, когда я отправлюсь устраивать трюки с портовыми властями. Потому что бог его знает, что может произойти, если Тимо и Ээве не удастся бежать. Если они попадутся и их задержат, тогда ведь попадусь и я. Как пособник бегству лиц, находящихся под надзором полиции. И случись со мной в самом деле нечто подобное, хочу все же думать, что мою жену не выгонят из нашего дома, если она уже в него вселится.
Длинной кистью я смазывал известковой водой, смешанной с клеем, каменные стены в большой комнате, предварительно устлав деревянный пол старыми бумажными мешками, взятыми на зеркальной фабрике, когда вдруг быстро вошла Ээва, и по ее лицу я понял, что что-то случилось.
– Якоб, ты один в доме?
Я кивнул, и Ээва сказала:
– Из вашего побега опять ничего не выйдет.
– Почему? Снидер этой весной наверняка должен…
– Не из-за Снидера, – сказала Ээва. – Из-за Петера. Мне ведь нужно было его подготовить. Я сказала ему на днях, что хочу в июне вместе с Тимо поехать в гости к Радигам в Харьюмаа. Я сказала ему что, разумеется, в том случае, если получу на это разрешение от генерал-губернатора или орднунгсрихтера. Я показала ему приглашение господина Радига, которое я уже давно просила мне прислать. Петер прочел приглашение и сказал – ты ведь представляешь себе, как он умеет говорить своим гнусавым голосом: «Никакого разрешения ты не получишь. Это первое. А второе, если бы ты и получила, так у меня… – понимаешь, у Петера, – не будет в июне времени, чтобы с вами цацкаться».
Я сказала: «Но, Петер, тебе, разумеется, и не нужно тратить на это время. Я сама поеду с Тимо». На это он повернул ко мне свою каменную челюсть и сказал: «Без меня – ни одного шага».
Когда я рассказала об этом Тимо, он ответил, что, значит, пока здесь живет Петер и сторожит нас, все безнадежно…
Я спросил, что же теперь будет, и Ээва сказала:
– Значит, весной пытаться не стоит. Я и Юрику не стала писать. Но мне представляется, что на осень я кое-что придумала. Я говорила об этом Тимо, и, кажется, в главном он согласен. Но он хочет еще кое-что обдумать. Короче говоря, нам нужно в сентябре на некоторое время избавиться от Петера…
Я спросил:
– И каким образом, ты думаешь, вам это удастся?
Ээва потрогала двумя пальцами волоски моей кисти. Она сказала:
– Петер – отвратная личность, его трудно поймать в ловушку. Но и у него есть одна слабость, он прочно пришит к юбке своей Эльси. Хотя и по отношению к ней он тиран. Одним словом: нам следует использовать Эльси. Нам нужно посвятить Эльси в наши дела, понимаешь. Я ее изучила и думаю, что это возможно. Эльси не выдаст нас мужу, потому что с детства привязана к Тимо. Ее обожаемый брат, ее гордость… Я заметила, что тиранство Петера над Тимо причиняет ей страдание. Если Тимо удастся уехать, Эльси освободится вдвойне – от страдания за Тимо и от стыда за Петера…
– И как ты представляешь себе это подробнее?
Ээва заговорила почти шепотом… я понял, что она все продумала, во всех деталях.
– Скажем, в августе – не раньше – и после того, как Петер допустит очередную грубость по отношению к Тимо, и Эльси готова будет от этого плакать – мы посвятим Эльси в наш план, скажем ей, что у нас уже сделаны все приготовления… что и мы спасемся… и она будет свободна от кошмара нашего присутствия. Только, мол, помоги нам немного! Нам и себе самой… Да в конце концов и своему Петеру… И если она согласится – а она должна согласиться, иначе она не была бы eine geborene von Bock, тогда как я думаю она найдет предлог, чтобы в середине августа уехать, скажем, в Таллин. К родственникам. И в начале сентября вызовет к себе Петера. Чтобы он приехал, потому что она, предположим, смертельно больна! И Петер несомненно вскочит в седло и помчится к Эльси. И неважно, ловко или неуклюже она изобразит свою болезнь, – только я знаю: женщина в таких делах способна проявить подлинное искусство и какое-то время вводить в заблуждение самых умных докторов: ну, будто бы у нее страшная слабость, или произошел выкидыш, или еще какая угодно другая напасть… так что у нас, даже в самом худшем случае, будет по крайней мере неделя. Этого нам вполне достаточно…
В прошлом году в северном углу сада госпожи Кольте было посажено несколько бороздок картофеля, но сама она урожаем особенно не интересовалась. Как, впрочем, многие, считающие, что эти клубни – скорее дьявольский, чем божий дар. Так что за несколько рублей она оставила мне в подвале пол-ларя картофеля. Час назад я сунул несколько картофелин в золу в очаге, у меня был с собой каравай хлеба из Выйсику. Донной удочкой я поймал сегодня утром здесь же, в прибрежных камышах на собственном участке, несколько окуней и вдобавок к печеному картофелю сварил в глиняной миске уху. Я спросил Ээву, не желает ли госпожа помещица по-мужицки закусить. И мы пообедали: сели на каменный приступок очага, миска с супом и солонка на низкой скамье перед нами, на Ээве изящное платье розового репса с коричневыми точечками, обтягивающее тонкую талию и расширяющееся к подолу, на мне – пакляная рубаха и вымазанные известью и красками портки, у обоих рты и руки в золе от картофеля… Я смотрел на сестру, выплевывал окуневые кости в очаг и думал: какова чертовка! Я сказал:
– Хорошо. Когда я тебе осенью понадоблюсь, скажешь. А в субботу, то есть через неделю, возьми Тимо, если он не против, и приезжайте часов в шесть-семь сюда – отведать у брата свадебного пива. Если удастся, угостим и свадебной булкой. Выходит, что без этой затеи никак не обойтись…
Часа в четыре Ээва уехала в коляске на легких колесах без кучера, как и приехала, а я до темноты гнул спину, приводя в порядок дом. Ах да… Уже сидя в коляске, когда я вышел проводить ее за ворота, Ээва сказала, что мне не нужно будет сейчас ради них ездить в Пярну. Она сама попытается сообщить капитану Снидеру о том, что поездка откладывается, и препроводить ему какую-то сумму в возмещение потерь и за беспокойство.
22 утром, 6 часов
Сразу запишу, прежде чем подробности не выветрятся из памяти.
Это началось в серой предрассветной мгле. Я услышал зов и пошел на него. Колени и щиколотки у меня были будто стреножены, двигался я с трудом, но я должен был идти. И тут они стали ударять меня в грудь, по плечам и по лицу. Хотя, правда, совсем не больно. В сущности, будто ударяли тяжелыми черными кожаными мушиными хлопушками, которые каждый раз отдергивали прежде, чем я успевал их схватить. Их неуловимость вызывала чувство страшной беспомощности и безнадежности, я перестал их ловить. Перестал, потому что они шлепали меня по рукам (кстати, совершенно беззвучно, так что «шлепали» – слово неточное), они будто склеивали мне руки. Когда я, улучив момент, освободил руки, от напряжения они оказались бессильными. Время от времени шлепки без звука приходились по лицу и не давали дышать. Помню, когда в продолжение трех-четырех ударов сердца я не мог открыть глаз, я подумал: пусть! Крутом так мало света, что я почти ничего не теряю…