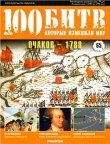Текст книги "Императорский безумец"
Автор книги: Яан Кросс
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 30 страниц)
Лурих дал все свои медали, кубки и золотой пояс победителя какому-то таллинскому ювелиру, который выложил их в витрине своего магазина. Не помню точно, где он помещался. Думаю, что где-нибудь на Ратушной площади, может быть, в том помещении, где теперь пекарня Мальштрема. Награды были оттуда украдены и пропали. Лурих утверждал, что за этим воровством и его нераскрытием стоял таллинский полицмейстер Чичерошин, кстати, горячий поклонник борьбы. За клевету полицмейстер отдал Луриха под суд. И суд, найдя, что у Луриха нет достаточных доказательств, наложил на него большой денежный штраф. Лурих штраф заплатил. А то, что за этим последовало, отец сам видел в цирке Чинизелли на Морском бульваре. Лурих боролся с каким-то толстым турком. Как и на любом захватывающем матче, присутствовал полицмейстер, он сидел на своем обычном месте за столиком в полицейской ложе, перед самым деревянным барьером, отгораживающим арену. Отец тоже сидел где-то совсем близко. Как знакомый Луриха и приятель Аберга – давнего друга Луриха, начиная еще с глиняных ям Пельгулинского кирпичного завода. Так что он все видел с предельной точностью. Одним словом, на арене Лурих и турок, потоптавшись на месте, остановились перед ложей полицмейстера. И вдруг турок сделал двойной нельсон, Лурих оказался на четвереньках, и турок стал на него наседать. И делал это ужасно долго. Отец сказал, что только потом заметил, как от волнения он до половины ввинтил трость между половицами. Неожиданно Лурих освободился от захвата, оба встали, и Лурих… взлетел на воздух. Разумеется, они согласовали этот собачий трюк, сказал отец. Лурих летел задницей вперед… деревянный барьер в щепки! Стол полицмейстера в щепки! Стул полицмейстера в щепки! Полицмейстер среди обломков мебели лежит на полу! А задница Луриха на лице полицмейстера… Отец говорил, что он хорошо видел, как долго, беспощадно и спокойно Лурих елозил по полицмейстерской роже с черными усами. А полторы тысячи зрителей ревели от восторга… Сейчас я лучше, чем тогда, в девять лет, представляю себе, как они бесновались. Потому что сейчас я знаю, в какое это время происходило. В самое свинцовое, самое кровавое, черносотенное время, в 1909 или в 1910 году, и только в цирке можно было смеяться, когда главный жандарм оказался в роли клоуна и послужил мочалкой для чьей-то задницы, тут от хохота могла разверзнуться земля. Тем более что из газет, еще сохранивших в то время некоторые завоеванные революцией свободы, общественности было известно, что крылось за процессом по делу об украденных наградах Луриха, и люди были уверены в причастности воровской рожи полицмейстера… Смех гремел до тех пор, пока Лурих не встал на ноги; движением руки он успокоил публику и на своем элегантном русском языке чрезвычайно вежливо произнес:
– Простите, ваше превосходительство! Маленькая спортивная неудача!
После чего вернулся на арену и в пять минут уложил турка на обе лопатки.
Но тогда, на той, прилегающей к железной дороге улице, ведущей в Тонди, под причудливо колыхавшейся над моей головой тенью дедушкиного креста, мне от проделки Луриха было не до смеха. И все же, когда я отчетливо все себе представил, то, несмотря ни на что, все-таки прыснул. Особенно когда в моем воображении на месте Луриха оказался дед… не такой, каким он был сейчас, – старый, с бородой, темный, каким Луриха никогда на открытках не изображали, а совсем другой – светлый, молодой, выбритый, проворный, дед той поры, когда он гнул подковы, и каким он на самом деле когда-то был… А что касается полицмейстера, никогда мною ни на одной открытке не виденного, так его совсем легко было заменить птице-директором: вот он лежит на земле, среди обломков директорского стола и вагона электрички, а дед приподнимает зад с рыжеусой хари птице-директора и отряхивает свои вороньего цвета брюки. «Маленькая неудача. Прошу извинить…» При этом серый вороненок садится мне на плечо, потом опять летит перед нами, мы за пять минут доходим от вокзала до Рахумяэ, дед спускает крест с плеча и устанавливает его на камне в середине песчаного квадрата, предназначенного для всех нас…
Но мы не прошли еще и половины, даже четверти пути. Мы пересекли Палдиское шоссе. Кончилась улица, параллельная железной дороге, мы свернули направо и по траве и кочкам вышли к железнодорожному полотну и к извилистой, обрывавшейся пешеходной тропе, какие бог его знает как далеко провожают все уходящие из городов железные дороги. Мы свернули на тропинку вдоль канавы. Дедушка остановился и поставил крест среди поздних цветов калужницы. Он вытер голубым платком лоб, лицо и шею и отвязал от креста бумажный мешок с несколькими фунтами цемента.
– Возьми вот, неси. Болтается тут, только мешает.
– Дедушка, почему ты понес на себе?
С каменным лицом дед смотрел вперед:
– Ежели эти господа, эти новые господа утверждают, что мы мешаем работе железной дороги!
– А ты осилишь?
По моему голосу дед должен был понять, как сильно мне хотелось, чтобы он осилил.
– Я же сказал: посмотрим. Кому надо, тот осилит.
Дед стал суровым. От раздражения на птице-директора, разумеется. На всех птице-директоров, очевидно. И, наверно, еще от чего-то, более общего, сущности чего я не понимал, но наличие ощущал всей кожей. Так что его недовольство было вполне понятно. Но я очень редко, а возможно, что и вообще никогда не видел деда сердитым. И ощущение его раздраженности вселяло в меня неуверенность. Так что я свой вопрос проглотил. Дед снова рывком положил крест на плечо.
– Пошли.
Мы продолжали двигаться по вьющейся вместе с железной дорогой тропинке, недалеко от станции Лиллекюла я опять с расстояния десяти шагов взглянул на деда. Вдруг мне показалось, что он стал тяжелее ступать и больше сгибаться под крестом. Вот уже и станция. На перроне виднелись люди. У дорожки, по которой мы шли, стояла скамья, на ней сидела молодая женщина с болезненным, туберкулезным лицом, по-видимому, не заметившая приближения деда. А он, очевидно, намеревался минутку на скамейке передохнуть. Неожиданно женщина подняла глаза: она уставилась на дедушку с наклонно лежавшим на его спине крестом и, наверно, решила, что перед ней привидение. «Господи, помилуй!»– громко крикнула она и бросилась бежать через пути к людям на перроне.
Дед, не глядя, пошел дальше.
Через пятьдесят шагов навстречу нам мчался громыхающий и ревущий электрический поезд из Нымме. Можно допустить, что тот самый, на который птице-директор не позволил нам сесть. Когда поезд прогрохотал – мы стояли внизу у канавы перед железнодорожной насыпью, от шума и ветра втянув головы в плечи, – и колеса пронеслись над нами, мне показалось, будто в окне третьего или четвертого вагона мелькнуло лицо птице-директора. Я подумал: ну, теперь он видел, что мы пошли пешком! Своими глазами он увидел удивительную дедушкину силу! Но и дедушкину усталость! И ему стыдно. В пятидесяти шагах от нас поезд приостановился, я сделал то же самое и оглянулся…
Дедушка это заметил и, не останавливаясь, спросил:
– Чего ты глядишь?
– Мне показалось, будто….
Дедушка остановился и опустил крест.
– Что тебе показалось? – Он вытер платком лицо.
– Будто тот господин мелькнул в окне. Который нас на поезд не пустил…
– Ну и что? – спросил дед как-то резко.
– Нет, ничего… Я подумал, что…
Дед беспощадно высмеял мою детскую наивность.
– Ах, он глядел на нас из окна? И ему стало стыдно? Так, что ли? Может, он даже сойдет в Лиллекюла? Побежит за нами и предложит свою помощь?! Ха-ха-ха-ха! – Дед смеялся сухо, жестко, странно. – Смотрю я на тебя, Пеэтер, другой раз ты вполне разумный человек… и вдруг хуже ребенка… – Мы пошли дальше. Мне было стыдно, и я молчал. Дедушка отдыхал теперь через каждые сто шагов. На спине его тонкого темно-серого пиджака проступили черные пятна пота. Когда мы все так же левее железной дороги прошли станцию Ярве, дед остановился и сказал, уже заметно тяжело дыша:
– Дальше эта тропа станет песчаной и рыхлой. Свернем теперь на старое шоссе.
Он постоял еще мгновение, опираясь на крест, и снова взвалил его на спину. Мы свернули направо, пересекли полотно и, пройдя сотню шагов, через проход между изгородями вышли на мощенную булыжником дорогу. Дед прислонил крест к рябине на обочине и сел под дерево.
Возможно, у него действительно больше уже не было сил? Но ведь кто-то должен был осилить? Даже если времена распрямления подков миновали, и Лурих уже несколько лет как в могиле? Разве не сам дед сказал: кому надо, тот осилит? Но я не решился ничего спросить. Дед сидел на оленьем мху. Глаза у него были закрыты. Он снова вытер с лица пот, и его щеки по сравнению с сединой бороды казались неожиданно бледными. За его спиной, по обе стороны рябины, были раскинуты белые руки креста. Откуда-то слышался рояль.
Мы сидели на краю не застроенного со стороны дороги участка. Справа от нас, в сущности, даже за нами, у дороги стоял большой серый дом с закрытыми окнами, слева – низенький домик, на нем обращенная в нашу сторону огромная желтая вывеска с нарисованным черным сапогом. Но звуки рояля доносились не от них. Тут я понял, рояль звучал за живой изгородью из акаций по другую сторону дороги. Кусты были, такие высокие, а дом за ними, должно быть, такой низкий, что крыши не было видно. Но сквозь акации белели распахнутые окна веранды. Вот там и звучала музыка. И странным образом я узнал вещь, которую играли. Мой двоюродный брат Ээрик исполнил ее однажды на нашем старом инструменте. Ээрик, сын тети Эмилии и дяди Ханса, абитуриент реального училища и студент консерватории. Дядя Ханс, послушав, сказал: «A-а, опять это самое твое «Вознесение Тысяченогого!» Ээрик покраснел и очень серьезно сказал, что это Бах. Тот самый Бах, о котором Ээрик счел нужным мне рассказать: отец Баха запретил сыну заниматься нотами и приказал экономить свечи, и тогда мальчик стал читать ноты при лунном свете и от этого впоследствии ослеп. И я уже не знал, считать эту удивительную, кажущуюся спокойной, но такую волнующую, неотступную, испытующую музыку могучей или монотонной. Мне казалось, что дед тоже прислушивался, и я было хотел сказать: «Дедушка… а ты знаешь, ведь это Бах». Но тут сообразил, может быть, он даже и не слышал имени Баха, и оттого, что я знаю, а он, возможно, не знает, мне стало стыдно, и я промолчал.
Рояль по ту сторону дороги смолк, и дед поднялся. Он опять вытер лицо, наверно, пока сидел, оно снова покрылось потом, и взял крест.
– Пошли.
Мы шли. Дедушка старался идти по утоптанной полосе между мощеной дорогой и обочиной, которая была глаже, чем булыжная мостовая, и плотнее обочины. Время от времени его опять покачивало и нога ступала то на неровные камни, то на мягкий грунт. Но теперь было ясно, что мы дойдем.
– Дедушка, а ты осилишь до конца?!
– Осилю.
Еще несколько передышек. Последняя перед самым кладбищем, у прилавков, где продавались цветы. Потом у капеллы. И мы на нашем участке.
Дедушка поставил крест на землю, а сам опустился на белую скамью, чтобы отдышаться. Он долго молчал, явственно слышался шелест осин на соседнем участке. Потом сказал:
– Вот ведь живодер! От самого города туда до рябины я шел, скрежеща из-за него зубами. Из-за таких, как он… Только потом понял, что это глупо… Во всяком случае, когда ты идешь… ставить себе крест… Да к чему впустую-то говорить… – Дед встал со скамьи. – Ага, мешок с цементом здесь. Ну, беги теперь. Ты же хотел пропеллеры смотреть. Я принесу в манерке воды, разведу малость этой смеси и установлю его.
С пропеллерами дело оказалось сложнее, чем я думал. Вертикально стоявший пропеллер был длиннее, чем горизонтальный, и форма крыла у них была разная. Я не смог решить, какой предпочесть, и поэтому пришлось срисовать оба. На это ушло много времени и… – ну да едва ли аэроплан с пропеллерами, сделанными по моим рисункам, смог бы полететь. Но для моих тогдашних потребностей мои старания вполне годились. Возможно, я ушел с могилы летчика все же немного раньше, еще не считая свои рисунки окончательно готовыми. Как я уже сказал, под впечатлением усилившейся противоречивости – полета в небе и пребывания в земле.
Когда я вернулся на наш участок, крест стоял на постаменте, а дед сидел на скамье. Я подошел к кресту и хотел его потрогать, проверить, прочно ли он стоит. Но вспомнил, что этого делать нельзя. Я быстро сказал:
– Нет, я до него не дотронулся. Ты ведь сказал, что ему нужно простоять сутки, прежде…
Дедушка мне не ответил. Я посмотрел: он спал. И тут я понял: он – не спал. Он умер. Каким-то сознанием я все время знал, все время знал, что именно так случится.
Я понял, что произошло нечто ужасное. Я почувствовал, что весь мир точно опустел и сам я, как часть мира, тоже опустел. И пустоту наполнил отчаянный испуг. Я бросился бежать. Где-то я видел женщин, поливавших цветы на могилах. Я побежал к ним за помощью. Женщины еще не ушли. Они поставили мотыги и лейки и поспешили со мной.
И тут все началось. Как всегда. Вплоть до диагноза: разрыв кровеносного сосуда.
Никогда за всю мою жизнь никто у меня не спросил: Пеэтер, а если бы ты не воодушевлял его трехкратным взволнованным вопросом: «Дед, а ты осилишь?» Если бы ты вместо этого сказал ему: «Дедушка, не делай глупости! Подождем следующего поезда. Или, если не хочешь, наймем тележку. Где-нибудь найдется…» – Если бы ты это сказал, может быть, не случилось бы того, что случилось?
За всю мою жизнь никто у меня этого не спросил.
Маленький Виппер
Маленький Виппер действительно был не самой светлой головой среди нас, абитуриентов. Но это был упорный и добросовестный юноша. С математикой он справлялся хорошо и обычно получал пятерки. Осенью он по собственному почину целый месяц занимался графическим интегрированием, и директор Лепнер, который преподавал у нас математику, хоть и усмехнулся, однако старания его оценил. Но устные предметы давались ему нелегко: он их просто вызубривал наизусть. Снисходительно зевавшему господину Мэннику он рассказывал про французскую революцию, точно повторяя слова учебника, написанные господином Мэнником. Труднее всего давались ему языки. За исключением латыни. Очевидно, соотношение логичного и алогичного в этом языке отвечало складу ума Маленького Виппера. Во всяком случае, он всегда получал у обычно смотревшего волком господина Кримма твердую четверку, а нередко и полновесную пятерку. С эстонским языком дело обстояло хуже. На протяжении нескольких лет господин Каури ставил ему почти одни тройки. Но странным образом господин Каури, который был старше нас на какие-нибудь десять лет и уже в силу своей молодости держался весьма формально и холодно, теперь, когда мы вышли в гимназии на финишную прямую, вдруг заметил старания Маленького Виппера, и по эстонскому языку Маленький Виппер стал получать чаще всего четверки. И по немецкому и английскому языкам, то есть у господина Шварца и мисс Найт, его старательность обычно поощрялась хорошими или даже очень хорошими отметками. Но у monsieur Ледуте, у нашего француза, он терпел хроническое фиаско. С полупрезрительной, полу снисходительной усмешкой monsieur Ледуте, разумеется, ставил ему тройку. Но ни в коем случае не больше:
«Vipere, mon ami – tu es suffisant! Suffisant comme toujours!»[92]92
Випер, мой друг – удовлетворительно! Удовлетворительно, как всегда! (Фамилию Виппер Ледуте произносил на французский манер с ударением на последнем слоге: Vipere – означает гадюка, ядовитая змея.)
[Закрыть] – восклицал monsieur Ледуте, обращаясь к Маленькому Випперу, – это было уже давно заранее известно, – и смеялся, обнажая сверкающие белые зубы, фальшивые, о чем мы стали подозревать лишь тогда, когда случайно узнали, что он приближается к шестидесяти.
Только Маленькому Випперу suffisant[93]93
Удовлетворительно (франц.).
[Закрыть] было совсем не suffisant. Потому что ему хотелось оказаться среди четырех или пяти абитуриентов, оканчивающих cum laude[94]94
С похвальным листом (лат.).
[Закрыть]. А для этого в аттестате среди пятерок могло быть только несколько четверок и желательно по наименее существенным предметам, но, упаси боже, ни одной тройки, тем более по такому предмету, как французский, который был у нас самым важным иностранным языком и вообще по традиции Гранберга если не пуп земли, то нечто к этому близкое.
Да-а, если бы меня спросили, чем Маленький Виппер обращал на себя внимание у Гранберга, я бы задумался. Многие годы он оставался маленьким, смуглым, живым и острым на язык мальчиком. А за лето перед девятым классом он как-то сразу вытянулся и оказался в классе одним из самых длинных. Разумеется, прозвище Маленький Виппер за ним осталось. Оно осталось бы за ним, вырасти он даже до двух с половиной метров. Ко времени окончания гимназии он был все таким же тощим, таким же несколько необычно смуглым, с таким же птицеподобным лицом, как на иконах, озабоченными желто-карими глазами, сосредоточенным, нервным и немного педантичным юношей. Его точность, разумеется, была достойна уважения, но порой она раздражала («Пеэтер, ты обещал мне принести сегодня словарь Кырва?» – «Ох, дьявол… Забыл… Завтра принесу». На что Маленький Виппер, качая головой, мычал: «Ммм…»). И именно это покачивание головой и его «ммм» действовали на нервы. Потому что это говорилось сознательно свысока: Маленький Виппер никогда своих обещаний не забывал. Он мог позвонить мне в половине двенадцатого ночи: «Пеэтер, я обещал тебе принести завтра в класс «Мифологию» Эйзена. Я проискал несколько часов, но так и не нашел. Непонятно, но ее нет. Так что завтра я не смогу ее принести. Нет-нет-нет! Чтобы ты зря не надеялся. Извини». И голос у него – и не только по телефону – бывал какой-то напряженный и тусклый. У него было неблагополучно то ли с гландами, то ли с чем-то еще, что часто его донимало. На шее с выступающим кадыком он носил для тепла повязку, сшитую его матерью из синего шерстяного шарфа.
Что касается домогательств Маленького Виппера cum laude, то в какой-то мере это можно было отнести за счет тщеславия. У меня не было ни малейшего представления о том, как распределялся семейный лимит тщеславия у Випперов. И я долго этим совсем не интересовался.
Папа Виппер был, кажется, геолог, или геодезист, или что-то в этом роде, он часто находился в отъезде и ни разу в гимназии не появлялся. Дома у них я никогда не был. Госпожу Виппер, маленькую подвижную женщину с темными испуганными глазами, я несколько раз встречал на лестнице. Например, когда у нас проходило занятие литературного кружка, а в нижнем зале шло родительское собрание. И вопрос о том, в какой мере явный спурт Маленького Виппера ради cum laude был его собственной идеей, или кого-то из родителей, или их общей, честно говоря, меня не касался. Матери и прежде и сейчас, как правило, более честолюбивы, чем отцы, они придают большее значение внешним успехам своих детей. Я не говорю, что отцам неведомо родительское тщеславие, только в отцовском тщеславии центр тяжести в другом. Если перенести это на шкалу ценностей гранбергской гимназии, то матери, точнее, примитивно тщеславные матери (ибо были и другие) жаждали, чтобы по наиболее важным и изысканным предметам, например по французскому языку, их сыновья получали высокие оценки, чтобы умение носить одежду, держаться и танцевать привлекали к ним внимание других матерей и их дочерей. Отцы, то есть тщеславные отцы, направляли свои wishful thinking[95]95
Желания, мечты (англ.).
[Закрыть] скорее на то, чтобы из их юнцов в дальнейшем получились руководители отделов, директора, генеральные директора, дипломаты, министры, во всяком случае, денежные и влиятельные люди.
О дальнейших планах Маленького Виппера я ничего не знал. Кстати, согласно условиям приема в университет, аттестат зрелости cum laude освобождал от вступительных экзаменов только тех, кто поступал на факультеты, где число претендентов не превышало числа мест. Однако практически таких факультетов не было. Так что никакой пользы, кроме неопределенной и немедленно забытой чести в день окончания, от cum laude не предвиделось. Но Маленький Виппер приступил к делу серьезно, два семестра он вел осаду крепости на вершине горы со всех направлений. И казалось, действительно, к ней приближался. За исключением одного направления – monsieur Ледуте.
Monsieur Ледуте появился среди преподавателей гимназии Гранберга несколько лет назад, обнаруженный еще самим господином Гранбергом с помощью Alliance française[96]96
В 1883 году учрежденный союз с целью распространения французского языка и культуры за границей действовал и в буржуазной Эстонии.
[Закрыть] и принятый им на должность. Monsieur Ледуте было поручено в течение последних двух лет окончательно отшлифовать французский язык учащихся. Насколько вообще можно говорить об окончательной шлифовке такого шершавого и хрупкого предмета. Monsieur Ледуте говорил с нами, естественно, только по-французски. Официально – для того, чтобы совершенствовать владение языком. В действительности еще и потому, что за семь лет жизни здесь он выучил по-эстонски только два слова: «черт» и «здравствуйте». В то время мы не задавались вопросом и не спрашивали у него, чем он это объясняет. Теперь мне кажется, что его мотив мог быть весьма прост. К чему барину, при всех богатствах его собственного языка, которому, как принято говорить, принадлежали Рабле и Мольер, учить лепет этих басков северного меридиана, несравнимо более ему чуждый и далекий, чем язык его собственных басков?!
Педагогом monsieur Ледуте был, конечно, сомнительным. Офицер, это да. Им он был и оставался, что сразу бросалось в глаза. Говорили, что во время первой мировой войны он наглотался где-то в Бельгии немецких газов и это сильно испортило ему зрение. Чего по взгляду его выпуклых серых глаз не было заметно. Позже он нашел себе применение в колониях. Очевидно, там не требовалось особенно острое зрение. В Габоне он стал командиром батальона, что означало майорские эполеты, а когда зрение еще ухудшилось, стал обучать в Либревильском колледже бантуских мальчишек французскому языку. У Гранберга он, разумеется, эполет на плечах своей элегантной визитки не носил. Однако темно-красная ленточка ордена Почетного легиона неизменно оставалась в петлице. Он не носил и очков, в которых нуждался. В начале урока, делая запись в классном журнале, он вынимал их из нагрудного кармана, где они лежали за платком, и, как были, не раскрывая, держал между большим и указательным пальцами над журналом. Позже мы поняли, почему он так поступал: просто потому, что ему хотелось казаться молодым не только в глазах девочек, не только в глазах женщин, но и гранбергских гимназистов.
К порученной ему шлифовке он относился не слишком серьезно. Чтобы было проще, он поделил класс на три категории. Низшая и не очень многочисленная состояла из тех мальчиков, тупость которых во французском языке была столь безнадежной, что monsieur Ледуте не строил относительно них никаких надежд и не предъявлял к ним никаких требований. Мальчикам этой категории он говорил «ты», он издевался над ними и бранил, – открыто глумясь, правда, все же не опускаясь до того, чтобы прибегать ко всем возможностям колониального солдатского лексикона. Ибо его не поняли бы остальные наши доморощенные учителя французского языка, не говоря уже о самих мальчиках. Так что monsieur Ледуте ограничивался уровнем, для которого расхожими фразами были; «Mon cher, tu baragouines comme un negre»[97]97
Друг мой, ты лопочешь как негр (франц.).
[Закрыть]. Само собой понятно, что «негры» редко получали больше двойки. Вторая и самая многочисленная категория состояла из тех, кто двойку у monsieur Ледуте получал редко, но еще реже четверку, а большей частью – тройку, и представляли они собою такую серую скуку, что он никогда не утруждал себя каким бы то ни было личным с ними общением. К третьей категории относились те немногие ученики, которые, то ли благодаря интересу, то ли соприкосновению с французским языком вне гимназии, в какой-то мере им овладели. Этих monsieur Ледуте удостаивал обращения на «вы» и вел себя с ними несколько заискивающе, как бы с почти равными, и это было даже чуть-чуть тягостно. При этом делении класса на три категории у Маленького Виппера было свое особое место. По отметкам он относился par excellence[98]98
По преимуществу (франц.).
[Закрыть] ко второй категории. Вокруг других, подобных ему, в системе Ледуте господствовало обоюдное безразличие. – Но между Маленьким Виппером и monsieur Ледуте гудело обоюдное напряжение. В поведении Маленького Виппера оно было, разумеется, более заметно, чем в поведении шестидесятилетнего колониального майора.
Четыре раза в неделю тревожное возбуждение Маленького Виппера достигало апогея. Можно допустить, что и в его сознании, и в подсознании оно гудело днем и ночью непрерывно, и каждый раз с приближением урока нарастало: ощутимо, тревожно, властно, фатально. Так, что и лицо Маленького Виппера по понедельникам, вторникам, средам и пятницам было хмурым, голос еще глуше, чем обычно, и сам он еще более рассеян. На перемене перед уроком французского, а скорее всего еще на предыдущей перемене, он бормотал правила, имена, даты, тексты и вышагивал туда и обратно где-нибудь в конце коридора: носки больших ботинок странно повернуты внутрь, глаза полузакрыты, потные руки в карманах.
Разумеется, monsieur Ледуте в такой мере не концентрировал своего внимания на Маленьком Виппере, как это делал Маленький Виппер по отношению к monsieur Ледуте. Бодрым шагом, иронически усмехаясь всем в глаза и сверкая зубами, monsieur Ледуте входил в класс, садился, мгновенно брался за журнал и в ту же секунду называл какую-нибудь фамилию, обычно из категории номер два.
– Керийг! Это был Кээрик. – Или:
– Ромэре! Это был Роомере. – Или:
– Жерван! Это был Йерван!
Вызванный подходил к учительскому столу и декламировал заданное к этому дню четверостишие из Мольера, Корнеля, Ламартина, Гюго, Верлена. Или еще чей-нибудь опус, который был выбран, чтобы мы по частям вызубривали его наизусть. Потом monsieur Ледуте, глядя в окно, начинал спрашивать другие задания на этот день, обычно он называл мальчиков второй категории, иногда «негров», при этом спрашивал мнение мальчиков первой категории, кем, судя по ответу, этому «негру» лучше стать: золотарем, ночным сторожем или даже могильщиком. Все это происходило при полном игнорировании Маленького Виппера. Но случалось, что monsieur Ледуте вдруг его замечал.
– Vipere, mon ami! Holà-là – tu es là![99]99
Випер, друг мой! О, и ты здесь! (франц.)
[Закрыть] – Это якобы удивление могло быть иногда объяснимо и тем, что Маленький Виппер недавно опять неделю пропустил из-за ангины. – Alors[100]100
Итак (франц.).
[Закрыть], расскажи нам, что такое subjonctif?![101]101
Сослагательное наклонение – одна из самых сложных форм спряжения французских глаголов.
[Закрыть]
Маленький Виппер, разумеется, знал. Он начинал отвечать. А все же немного ошибался. Что-то чуточку путал. Или думал, что напутал. И удивленно выжидательная мина monsieur Ледуте нисколько ему не помогала. И когда Маленький Виппер видел, как по лицу monsieur Ледуте скользила роковая тень разочарования и как он обращал взор к классу – не только к высшей категории мальчиков, но и ко второй и даже к «неграм», – почти просящий о снисхождении, предполагающий понимание («Не правда ли, вы же видите, что мы не можем оценить ответ Виппера выше, чем он того заслуживает?!»), тут Маленький Виппер окончательно сбивался. Сперва у него начинала дергаться жилка на шее, потом щека, голос становился совсем глухим, и он нес какую-то ахинею. Или если до этого не доходило, то уже в примеры на subjonctif, которые monsieur Ледуте в заключение от него требовал, он непременно вносил изменения и от страха образовывал несуществующие формы спряжения. А Ледуте, смеясь, спрашивал нас:
– Послушайте! Никто не будет протестовать, если за усилия и находчивость мы все же поставим ему удовлетворительно? Personne ne proteste? Voilà – suffisant. Suffisant comme toujours[102]102
Никто не протестует! Значит, удовлетворительно. Удовлетворительно, как всегда (франц.).
[Закрыть].
Или – если вопрос был по истории литературы и Маленький Виппер, отвечая Виктора Гюго, сразу начинал сыпать фразами из учебника и благодаря этому, ну скажем, не впадал в азарт, но говорил несколько более самоуверенным тоном, чем мог себе позволить, и в середине фразы произносил не Виктор Гюго, а Виктор Гюго – тут monsieur Ледуте эмфатически воздевал обе руки к небу и восклицал:
– Випер, если ты по-французски говоришь не Виктор, а Виктор, ты никогда не станешь победителем! Никогда! Ты всегда будешь побежден, всегда бит! Садись! Suffisant!
Я не понимал – да и до сих пор не понимаю, – что monsieur Ледуте хотел сказать этой глубокомысленной фразой. Теперь, правда, я начинаю думать: просто человек, говорящий по-французски с элементарными фонетическими ошибками, неполноценен. Во всяком случае, необразован. Не говоря уже, конечно, о человеке, который вообще французского языка не понимает. Почему нельзя допустить, что французский колониальный офицер способен так думать?
Однако, когда я спрашиваю себя, как же мы относились к игре в кошки-мышки между monsieur Ледуте и Маленьким Виппером, мне становится стыдно. Ибо нужно признаться, что у нас не было к этому какого-либо единого отношения. Правда, я не помню, чтобы «негры» открыто злорадствовали. Но в отношении к нему некоторых «негров» с эстонским характером не могла не присутствовать крупинка удовлетворения: «Старается дуралей Виппер прыгнуть выше собственного носа, вот и получает от старика по кумполу – трах… И поделом, пусть не пресмыкается!» Не помню и того, чтобы кто-нибудь из мальчиков второй категории ехидничал по поводу злоключений Маленького Виппера. Хотя его удачи или неудачи должны были в первую очередь затронуть тех, кто, так сказать, был одного с ним уровня. Именно им потуги Маленького Виппера скорее могли представляться угодничеством или предательством. Именно среди них мог бы найтись кто-нибудь, кто выразил бы на словах национальную черту эстонского характера, которую Раудсепп сформулировал так: «Не выношу, когда у другого все благополучно!» и которую можно было бы выразить и иначе: «Приятно видеть, что другому не везет» или даже: «Приятно смотреть, когда другого топчут»… Нет, нет, до проявления злорадства по отношению к Маленькому Випперу не доходил никто… Но никто не сказал и о несправедливости происходившего. Того, что за якобы доброжелательными тройками monsieur Ледуте, неотвратимо уничтожавшими все усилия Маленького Виппера, скрывался непонятный, но откровенный садизм. Не были мы такими невинными, чтобы этого не понимать. Только, наверно, почти всем нам усилия Маленького Виппера казались смешными, и если кто-нибудь и был в ответе за его неудачи, то лишь он сам. Самое большее, что в каких-то случаях все же происходило, что мы для него делали, это когда monsieur Ледуте, перед тем как влепить Випперу очередную тройку, спрашивал: «Personne ne proteste?», кто-нибудь из нас, «французов», – иногда Вентре, иногда Корнель, иногда я – говорили: «Moi je proteste»[103]103
Я протестую (франц.).
[Закрыть]. He слишком уверенно, с некоторым с сомнением, может быть, не столько во имя справедливости, сколько из тщеславного желания казаться справедливым, а в какой-то мере и потому, что вопрос monsieur Ледуте содержал в себе почти вызов к протесту… Ибо разве не сам monsieur Ледуте объявил нам: «Французы самые большие демократы в истории! Доказательства? Примеры? Доказательство: свободу слова придумали они! Пример: Наполеон!»