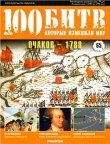Текст книги "Императорский безумец"
Автор книги: Яан Кросс
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 30 страниц)
Когда мы закончили наш скромный ужин второго рождественского дня, Ээва села в сани и уехала, а Анна легла спать, я же после этих разговоров опять – спустя много времени – достал из-под половицы рукопись меморандума Тимо. Кстати, в этом году я намеренно купил несколько точно таких же тетрадей, как вот эта, в которой веду дневник, – предназначенных для заметок по текущим землемерным работам; если таких тетрадей на моем столе будет несколько, это даст возможность лучше маскировать дневник, упади на него случайно чей-то взгляд. И в этой связи я подумал и о рукописи Тимо. Я раздобыл толстую бумагу для набросков и черновиков того же формата, что и рукопись, положил их ворохом – сероватые полускрученные затвердевшие листы – на свой стол, чтоб и они казались там обычными. Чтобы рукопись Тимо, если кому-нибудь случится увидеть ее на моем столе, не выделялась из всего остального.
Сейчас я опять разложил ее перед собой среди стопок прочих бумаг. Ибо подозрение Эльси по поводу Тимо, о котором говорила Ээва, заставило меня снова перелистать его рукопись.
И должен сказать: если оставить в стороне некоторые его суждения, обусловленные сословной ограниченностью, я чувствую себя от этого чтения втиснутым в некий странный и противоречивый замкнутый круг: высказанные им мысли, которые наиболее явственно подтверждают его безумие, служат наиболее ярким доказательством его глубокого проникновения в жизнь и его беспощадной честности…
…Много ли найдется людей, которые могут от чистого сердца сказать: таково было мое намерение и так я поступил для его осуществления? И если среди миллионов найдется один, которому присуща как гениальность, так и энергия, необходимая для честности, – то этот человек окажется в изгнании…
Порядок – основа любого общества, и я неизменно отношусь к нему с уважением, однако неправильно представлять себе, что порядок не совместим с правдой…
…Не любить ограничителей справедливости присуще человеческой природе и присуще в тем большей степени, когда ограничению сопутствуют пристрастность и грубость…
…Когда захочется непоправимо испортить здание, то следует поручить его строителям, которые, пользуясь равной властью, каждый месяц сменяются…
…Что может быть прочного в неограниченной монархии?
…Любой народ до того, как он достигнет цивилизации, переживает эпоху дикости и варварства, прежде чем достигнутая цивилизация под действием скверной человеческой сущности в свою очередь вырождается в новое варварство. Однако освещенный пожаром Кремля народ уже не тот, которого курляндский псарь Бирон десять лет таскал за волосы. Тех, кто в этом усумнится, ожидает роковое изумление. В жизни народа, так же, как и в жизни отдельной личности, бывают мгновения, которые разом меняют самую их сущность…
…Что касается наук и искусства, то Россия действительно заслуживает серьезного внимания. Кто понимает Державина, Дмитриева, Крылова, Жуковского, Батюшкова и Карамзина, кто умеет ценить Озерова, кто видел памятник Минину и Пожарскому, как и произведения Толстого, Егорова или Уткина, кто слышал мессу Бортнянского, кто видел на сцене Шушерина, Брянского, Семенову, Данилову, тот в тем большей мере разделяет признание этих блистательных имен, чем ближе ему классический мир. Вам, господа, эти имена неизвестны. Но разве это умаляет их ценность? Разве то вина Гёте и Шиллера, что в Париже их почти не знали, до того как madame de Stael. не заверила французов, что и по ту сторону Рейна тоже читают и пишут?
…В чем состоят заслуги Паулуччи? Разве в том, что он посылает царю свои донесения, и царь платит ему за это жалованье и в силу этого замечает, что тот существует? Разве рвение шельмы способно начисто стереть его позор? А если способно – чего же тогда стоят вера и честь?
Что он не любит жертвовать на наше благо свои дорогие дни, в этом мы убедились в 1812 году. Крайне правдоподобно, что он не израсходовал всех своих денег, если принять к сведению, что еще несколько лет тому назад щедростью одного нашего соотечественника он был выкуплен из венской долговой тюрьмы и что теперь, как мы достоверно знаем, благодаря своему высокому жалованью и маршальским доходам, может поместить в Италии огромные капиталы Почему мы называем его только сиятельством, а – еще не величеством?
…В июне 1816 года я препроводил императору гласным путем официальную записку, которая содержала подлинные доказательства изложенных в ней утверждений. В минувшем году шеф Департамента письменных прошений заверил меня, что в течение последнего года он не получал аудиенции. При том, что император за это же время не пропустил ни одного парада.
Уже четырнадцать лет остается невыполненным повеление произвести ревизию варварской конфискации поместья семьи Паткулей.
Как же назвать подобный порядок ведения дел?
…Не будем же всегда обвинять наших правителей. Они именно таковы, какими мы их делаем. Если мы с колыбели отравляем их своим пресмыкательством, как же мы можем требовать от них, чтобы им было дорого наше благополучие?
…В самом деле, начиная с создания Священного союза, мы могли заметить, как наши газеты утверждают, что права суверена исходят только от господа бога. А мы, верящие во всемогущество бога, его воле приписываем чуму, гиен, скорпионов, клопов и алжирских беев и полагаем, что правители поступили бы мудро, если бы предоставили будущим поколениям решать, чем же они в сущности были – орудиями божьей милости или господнего гнева…
Разве безумец способен написать нечто подобное?
Разве нормальный человек может бросить нечто подобное в лицо своему императору?
Да, но если император взял с нормального человека клятву говорить ему правду?
Да, но если император лишил нормального человека свободы нормально лгать?
Эх, только безумец способен отказаться от свободы лгать императору!
Воскресенье, 25 октября 1831 г.
Сегодня в десять утра Анна благополучно родила здоровую девочку.
Доктор Робст собирается на будущей неделе поехать в Германию, но все же успел принять нашу дочь. Мать и дитя с божьей помощью вполне здоровы. Мы считаем – Анна, доктор и я, – если то обстоятельство, что ребенок родился в исключительно холодный и ветреный день, имеет какое-нибудь значение, ну хотя бы, что из нее получится ветреница или что ей придется много страдать от холода, то такое неблагоприятное предвестье полностью устраняется тем, что она родилась под церковный благовест… И когда Анна около двенадцати часов выпила полный стакан компота из прошлогодних яблок, а мы с доктором – по рюмке вишневого ликеру, все с радостью уверовали в эту примету.
Мы с Анной решили назвать девочку Ээвой – это имя подходит как для господ, так и для деревенских. А Анна сказала то, о чем и я подумал, – это послужит напоминанием моей важной сестре, которую уже нигде, кроме как в доме родителей и брата, этим именем не называют.
29 октября
Вчера утром кистер Мете окрестил Ээву здесь, в нашей столовой. Восприемниками мы просили быть госпожу фон Валь, ну – и госпожу фон Бок… а для равновесия я позвал еще желтоволосую Юлию нэресаареского Тийта. Кажется, я еще даже не писал здесь о том, что Тийт, старый одноглазый кряж, еще в прошлом году нежданно-негаданно привел к себе в дом новобрачную из предместья.
А мне завтра ехать в Вильянди. Потому что у нас опять, как бы это сказать, в доме и рождение, и, того и гляди, что смерть одновременно. Анне сообщили, что ее мать тяжело больна. А так как Анна не может сейчас ни оставить ребенка, ни взять его с собой, она попросила меня съездить вместо нее в Вильянди.
Моя теща мне в сущности чужой человек. Даже более чужой, чем было бы естественно. Она и в прошлом году, да и раньше, живала под нашим кровом, пока осенью не заболела и не отказалась к нам приехать. Может быть, наше приглашение показалось ей недостаточно искренним. Я и сам не знаю, почему – по каким-то случайным фразам, по ее смешкам, каким-то взглядам, по выпитым бутылкам домашнего вина – или просто из самого воздуха, но у меня сложилось впечатление, что в ней есть какое-то – даже не умею сказать, – какое-то пошлое всеведение. И что мать моей жены, на мой вкус, должна была бы быть иной женщиной.
Я уже попросил у Валя лошадь с санями и беру с собой двустволку на случай волков.
11 января 32
Итак, прошло рождество и наступил Новый год. Прошел и День трех волхвов, а то, что с него день, как говорят, на куриный шаг прибавился, этого я еще не успел заметить.
Всю зиму мы тонем в бесснежной тьме, и у меня такое чувство, будто сам я тоже тону, только не знаю, в чем. Не в отсутствии денег – с этим я изо дня вдень вел битву за своим чертежным столом, вдохновляемый и пугаемый детским хныканьем в соседней комнате. Вообще «тону» не то слово. Я чувствую себя человеком, который совершил нечто постыдное, что он, осуждает и хочет забыть, но чего он не может от себя оторвать. Хотя я ничего подобного не совершил. Все же… Четвертого декабря мою тещу опустили в землю, а то, что она мне завещала, вьется вокруг меня на земле. И я не могу освободиться от этого. И мне некому это выложить, кроме как на Эти же проклятые страницы.
В конце ноября я ездил в Вильянди проведать Маали. И нашел ее в полуразрушенной лачуге во дворе льноторговца Ринне на улице, спускающейся к озеру. Комнатка жалкая. Сломанный стул с плетеной спинкой, шершавый, давно не мытый стол, комод. Несколько мисок и горшков в потухшем очаге, расшатанная кровать. Только комод был добротный, красного дерева. Горничная купца Ринне если вспоминала, то приносила больной чего-нибудь поесть и ставила на табурет у постели.
Маали всегда была худощавой, во всяком случае в те несколько лет, что я ее знаю. А теперь она казалась просто прозрачной. Она и сейчас была слегка под хмельком, ее острые скулы пылали на бледном лице, узеньком, как козий след. Между постелью и стеной стояла наполовину выпитая бутылка дешевого ягодного вина. Маали смотрела на меня сперва мутными, а потом, когда узнала, беспокойно забегавшими глазами. Она сказала:
– Знаешь, у меня меньше гложет бок, когда я немного выпью.
Я объяснил ей причину, по которой не могла приехать Анна, и спросил, что я могу для нее сделать. Она пожелала, чтобы я привел к ней пастора Яановской церкви. Я сказал:
– Хорошо, но прежде я приведу к тебе доктора.
Вильяндиский врач Мейер, сын местного кузнечного мастера, еще молодой доктор, настроенный философски, но, по слухам, находящийся с Эскулапом в добрых отношениях, несколько раз бывал в Выйсику. Он узнал меня и сразу же надел шубу. Осмотрев Маали, он сказал, что несколько глотков из той бутылки больной только на пользу. Я вышел вместе с ним во двор, чтобы заплатить ему за визит, и спросил, что с моей тещей.
– Она просила пастора, – сказал доктор Мейер, – вот и приведите его.
Я спросил:
– Разве уже сегодня? – Потому что, когда это касается даже не очень близкого человека, становится как-то не по себе.
– Сегодня или завтра – какая разница, – сказал доктор Мейер. – приведите уж лучше сегодня – чтобы старый человек успокоился.
Я спросил:
– От чего она умирает?
Доктор Мейер сказал почти сердито:
– Послушайте, мы же оба видим, что она кончается. От чего? Я не знаю. Никто не знает. Какой в данном случае – или даже вообще – смысл в звоне латинских слов. Просто течет песок сквозь пальцы, пока не кончается.
Я вернулся в комнату и сказал Маали, что пойду теперь за пастором. Она могла предположить, что доктор сказал мне что-то о ее болезни. Но она ни о чем не спросила.
Я отправился в пасторат, и мне сказали, что пастор Карлблом по каким-то делам уехал в Ригу.
Когда я, вернувшись с этим известием, сел на табурет у постели моей тещи, она закрыла глаза, потом взглянула на меня, положила свою сухую и горячую ладонь на мою руку (и я не посмел ее убрать) и почти шепотом сказала:
– Якоб… тогда я сейчас скажу это тебе… Может быть, так даже и лучше… То, о чем я хочу сказать, мой позор… а твоя радость… Именно так… И если я скажу это тебе – я не буду сама этого стыдиться… Знаешь, мой Аадам, бочар Вахтер, которого ты своими глазами не видел… я не могу о нем сказать иначе… даже на смертном одре… он был тупой и грубый человек. Никогда в жизни он ничего сразу не мог понять. А когда начинал что-то понимать, то большей частью сразу же злился, все равно, что бы это ни было… Когда пастор Шредер, он был в то время пастором церкви Яана, повенчал нас с Аадамом, то сделал это просто потому, что никто получше не подвернулся. Я была на третьем месяце – ты понимаешь… Ну… пасторская горничная Маали, в пасторате – и вдруг такая история…
Она перевела дыхание. Я молчал. Только когда она стала правой рукой ощупью искать бутылку и попросила помочь ей глотнуть, я подумал, что теперь мог бы отдернуть руку, но не сделал этого. Она продолжала говорить, и в ее полушепоте зазвучало удовольствие, чувствовалось, что поворот рассказа был ей приятен.
– Ты уж, наверно, подумал, что я приставала к пастору. О нет, этого, право, не было. Но, конечно, и не от ангела небесного… В пасторате в ту весну шла большая перестройка, и в гостинице против сада… жил привезенный Шредером строительный мастер. Как картинка красивый и удивительно обходительный молодой человек, немец. И он с первой минуты стал на меня открыто заглядываться. Я, конечно, как полагается, смотрела в пол, но когда он не видел, я не могла от него глаз отвести…
Я слушал ее с легким неудовольствием, но с жалостью и с радостью прощения заметил, как умиравшая Маали оживилась от своих воспоминаний.
– И довольно скоро он затащил меня к себе в комнату… Там все было устроено по его вкусу, картины и трубки на стене и цветы на столе… комната как табакерка… Сперва я противилась, но когда он наобещал мне с три короба, я перестала сопротивляться. Господи, прости меня… Так что на самом деле твой тесть не Аадам, а этот немецкий барин…
Она сжимала мою руку, и я чувствовал: не из-за трудности признаний, а оттого, что я оказался посвященным в ее тайну. Однако я справился с собой. Я чувствовал: не нужно ее осуждать в этот час, нужно постараться быть к ней справедливым. Я сказал:
– Маали, ты ведь знаешь, что права давать отпущение грехов, как у пастора, у меня нет. Но я верю, что… господь скажет тебе: «Ты достаточно за это настрадалась, – (в чем у меня не было уверенности…), – ты достаточно настрадалась – так приди с миром…» А что касается моей радости по поводу того… Ну, если твой Аадам был скверный и глупый человек…
Я увидел, как тонкий рот Маали стал совсем тоненькой черточкой и как упрямо и утвердительно дернулся ее острый подбородок. Я продолжал:
– …и если тот немец был человек порядочный – я, правда, не знаю, насколько он порядочный, если бросил тебя в таком положении…
Маали сказала:
– Перед тем как уехать, он оставил господину Шредеру для меня тридцать рублей… и этот комод красного дерева… Уж как я ни бедствовала, все продала, что осталось от Аадама… а комод сберегла, он останется после меня Анне…
Должен признаться, в этом было что-то трогательное, и я сказал:
– Так что если тот человек был все же славный и порядочный, то я могу порадоваться за Анну и за нашего ребенка…
Маали прошептала:
– Да-а… Он был хороший человек… И ты его знаешь. Это тот самый господин Ламинг… который потом у вас в Выйсику много лет был управляющим…
Мне показалось, что я задыхаюсь. Я долго молчал. Я хорошо расслышал, что сказала Маали, и все же спросил:
– Маали, ты не бредишь?!.
Она опустила голову на подушку. На лбу у нее выступил пот, седые космы выбились из-под чепца. Но она с укором посмотрела на меня и прошептала:
– …Почему ты мне не веришь… Я же была самой видной девушкой во всем пасторате… И я говорю, что мне было бы легче перед господом богом…
Я спросил, знает ли Анна.
Она покачала головой.
– Я хотела сказать ей перед смертью.
Я оставил немножко денег ринневской горничной – велел ей ночью заходить к Маали, а сам пошел в Валуояский трактир. Хотел поглядеть, хорошо ли накормлена моя лошадь. И мне хотелось провести ночь там, где меня никто не знает. Я сел в трактире за стол и почувствовал, как меня словно ткнули лицом в невидимую стену. Но и после четвертой или пятой стопки водки, которые я закусывал свиными шкварками, облегчения я не ощутил. Не нашел я спасения и во сне, сонливости не было и в помине. Голова была до боли ясной, и мне казалось, что она останется навсегда такой же болезненно ясной, как у осужденного, которому только что объявили пожизненный срок…
Разумеется, на следующее утро я взял себя в руки и пошел к Маали. Еще до ее исповеди я принял решение быть смиренным и милосердным, и теперь я тоже понимал, что с умирающей нельзя вступать в борьбу и предъявлять ей какие-то обвинения. И все же мне было почти невыносимо находиться возле нее и, разговаривая с нею, оставаться непримиримым…
Помню, я обрадовался, что в то утро она уже едва говорила, и глаза у нее стали невидящими, и уже не было очень стыдно отворачиваться от ее взгляда. Помню, что я стыдился своей радости. Да-да, в какой-то момент я был готов кричать о помощи – от непреодолимой невозможности взаимного понимания между мной и этой умирающей старухой. И от собственной неспособности играть с нею в святую игру прощения… Если бы она раскаивалась, я бы, наверно, с этим справился. Я бы смог заставить себя взять ее руку и сказать: «Мама» – как покорному зятю в подобном случае полагалось бы, – «мама, само собой разумеется, я расскажу Анне все, что ты мне сказала, и утешься тем, что мы вместе с ней порадуемся». Но то, что моя теща на пороге смерти гордилась своим падением, и ее нелепое слепое представление, что и я должен этим гордиться, парализовало мои усилия отречься от себя.
Я ушел, пообещав вернуться после обеда. Мне захотелось вдруг присмотреть для Анны у вильяндиских сапожников какие-нибудь красивые домашние туфли на меху, потому что в кухне у нас каменный пол, и Анна не раз жаловалась мне, что в тонких легких туфлях чуть подальше от очага у нее стынут ноги. Потребовалось время, чтобы обойти трех-четырех сапожников и побывать в двух деревенских лавках. Когда же я около четырех часов с туфлями и прочими покупками направлялся в трактир, оттуда навстречу шла ринневская горничная. Она уже просила трактирщика передать мне: днем, около трех часов, Маали скончалась.
С почтовым ямщиком я отправил Анне в Пыльтсамаа это известие. Анна оставила маленькую Ээву на несколько дней на попечение экономки Валей – у нее у самой двух– или трехмесячный младенец – и вовремя успела приехать в Вильянди на похороны матери. Пастор Карлблом возвратился из Риги, и мы по всем правилам похоронили Маали на Яановском кладбище. Помню, что Анна, у которой часто глаза на мокром месте, плакала, когда они с какой-то соседкой надевали на Маали белую рубаху и погребальное платье из черного коленкора, лежавшие в ящике комода, и когда уже на кладбище мы бросали комки смерзшегося песка на гроб. Но мне казалось, что плакала Анна все же меньше, чем можно было бы ожидать. Однако комод красного дерева она непременно хотела везти домой. Лишь после долгих уговоров мне удалось ее убедить, что все, оставшееся после Маали, уместится в несколько узлов, которые мы сможем увезти с собой в маленьких, взятых у Валя санках, а чтобы везти комод, нам придется нанять розвальни, в то время как столяр Биндер заплатил бы нам за этот комод здесь же в Вильянди тридцать рублей!
На самом деле Биндер дал за комод всего-навсего восемнадцать. Но я заявил Анне, что продал его за тридцать. Когда мы на следующий день после похорон ехали домой – в очень пасмурный день и большей частью навстречу резкому северо-восточному ветру, – я спросил, уставившись на заиндевевший круп лошади:
– Анна, а ты помнишь своего отца?
Голова у нее поверх зимней шапки была повязана шерстяным платком. Она сдвинула узел со рта и сказала:
– Как же мне не помнить? Мне было десять лет, когда он умер.
Я зажмурил глаза. Чтобы не видеть выражения ее лица и не обвинять себя в том, что подсматривал. Я спросил:
– А ты не помнишь, хорошо жили между собой твои родители?
Анна немного подумала:
– Не знаю… Скорее плохо. Насколько мне помнится, – добавила она.
– А почему, как ты думаешь? – спросил я. И не смог выдержать, повернулся и пристально заглянул ей в глаза. Она ответила совершенно спокойно:
– Отец свое бочарное дело знал. Но любил выпить, как часто бывает. А этого мать прежде терпеть не могла…
Больше мы к этому не возвращались. Ибо я убедился, что на смертном одре Маали сказала правду: Анна на самом деле не знала, кто ее настоящий отец.
19 февраля 1832 г.
Время от времени мне удается убедить себя, что просто смешно говорить о каком-то роковом узле в моей жизни. Честное слово, какой же это узел?!
Ну хорошо, оказалось, что отец моей жены не недавно умерший деревенский бондарь из города Вильянди, выпивоха и мужлан, как, наверно, сказали бы те, кто его случайно помнит. На самом деле ее отец господин лифляндский немец. Полугосподин, в сущности. Один из тех суетливых людей с неопределенной профессией и образованием, с неустойчивым положением в обществе, большей частью пролаз и педантов, – каких сотни встречаются в наших городах, поселках и поместьях. Чиновники, коммивояжеры, писари, начальники канцелярий и делопроизводители, строительные мастера, управляющие. Ну, этот-то тип, может быть, и более тонкой породы. Которому я, возможно, должен даже сказать спасибо за любовь к порядку и уюту, унаследованные моей женой… И если этот полугосподин, быть может, и выполнял некое царское поручение, касающееся дворянина, признанного безумным и у которого в самом деле мозги набекрень, если даже он выполнял некое тайное поручение (никто ведь не видел касающихся до этого бумаг!), то спустя двадцать или тридцать лет после того, как он бросил мою тещу и свою неродившуюся дочь и исчез, – господи боже мой, какое до этого дело моей жене?!
Однако, с другой стороны, время от времени мне становится яснее ясного, какой фатальный, какой немыслимый узел скручен в моей жизни.
Я любил Риетту. По крайней мере здесь, на этих страницах, не стану больше этого скрывать. Я люблю ее до сих пор. Четыре года тому назад я оттолкнул Риетту из-за ее отца… Ну, если бы я кому-нибудь об этом сказал, он мог бы мне возразить: значит, твоя любовь не была достаточно сильной… На что я отвечу: и сильная любовь не должна ослеплять, по крайней мере – меня. Во всяком случае это самая большая любовь, какую я испытал. Такая большая, что каждый раз, когда вспоминаю о ней, до сих пор у меня внутри поднимается какое-то радостное оживление и снова утихает – как бы сказать, – будто от сладостного укола. Так что мне следует знать: внутри у меня всегда сидит заноза… Да-да, я оттолкнул от себя Риетту, чтобы не иметь дела с правительственным шпионом Ламингом. Из-за этого же я ушел из дома моей сестры. Чтобы не иметь дела с правительственными наушниками. Мучимый совестью, что оставляю сестру и зятя преемнику Ламинга и сбегаю… Я бросился на шею другой женщине, потому что другая чем-то напоминала мне мою прежнюю любовь. А теперь эта другая женщина самым невероятным, самым дьявольским образом оказалась дочерью того самого шпиона Ламинга…
Я слышу, как в соседней комнате сквозь сон всхлипывает маленькая Ээва, – я слышу это время от времени по вечерам, сидя здесь над чертежным столом, и сейчас, когда уже за полночь и после большого перерыва я опять положил перед собой дневник, мне слышно, как она похныкивает. И думаю о том, о чем я много раз уже думал, и каждый раз при этой мысли чувствовал, будто железный обруч сжимает мне голову: крохотная букашка, которая кажется мне похожей то на Анну, то на меня самого, мое дитя… И в то же время – мне трудно даже заставить себя написать, что оно – мое дитя – внучка правительственного шпиона Ламинга. Моя дочь, которая могла бы гордиться высоким именем моей сестры, неминуемо связана с фамилией деда, произнеся которую моя гордая сестра, как я увидел, с отвращением скривила губы, будто вместо клюквы взяла в рот клопа.
22 февраля 1832 г.
При свете дня всевозможные глупые мысли в голову уже не лезут. Сижу над планом лилиенфельдовского поместья, разложенным передо мной на столе, он весь такой же белый с отдельными черными штрихами, как и окружающая земля за окном. Или тружусь во дворе – долблю канавы в днем подтаивающих, а ночью снова замерзающих сугробах, чтобы талая вода быстрее стекала в реку, потому что участок земли между яблоневым садом и берегом веснами у нас размокает от излишка воды. Или топлю обе наши громадины печи, неимоверно пожирающие дрова, или вожусь в сарае, готовлю к весне лопаты и пилы для яблонь. Или помогаю Анне: выношу из кухни ведрами воду из лохани или развешиваю на веревках белье и пеленки в нашей четвертой, зимой пустующей комнате…
Днем я слишком занят, чтобы предаваться навязчивым мыслям. Но поздно вечером, когда я читаю здесь за столом «Историю XVIII и XIX веков» Шлоссера[78]78
Шлоссер Фридрих Христов (1776–1861) – немецкий буржуазно-демократический историк.
[Закрыть], уставший, но возбужденный, и слушаю, как ветер воет в трубе и трещит ветвями в саду, и не пойму – то ли он хочет удержать зиму, то ли притащить весну, – мне начинает казаться, что со мной происходит то же, что когда-то с Тимо, как он мне рассказывал… Мои мысли, – правда, не столько картины, сколько вопросы, – выскакивают из оглобель. И я все спрашиваю себя, спрашиваю – как же обстоит дело с тем самым великим брожением, о котором пятнадцать лет тому назад писал Тимо и которое будто бы от берегов Перу дошло до земли за Китайской стеной? И мне думается, что за эти пятнадцать лет оно не улеглось, как бы рьяно ни старались повсюду погрести его под землей, под снегом, под горами пепла.
Ээва, то есть Китти, приезжала к нам на прошлой неделе. В Выйсику все более или менее по-старому. Мантейфели выписали себе из Швейцарии через Георга учительницу французского языка, и она вот уже несколько месяцев живет у них. Она обучает, разумеется, мантейфелевских мальчишек, но любит приходить в Кивиялг побеседовать. И до сих пор Петер и Эльси ей не запрещали.
Так не произойдут ли, в конце концов, изменения как в Польше, так и в России? И не придут ли к власти иные люди? Иные, чем Паулуччи, Палены, Мантейфели, Ламинги, или в лучшем случае даже не такие, как наши Латробы… скажем, примерно такие, как те, что уже седьмой год где-то там за Иркутском в кандалах под землей добывают руду? И разве не может случиться (в иные продуваемые ветром вечера, когда пламя свечи колеблется, как сегодня, я дразню свое воображение), что моего признанного безумным зятя вдруг признают достойнейшим предтечей самых благородных людей Российской империи? И мою бесстрашную сестру в какой-то мере будут чтить вместе с ним? Ибо я уверен, она была посвящена в утопические бредни своего мужа, а возможно, даже бредила вместе с ним… А разве не может случиться, что, скажем, через двадцать или тридцать лет в один из вечеров, подобных сегодняшнему, – господи, пощади нас! – разве не должно тогда неизбежно случиться, что моя дочь, которую, как я слышу, мать укачивает сейчас в колыбели, неожиданно придет ко мне и спросит: «Отец, скажи, почему люди замолкают и смотрят мимо меня, когда я говорю им, что господин Ламинг мой дед?..» И разве, сжав кулаками ручки кресла и до крови расцарапав руку скрытым гвоздем, я не почувствую себя так же, как и сейчас?
Нет. Об этом никто не должен знать!
О господи, как же мы беззащитны, если неведение – наша единственная защита!
6 марта 32
Сегодня утром приезжала к нам Ээва и сообщила, что третьего марта в Экси после немногих дней обострившейся боли в груди неожиданно скончался пробст Мазинг. Послезавтра тело должны перевезти из Экси в Тарту, и Ээва считает, что нам следует поехать и в Экси к выносу, и в Тарту на похороны.
Должен сказать, что Ээвино внимание к соблюдению так называемого этикета чем-то меня раздражает. Я хотел бы быть свободен от этого. В сущности, так оно и есть в той мере, что в мои решения никто не вмешивается. И в то же время у Ээвы, при ее чувствительности к тому, что принято, есть какая-то достойная зависти надменная независимость. Может быть, это проистекает оттого, что за эти годы она, в отличие от меня, в самом деле стала дворянкой…
Ладно. Я не стану спорить с Ээвой. Потому что старый Мазинг и для нее, и для меня несколько лет был не только учителем, но и просто приемным отцом.
Кстати, помимо известия о смерти Мазинга Ээва привезла еще одно. На рождестве Риетта Ламинг вышла замуж за помощника выннуского полицмейстера. Ну, значит, так суждено.
13 марта 1832 г.
Девятого рано утром мы приехали в Эксиский пасторат.
С удивлением мы с Ээвой увидели, что за те пятнадцать лет, что мы в этом доме не бывали, – а ведь мы прожили в нем когда-то больше трех лет, – все комнаты и вещи в них остались такими же, какими были, только, может быть, как-то уменьшились и поблекли.
Я шепотом сказал об этом Ээве, когда мы искали вдову пробста в битком набитых помещениях, чтобы выразить ей соболезнование. Ээва так же шепотом ответила мне:
– И с людьми происходит то же самое. Однако заметь, они становятся прежними, как только заговорят…
Мы нашли вдову пробста в зале, среди множества людей, пришедших выразить ей сочувствие, и я с интересом на нее смотрел. Она итальянка, некогда была гувернанткой детей пробста… О черт, я часто слышал, как об этом говорилось даже с презрением. Но я-то понимаю (а кому же еще лучше меня это понять!), как несправедливо и глупо пережевывать прежние отношения хозяина и служанки. Я сказал бы: эта женщина для старого Мазинга даже слишком хороша! Хотя бы уже тем, что на тридцать лет моложе его.
А теперь и ей уже сорок. Лицо у нее было сильно заплаканное, чего я не ожидал. Она пожала нам руку, шепотом произнесла какие-то вежливые фразы и исчезла, чтобы о чем-то распорядиться. Присутствовали все четыре дочери пробста от первого брака – три старые девы и госпожа Шульц со своим мужем-адвокатом. Дочки пробста, с которыми мы когда-то вместе учились, поздоровались с нами за руку, как с давно пропавшими, но все же не забытыми хорошо знакомыми людьми. И наш разговор про события в жизни каждого из нас, как бы тихо мы ни говорили, неизбежно становился оживленным, и посторонние люди, пришедшие на похороны, стали на нас оборачиваться. У одиннадцатилетней Розали – самой младшей дочери пробста, которую мы увидели впервые, было совсем заплаканное личико, она не слушала утешений и, спрятавшись за высоким фикусом, продолжала плакать.
В пасторате собралось неожиданно много народу. Были соседние помещики и почти все пасторы и кистеры северной Тартумаа, со своими женами. Из Тарту во главе с профессором Иеше прибыло несколько университетских профессоров, даже удивительно, что они не стали ждать, пока прах пробста Мазинга доставят в Тарту, а по зимней, бесснежной дороге в ледяных колдобинах приехали сами, чтобы засвидетельствовать свое почтение и присутствовать при выносе тела из дома. В Экси присутствовало и несколько более молодых тартусцев, какие-то чиновничьи души в хороших черных сюртуках, может быть из консистории, и кое-кто из воспитанников теологического факультета, если по их оборванному и дерзкому виду предположить их принадлежность к студенческому сословию. В сумрачных углах зала пугала серая одежда местных учителей и ктиторов.