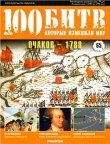Текст книги "Императорский безумец"
Автор книги: Яан Кросс
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 30 страниц)
– Как жаль, что он наш кузен! А то бы я сразу же в него влюбилась…
Через полчаса явился Юрик вместе с мантейфелевскими мальчишками. Я слышал, как в передней он сказал: «А теперь хорошенько вытрем ноги!» После чего они с минуту топтались на коврике. Он стремительно и деловито вошел вместе с братьями, вежливо со мной поздоровался и продолжал им рассказывать: о фрегатах «Память Азова» и «Мария», о морском пути через финские шхеры к Готланду и о шторме, в который они попали южнее Аландских островов… Мальчики слушали, вытаращив глаза. Я видел, что даже Макс, который всего на два года младше Юрика, по сравнению с ним совсем ребенок. За столом Юрик вел себя как хорошо воспитанный взрослый человек.
Он мгновенно поднял с полу оброненную Эммой салфетку. Клэр он сказал, что у нее необыкновенно красивые волосы, ее толщина не смутила Юрика и не заставила его прятать усмешку, как, я помню, это было с младшим Лилиенфельдом.
За обедом Ээва была душой общества. Она помогала Лийзо подавать кушанья и в то же время задавала Юрику всевозможные вопросы (за неделю успеешь разве обо всем расспросить!). Положил ли Юрик в сундучок чистое белье и три пары дома связанных шерстяных носков? И большое ли судно этот тендер «Лебедь», идущий в Черное море, на который назначен теперь Юрик? И будет ли принимать участие в военных действиях Абхазская экспедиция, куда посылают Юрика?
Обед был незамысловатый: суп с перловой крупой и рубленое мясо с черной горькой редькой. А под конец Ээва подала ею самой испеченный сливовый торт, как будто в семье был чей-то день рождения. Я заметил, что, когда Тимо положили кусок торта, он отрицательно покачал головой и закурил трубку. Лицо у него было серое, как табачный дым. Он молча сидел за столом и в ранних февральских сумерках, казалось, растворялся в клубящихся дымных облаках, только его почти ненатурально светлый взгляд скользил время от времени по сидящим за столом.
Потом все мы стояли у дверей залы и прощались с Юриком. На глазах у Ээвы были слезы (я впервые это видел), но ее прощальное объятие с сыном было скорее мимолетным. Хорошо помню, как прощался с сыном Тимо. Он повел Юрика впереди себя на крыльцо. Юрик повернулся к отцу и стоял перед ним под падающим снегом. Отец смерил его взглядом сверху и снизу вверх. Он сказал: «Na – geh. Und werde, wer du wirst!»[86]86
Ну, ступай! И будь тем, кем ты станешь (нем.).
[Закрыть] И так же, как меня, когда я пришел, похлопал его по плечу. И взгляд его был точно таким же: Да. Это так. Иначе и быть не может. И не станем этому удивляться…
Юрик прыгнул в сани, и они заскрипели по снегу. Мы двинулись за Тимо обратно в залу. Ээва вместе с Мантейфелями пошла в столовую. На какой-то момент я подумал: то ли это от обычной для Тимо скупости на слова, то ли все-таки в результате его возможного, внушающего страх безумия, но даже близкие ему и более или менее доброжелательные люди все же как-то его избегают. Он сел у камина и стал смотреть на огонь. Я опустился рядом с ним в старое кресло. Тимо схватил из пепельницы на каминном столике трубку, которую курил после обеда. Он пососал ее. На дне трубки еще тлел огонь, и она снова закурилась. Он вынул ее изо рта и медленно выпустил дым. Потом совершенно спокойно, не отрывая локтей от ручек кресла, однако так, что я испугался, бросил трубку в горящий камин. Я спросил:
– Что с тобой?
Он повернулся ко мне. Очевидно, он только сейчас меня заметил. Он сказал спокойно, но как-то слишком отчетливо:
– Ничего. Ни трубки, ни сына.
2 марта
Разумеется, я не стал рассказывать Ээве о последней реплике Тимо. Мне не хотелось ее огорчать. Она и без того была озабочена оброненной Юриком фразой: можно надеяться, что весной в Абхазии он получит боевое крещение… Однако вечером (после отъезда Юрика я остался ночевать в Выйсику и спал в своей бывшей комнате, которую для меня протопили) Ээва пришла ко мне и расспрашивала про Анну, про нашу дочь, про мою жизнь. И тогда, как бы между прочим, я коснулся отношений Юрика с отцом и матерью в этот его приезд. И тут Ээва вдруг все выложила. Я даже не думал, что она на это способна.
– Якоб, я не знаю, можешь ли ты даже представить себе, насколько я между ними, как между двух огней. Я их обоих понимаю. И Тимо, и Юрика. Понимаю, что каждый из них по-своему прав. И понимаю, что оба они одновременно не могут быть правы!
Я спросил:
– Послушай, я не понимаю, что ты имеешь в виду?
Я уже давно все понял, но мне хотелось, чтобы моя сестра высказалась прямо, без обиняков. И она тут же это сделала, я сказал бы, с удивительной для женщины ясностью:
– Я думаю об их совершенно расходящихся стремлениях к совершенству: идеалы железного гвоздя в теле империи – помнишь, о чем Тимо говорил в Пярну. И офицерские идеалы служения империи у Юрика… По мнению Тимо, иначе имя Боков выпадет из числа достойных имен. А по мнению Юрика, в противном случае имя это не вернется в число достойных… И мне приходится быть между ними. Видишь ли, будучи женой Тимо, я должна понимать и разделять его идеалы, а как мать Юрика – должна поддерживать идеалы сына…
Я спросил:
– А как думаешь ты сама?
– О боже… – Она сжала пальцами виски, как это бывает в моменты волнения. – Я сама… – Она встала со скрипнувшего плетеного кресла и начала ходить туда и обратно между дверью и синей кафельной печью. Я смотрел на нее – на ее все еще свежее, раскрасневшееся лицо, русые волосы, на ее темно-синее шерстяное платье и неизменную розовую камею – и думал: ей тридцать шесть лет, и хоть она и жила по сравнению с деревенскими женщинами как госпожа, но жизнь ее, наверно, была куда тяжелее, чем у любой из них, – а все же она и сейчас еще как тростинка, и если смотреть на нее глазами, помнящими ее девичье лицо, то можно понять дворянских кавалеров, находивших, что она ослепительно красива… И ничего нет удивительного в том, что она, как мне известно, вскружила голову своему дорогому деверю Карлу, единственному селадону из всех братьев Боков…
– Я сама… – повторила моя сестра, – я думала: если бы я могла уйти отсюда… куда-нибудь на свой клочок земли… чтобы деревенские не считали, что я живу чужим трудом… и Тимо тех светлых дней был бы со мною… и Юрик учился бы в Тартуском университете на доктора… И у меня была бы в хлеву своя корова, и я могла бы маме и тёмбиской тетушке каждый год давать деньги и дарить им теленка, никого при этом не спрашивая… Я думаю, что Анна и ты – вы просто счастливые люди…
Я воскликнул:
– Господи боже!., но зачем же ты тогда… – и не договорил до конца, потому что на половине фразы я понял, насколько наивен был мой вопрос. Однако Ээва мне ответила:
– Как будто ты не знаешь… Никогда в жизни они не доверят мне надзор за Тимо. Об этом нужно просить самого императора. Так что просить об этом нет смысла. А если уж мы вынуждены жить под надзором чужих людей, так пусть это будет по крайней мере дом Тимо, дом его детства, где ему дозволено жить… хотя и на положении узника…
И тогда я снова задал ей мой старый вопрос:
– Ээва, скажи мне, по-твоему, Тимо безумен?
Ээва остановилась передо мной. Она посмотрела на меня, но, думаю, то, что она увидела и старалась увидеть, было лицо Тимо, тысяча, десять тысяч лиц Тимо. Непроницаемых, мрачных, непонятных, насмешливых, по-детски открытых, которые Ээва тревожно и внимательно изучала годами…
Ээва сказала:
– Ты ведь знаешь, о многом он всю жизнь думал иначе, чем другие люди… Доктор Элькан говорил, что, когда его послали проверить болезнь Тимо, он спросил у него, сколько будет дважды два. Тимо ответил: «Для новорожденного – бесконечность, для умирающего – сколько пожелает, для императора – нуль». Доктор Элькан спросил: «Разве не четыре?» Тимо сказал: «Для господа бога, но об этом никто не спрашивает…» Так что – сам видишь… Нервы у него, конечно, расстроены сильнее, чем мы догадываемся. Но безумен… – Ээва покачала головой, – нет, он не безумен. – Тут она посмотрела мне прямо в глаза. – Но это, конечно, ты понимаешь – самообман и самоутешение несчастной жены бедного безумца…
6 апреля
Старый Кэспер приехал сегодня утром верхом в ужасную распутицу из Выйсику и привез мне записку от Ээвы. Ей необходимо по какому-то делу поехать в Тарту. Она просит, чтобы я завтра или в крайнем случае послезавтра приехал к ним и остался на четыре-пять дней или, может быть, даже на неделю. Побыть с Тимо. Чтобы у нее не болела душа. Тимо стал более нервным и беспокойным, чем все последнее время.
Я велел Кэсперу передать, что приеду. А когда я сказал об этом Анне, ей не захотелось на целую неделю оставаться дома одной с ребенком. Она возьмет с собой маленькую Ээву и поедет со мной. Пусть едет, И мне приятнее не быть там одному. Попрошу управляющего Валей дать мне лошадь и сани. На санках с высокими полозьями прекрасно можно доехать. Поскольку я пробуду там целую неделю, то возьму с собой и этот дневник. Там для него еще сохранился старый тайник.
13 апреля 1836 г.
Мой долг как только сумею точно описать все, что произошло.
Мы с Анной и ребенком приехали в Кивиялг девятого к обеду. Ээва предоставила нам комнаты, в которых я когда-то жил. Мы вместе пообедали. Тимо, по-моему, был не так уж мрачен, скорее даже менее напряжен, чем обычно. Утром в парке он упражнялся в стрельбе. Он сказал, что показания его барометра предсказывают сухое лето, но всевозможные местные флюиды мешают барометру. Я не понял, что он имеет в виду. Он пояснил:
– Мой дорогой зять уехал вчера часов в восемь утра в Адавере, и с каждой милей, на которую он удалялся, ртуть повышалась на полтора деления!
После обеда Ээва с Юханом уехали. Она сказала, что на поездку туда и обратно у нее действительно может уйти неделя или даже на день или два больше. Я спросил, зачем она едет в Тарту. Она сказала: к врачу. Когда я выносил ее чемодан к саням, я спросил, чем она больна. Она сказала: женские дела.
После обеда я взял у Тимо несколько книг. Его дверь была заперта, но еще за обедом мы условились, что я приду и постучу. Он заставил меня несколько минут ждать. Потом откликнулся: «Да! Одну минуту!»– и впустил в комнату. Стол его был пуст. Но гусиное перо около чернильницы очинено и в непросохших чернилах. Я подумал: ага, свояк свояка видит издалека. Мне хотелось посмеяться, но я подавил это желание.
Вечером наша маленькая Ээва на полу, на подстилке возилась со старыми оловянными солдатиками Юрика, которые большая Ээва перед отъездом дала ей поиграть. Анна вязала детский чулок, и мы говорили о том, что, когда моя сестра вернется из Тарту, мы попросим у нее перед отъездом мешок муки. Вечером я сыграл с Тимо партию в шахматы. Он, как обычно, дал мне фору ладью и, после того как головоломно провел пешку в ферзи, на шестидесятом ходу выиграл. Он был в очень хорошей форме.
Десятого утром шел густой мокрый снег, и Кэспер пожаловался мне, что дранка на крыше прогнила и пропускает воду, в передней промокла стена и от сырости отстали обои. После завтрака когда снегопад прекратился, Тимо отправился в парк стрелять, а я пошел к управляющему, чтобы тот прислал мастера починить крышу. В конторе у старого Тимма сидело несколько незнакомых мне десятников в ожидании распоряжений. При моем появлении они встали. Я спросил, где управляющий, но, прежде чем они мне ответили, явился Тимм – брюхо вперед, изогнутая трубка в небритой, как всегда, щетине. Я начал ему говорить о ремонте крыши и заметил, что человек, пришедший вместе с ним, кланяется мне квадратной головой с торчащими волосами. Тут я его узнал. Это был Ламинг. Он выглядел вполне прилично. Темно-синяя куртка из ватмана[87]87
Ватман – грубая шерстяная ткань.
[Закрыть] с крупными серыми в коричневых прожилках пуговицами. Издали похожая на какую-то морскую форму. В руке – шапка волчьего меха, на ногах юфтевые сапоги. Лицо по-прежнему угодливое, на губах ничего не говорящая улыбка, как и прежде, когда он входил в барский дом.
Я немного повременил, прежде чем ответить на его приветствие. Но не ответить было невозможно. Я же много лет сталкивался с ним. Я моложе. И у меня промелькнула мысль: если я не отвечу на его приветствие, завтра в Выйсику рабочие скажут, что помещичий недоносок Якоб совсем сдурел от важности. Я ответил Ламингу на приветствие. И когда я с ним поздоровался, мне показалось, что я даже могу ему что-нибудь сказать… о чем-нибудь спросить… И я действительно, не долго думая, спросил, что вполне могло оставить впечатление, как мне теперь кажется, некой суматошности.
– Ну… господин Ламинг, где же вы теперь находитесь? – (Мне не хотелось спрашивать, чем же он теперь занят…) – И что поделывает ваша Риетта? – (Именно то, что мне на самом деле хотелось узнать.)
Господин Ламинг ответил знакомым мне тихим, немного скрипучим голосом:
– Я живу в Риге, господин Якоб. А Риетта – в прошлом месяце она уже второй раз сделала меня дедом…
Я внутренне содрогнулся, подумав сперва, что этот деревенский дьявол с щетиной вместо волос связан не только с Бенкендорфом, но и с самим Сатаной, – ему все известно, и он насмехается надо мной: «Четыре с половиной года тому назад вы в первый раз сделали меня дедом, а Риетта теперь во второй…» Потом я понял, что он говорит о втором ребенке Риетты от брака с помощником полицмейстера. Я спросил только для того, чтобы преодолеть внутреннюю заминку:
– А что вас привело сейчас в Выйсику?
Ламинг объяснил неожиданно складно:
– …Ох, наследники моего давнего кредитора в Риге начали утверждать, что девять лет назад я будто бы не выплатил сто пятьдесят рублей долга их завещателю – зерноторговцу Хаке, он живет, если случайно знаете, возле Пороховой башни. Я знал, что у меня имеется его расписка, но не смог ее найти и тут вспомнил, что она осталась здесь в поместье среди бумаг. И теперь выяснилось, что эти бумаги у господина Мантейфеля, а господин Мантейфель на несколько дней уехал. Так что придется Тимму взять меня к себе, пока я дождусь приезда господина Мантейфеля…
Ну, это уж меня нисколько не интересовало. Я пробурчал:
– Передайте от меня привет Риетте, если случится… – и вышел.
День прошел без каких-либо существенных событий. В самом деле и сейчас, оглядываясь на случившееся, я думаю, что ничего особенного не происходило. Может быть, лишь одно.
После обеда мы сели с Тимо перед камином, закурили трубки, и я вдруг подумал: почему бы мне сейчас не проявить любопытство? Я спросил как бы невзначай:
– Ты тоже сидишь за письменным столом?
Я думал, может, мне удастся узнать, что он пишет. Не то ли странное сочинение, которое я прятал однажды у себя под полом, или что-то другое? Над какими вопросами он раздумывает и что намеревается делать со своим сочинением… если у него есть какие-нибудь намерения?
Он ответил:
– Сижу. До тех пор, пока они дают.
– Кто?
Я совершенно уверен в том, что ясно расслышал его ответ:
– Мои иквибы. И инквибы.
Потом он встал, мне показалось, как-то резко и, махнув мне рукой, вышел из залы. Мгновение я думал, что он хочет, чтобы я пошел за ним. Я подождал, послушал, может быть, он позовет. Он не позвал. Я докурил трубку и отправился к себе.
К ужину Тимо не вышел. Он еще раньше велел принести ужин к себе в комнату. К вечеру ветер усилился. Всю ночь шумели деревья в парке. Я несколько раз просыпался и слушал, как они шумят, когда Анна подходила к дивану, на котором спала маленькая Ээва, и укрывала ее, в чужом месте ребенок спал беспокойно.
Одиннадцатого утром разразилась весенняя буря. Завтракать Тимо не пришел. Но когда мы уже встали из-за стола, я встретил его в коридоре. Было около половины десятого. Он вышел из своей комнаты, ящик с пистолетами висел у него в руке, и запер дверь на ключ. Я сказал:
– Доброе утро. Ты надеешься попасть в цель даже при таком ветре?
Он ответил:
– Я постараюсь, я постараюсь. Представь себе, Петер еще не вернулся, а барометр упал на шесть делений! Я не могу понять почему!
Я спросил:
– Как ты стреляешь? Все так же, как и раньше, по шишкам?
Он ответил уже у входной двери:
– Все так же. Только теперь за пятьдесят шагов.
Я вернулся в нашу комнату. Мы говорили с Анной о повседневных делах. Мимоходом я называл Ээве буквы алфавита. Время от времени было слышно, как в доски на крыше вбивали гвозди – грох-грох-грох, – сегодня прислали мастера. Время от времени вместе с шумом деревьев и порывами ветра доносились из парка пистолетные выстрелы. Тимо стрелял в среднем через каждые три минуты, но я сказал уже, что из-за ветра всех выстрелов не было слышно. И я не заметил, когда стрельба прекратилась.
Около половины двенадцатого раздался стук в дверь, Лийзо просунула голову и сказала:
– Господин Якоб… я не знаю… господин Тимо недавно вернулся и велел подать ему завтрак в комнату. А теперь он не открывает…
Я сказал:
– Ну, постучи ему через четверть часа снова.
И я могу, работая или размышляя, забыть о том, что только что просил завтрак… И когда мне его приносят, могу сделать вид, что не слышу… Лийзо сказала:
– Хорошо… Только… я слышала, будто…
– Что?
– …Я не знаю… Будто выстрел, когда шла из кухни…
Я пошел к дверям Тимо. Я стучал, гремел ручкой, звал. Никто не отвечал. А ключ торчал изнутри. Лийзо пришла вслед за мной с подносом. Я велел ей ждать перед дверью и стучать, а сам побежал в кухню и позвал из людской старого Кэспера, чтобы он пошел и помог Лийзо открыть дверь… или не знаю зачем… Потом выскочил на двор и, обежав дом, повернул к заднему его углу со стороны парка. Полоса прошлогодней травы между стеной и шиповником обнажилась. Серые былинки позванивали на ветру. Когда я подходил к окну Тимо, у меня возникло впечатление, что я не то вижу, не то угадываю на прошлогодней траве два или три следа сапог и снова выпрямившиеся примятые стебельки высохшей травы – что-то увиденное когда-то во сне или наяву…
Я схватился за карниз, подтянулся, стал на выступ стены и заглянул в окно. Тимо лежал на полу. Он лежал на левом боку, и его голову заслонял стул.
Я помчался обратно в дом. Я крикнул Кэсперу:
– Беги к управляющему! Приведи кузнеца Михкеля!
Михкель мог явиться только минут через десять, Я велел Лийзо больше не стучать. Пришла Анна спросить, что случилось. Я рассказал ей о том, что увидел в окно. В это время пришел Михкель со своим молотобойцем, и спустя несколько минут они отмычкой открыли замок. Я запретил им входить. Мы вошли с Анной и Кэспером.
Тимо был мертв. Возле головы на ковре совсем небольшая, может быть с ладонь, лужица крови. На лбу, у носа и вокруг правого глаза полно дроби. Анна закричала: «Господи боже!» и отошла по другую сторону письменного стола. На столе стоял открытый пистолетный ящик, в нем было три пистолета. Четвертый «кухенрейтер» лежал возле Тимо на ковре. Я поднял пистолет и посмотрел: он был пуст. Я положил его обратно на ковер. Один ящик в столе был выдвинут. На дне его лежали в беспорядке несколько десятков самодельных патронов с пулями и дробью. Кэспер хотел переложить своего хозяина на диван. Я запретил ему прикасаться. Я еще раз наклонился к Тимо. Анна спросила через стол:
– Что ты нашел?
Я сказал:
– Ничего.
Мы вышли из комнаты, и я запер дверь на замок. Помню, как Анна спросила:
– Господи помилуй! Как же это случилось с ним?! Нечаянно… или намеренно?!
Я пошел к управляющему Тимму и сказал ему, что сейчас он представляет в поместье полицию и должен принять необходимые меры. Тимм ответил, что он в это дело свой нос совать не будет. Я сказал, что в таком случае я оставлю ключ от комнаты господина Бока у себя. Он сказал: «Да оставляйте, ради бога!» Тем не менее тут же приказал седлать лошадь и отправил в Пыльтсамаа гонца с запиской, в ней каракулями были нацарапаны три строчки, чтобы приехали на место происшествия приходский судья и врач. Самое скорое они будут здесь после обеда.
Я вернулся в Кивиялг и сказал Анне, что вызваны судья и врач, но при ребенке мы не могли свободно говорить о случившемся. Я сказал, что выйду ненадолго в парк. Анна пошла за мной и в коридоре шепотом спросила, что я думаю о смерти Тимо. Я сказал, что сейчас я ничего не думаю, а если в дальнейшем начну что-либо думать, то это не имеет никакого значения. Или что-то в этом роде.
Я вышел в парк. Голова у меня гудела от всевозможных вопросов. Шум качающихся на штормовом ветру деревьев мешал мне думать. Я обнаружил растаявшие утренние следы Тимо и пошел по ним к площадке, где он стрелял. Помимо вытоптанного снега я увидел здесь несколько обгоревших полосок бумаги от патронов, они намокли и прилипли к снегу, поэтому ветер их не унес. Явно, стоя здесь, Тимо чистил оружие и снова его заряжал.
В пятидесяти шагах дальше, между стволами лежала пробуравленная планка, которой он и раньше пользовался как мишенью. Еловых шишек в отверстиях не было. Однако в снегу и прошлогодней траве я нашел шелуху от расстрелянных шишек и пять шишек со свежими следами пуль. На планке следов дроби не было.
Я вернулся в дом, и вопрос, почему в голове у Тимо дробь, если он стрелял пулями, стал еще более неотступным, чем раньше.
За обедом у нас не было возможности молчать о случившемся, потому что Кэсперу и Лийзо, что вполне естественно, хотелось об этом говорить. Лийзо, правда, когда принесла из кухни миску с супом и поставила ее на сервировочный столик, особенно не разговаривала, она только все время шмыгала носом. Но Кэспер, подавая нам щи и соленую баранину, то и дело порывался сказать:
– …Господин Тимо был десятилетним мальчиком… десятилетним мальчиком, когда старый господин Георг взял меня к себе камердинером… а теперь вот… Господи помилуй… такое дело… – Слезы капали у него с бороды в наши тарелки. И мне пришлось сказать маленькой Ээве:
– Ээва, ты ведь еще не знаешь, что сегодня утром умер дядя Тимо…
– Почему? – спросила Ээва, не проявляя особого удивления, как дети обычно воспринимают подобные сообщения.
Я сказал:
– Случайно, заряжая пистолет.
Да. Первым это сказал я.
14 апреля, под утро
Я взглянул на часы и увидел, что завтра уже наступило.
Одиннадцатого около шести часов прибыл приходский судья Крюденер со своим писарем и доктором Норденом, вместе с ним пришли господин Мантейфель и Эльси. Господин Мантейфель возвращался из Адавере и в Пыльтсамаа услышал о случившемся. По существу судья и врач, не говоря о писаре и Эльси, фактически только при сем присутствовали. Ибо всем последующим единогласно дирижировал господин Мантейфель. Хотя все, быть может, и без этого протекало бы точно так же.
В нескольких словах я рассказал им, как все произошло, и отпер дверь в комнату Тимо.
Еще не переступив порога, в окружении Кэспера, Лийзо и чиновников, господин Мантейфель сказал во всеуслышание:
– Крайне прискорбно, что произошло такое несчастье! При всех его тихих странностях он был весьма симпатичный человек…
Мы вошли в комнату. Мгновение мы молча стояли вокруг покойного. Эльси разрыдалась, и господин Мантейфель велел Кэсперу увести госпожу. Кэспер пошел сопровождать Эльси, но, очевидно, с полдороги она отправила своего провожатого обратно, потому что через несколько минут он опять появился. После беглого осмотра доктор велел положить Тимо тут же на диван. Мы с Кэспером переложили его. Доктор осматривал труп, а судья Крюденер – пистолеты. Все три пистолета в ящике тоже оказались незаряженными. Писарь сел за стол Тимо и принялся протоколировать. Обсуждение вели господин Мантейфель, судья и врач, а господин Мантейфель диктовал писарю, что записывать. При этом за некоторыми уточнениями он обращался к домочадцам.
Только в одном пункте между господином Мантейфелем и судьей возник спор. Господин Мантейфель сказал:
– О самоубийстве не может быть и речи! – Не знаю, почему он считал это столь неопровержимым. Он сказал: – Тот, кто знал полковника, не может в этом сомневаться.
По правде говоря, и я в этом уверен (насколько вообще в таких случаях можно быть уверенным). Однако я не верю, что господин Мантейфель вообще знал своего шурина. Да и я так уж хорошо его не знал. Но все же можно сказать, что даже по сравнению со мною он знал его гораздо хуже.
Судья сказал:
– Мы все же не можем считать полностью исключенной возможность самоубийства.
Господин Мантейфель спросил:
– Якоб, а вы считаете, что можно допустить самоубийство?
– Думаю, что вопрос не в допустимости, – ответил я, – а в правдоподобии. По-моему, самоубийство фактически допустимо, но оно неправдоподобно.
При этих словах господин Мантейфель и судья одновременно обратились друг к другу: «Ну, видите!», и от извечных человеческих споров и разногласий мне, несмотря на трагичность положения, захотелось только усмехнуться. Протокол был написан, как уже сказано, под диктовку господина Мантейфеля, однако со следующим дополнением судьи:
Проживавший в поместье Выйсику Вильяндиского уезда Лифляндской губернии и долгие годы страдавший помрачением рассудка дворянин, полковник в отставке, Тимофей фон Бок скончался 11 апреля 1836 года между десятью и одиннадцатью часами утра от выстрелившего в его руке пистолета, причем за отсутствием свидетелей невозможно с абсолютной уверенностью сказать, был ли то несчастный случай или самоубийство, хотя последнее, учитывая склад ума полковника, абсолютно неправдоподобно…
Доктор Норден, явно великий знаток охоты, установил, что дробь, проникшая в мозг через глаз или, возможно, сквозь черепную коробку и послужившая причиной смерти господина Бока, калибра № 3 или № 4, однако госларская она или магдебургская, это он сказать затрудняется. Выстрел был произведен несомненно с весьма близкого расстояния, и рана, не считая нескольких рассеявшихся дробинок, по существу только одна.
Тут совсем молоденький писарь в овальных очках (не знаю его фамилии) раскрыл рот с крохотными пушистыми усиками и спросил:
– Но, господа, если господин Бок вернулся после стрельбы по цели и, очевидно, собирался снова идти стрелять в цель, зачем же ему было заряжать свой пистолет дробью?
Господин Мантейфель сказал:
– Прикажете считать, молодой человек, что у вас воробьиная память?! Вы же пять минут назад собственной рукой писали: «долгие годы страдавший помрачением рассудка отставной полковник фон Бок»! Писали ведь? Так?!
Писарь покраснел до самых ушей и испуганно закивал. Судья спросил:
– А как же мы объясним то, что в распоряжении господина Бока находились пистолеты?
Господин Мантейфель сказал писарю:
– Занесите в протокол: господин Бок неведомыми путями получил пистолеты, пользуясь отлучками своей супруги, которая их всегда от него тщательно прятала.
Писарь записал. У меня не было никакого желания сказать им, что никто от Тимо пистолетов не прятал, что это чистая ложь. Никогда Ээва этого не делала. Если бы у нее возникли основания считать, что для Тимо держать в руках пистолеты опасно, она не стала бы их «всегда от него тщательно прятать», она бы их просто выбросила, подарила, уничтожила, чтобы в доме их не было.
Затем судья велел выдвинуть ящики письменного стола Тимо (они были заперты на ключ) и те ящики, в которых лежали бумаги, опрокинуть в подставленный писарем серый мешок. За это время Лийзо, по распоряжению господина Мантейфеля, внесла свечи. Судья растопил над свечой сургуч и запечатал мешок. Мне думается, что в мешок попали только случайные бумаги и ни одной рукописи. Та, что шесть лет назад хранилась в шкатулке у меня под полом, туда наверняка не попала. Интерес судьи к бумагам этим и ограничился. Во всяком случае это произошло совсем иначе, чем руководимый Паулуччи обыск восемнадцать лет назад. Но тогда, разумеется, все совершалось по личному указанию императора. И, кроме того, касалось живого врага…
Господа посовещались, и покойника решили положить в старый ледник за господским домом и ждать ответов на соответствующие донесения, которые следовало отправить в Вильянди, Ригу и Петербург. Чтобы перенести тело, внесли из передней длинный стол, с которого сняли и составили на пол горшки с цветами. Его держали Кэспер и два ночных сторожа. Недоставало еще одного человека, и я взялся за четвертый угол.
Я думал: почетный караул у гроба моего зятя никто нести не будет. Даже ктиторы, как это было у гроба старого Мазинга. Ээва, конечно. Ээва была бы готова лечь вместе с ним в могилу. Юрик без рассуждений встал бы в почетный караул в белых перчатках, видя в этом необходимость выполнить срой долг. Георг стоял бы просто из упрямства, если бы он был здесь. Эльси, разумеется, тоже и даже в слезах. Но они не в счет. Из неродных стоял бы только Кэспер, и слезы текли бы у него в бороду. Из крестьян – вряд ли кто-нибудь. Нет-нет, особенно после давней острастки Латроба. Может быть, только один нэресаареский Тийт, тот, которому Тимо нечаянно выколол глаз… Я думал: так пусть же то, что помогаю нести его, будет моим участием в почетном карауле у его праха – в признательность, не знаю уж за что, за его роль Мефистофеля или, наоборот, благую – в том, что я стал человеком, – в той мере, в какой я им стал…
Господа остались в комнате дописывать протокол. Мы пронесли Тимо по коридору через столовую и залу. Из столовой Лийзо побежала в людскую и, когда мы уже выходили из залы в переднюю, вернулась с подушкой. Всхлипывая, она окликнула нас: «Погодите…» Мы опустили стол, Лийзо приподняла голову Тимо и стала подсовывать ему под затылок подушку. Я сказал: «Лийзо, наволочка ведь пропитается кровью…» Из-под выбившейся пепельной пряди она укоризненно посмотрела мне в лицо сухими, без слез глазами и бережно опустила на подушку голову своего хозяина. И в леднике у нас ушло много времени. Мы забыли взять с собой свечи. Только после того как их принесли, мы смогли войти внутрь и освободить место для покойного. Когда мы справились, Кэспер стал на колени в ногах у Тимо между пустыми бочками и долго-долго молча молился. Я не решался уйти и стоял рядом. Когда мы впятером вышли из погреба, оказалось, что кто-то успел набросать на снег перед дверью еловые ветки.
Вместе с Лийзо и Кэспером я вернулся в Кивиялг. Господин Мантейфель и чиновники за это время уже покончили с протоколом и официальными обязанностями и удалились, кабинет Тимо был на замке. Анна видела, как они уходили и как господин Мантейфель запер дверь кабинета Тимо своим ключом. Это меня не удивило. Я же знал, что у него есть ключ от этой комнаты. Но ключ – собственный ключ Тимо, – торчавший изнутри и поднятый мною с полу, когда дверь была отперта, лежал сейчас у меня в кармане. Господин Мантейфель, покидая комнату с чувством полновластного хозяина, запер дверь своим ключом, но он, по-видимому, забыл, что у меня имеется второй. А возможно, что и помнил, но не счел нужным придать этому значение.
Во всяком случае этот ключ до утра жег мне карман. Ночью я не стал ничего делать, потому что, двигаясь по дому со свечой, можно привлечь внимание. Утром, часов в шесть, когда было уже достаточно светло, не разбудив Анну и Ээву, я оделся и пошел в кабинет Тимо, отпер дверь и запер ее изнутри.