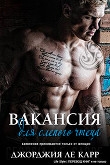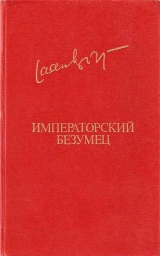
Текст книги "Императорский безумец"
Автор книги: Яан Кросс
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 30 страниц)
И, в-третьих, наверно, еще и потому, что он был расположен к Маленькому Випперу. Расположен прежде всего потому, что он, Костыль, требовал в классных работах по гигиене, как он буквально говорил: «Не болтовни, а фактов, не вообще стиля, а телеграфного», а это у Маленького Виппера получалось превосходно.
Директор Лепнер был вынужден созвать чрезвычайное заседание педагогического совета. На нем доктор Куусклайд рассказал про Маленького Виппера и потребовал объяснений. Не от всего совета, что означало бы и от директора Лепнера. Такой шаг Костылю с его крестьянской смекалкой был бы явно ни к чему. Но от monsieur Ледуте – потребовал. Тем более что он просмотрел наш классный журнал и, уж не знаю, может быть, все оценочные ведомости и утверждал (причем monsieur Ледуте не опровергал): за второе полугодие Маленький Виппер получил восемь отметок – четыре тройки и четыре четверки. Это ясно свидетельствовало, что в выборе окончательной оценки monsieur Ледуте, как сказал Костыль, в статистическом отношении был свободен. Monsieur Ледуте сделал выбор с учетом других соображений, и общее название этих соображений – это тоже сказал Костыль – можно назвать субъективной антипатией. Однако если педагог свою антипатию к ученику проявляет таким образом, что заставляет хорошего юношу сунуть голову в петлю, то это либо преступление, либо глубокое педагогическое невежество. В лучшем случае. Что касается monsieur Ледуте, то это именно невежество. Причина которого кроется в том, что monsieur Ледуте в силу своего характера, незаинтересованности и незнания языка лишен возможности глубже вникать в индивидуальность своих учеников, понять, чего они добиваются, что каждый из них собою представляет, какова гимназия Гранберга или какой она должна быть и вообще что за страна Эстония, где monsieur Ледуте семь лет рисовался и изображал из себя галльского петуха[115]115
Выражение «галльский петух» вошло в литературную речь как аллегория Франции.
[Закрыть].
Почему, в сущности, доктор Куусклайд в достаточно неожиданном для нашего педагогического совета тоне атаковал monsieur Ледуте, осталось не совсем понятным. Может быть, он испытывал потребность олицетворить доброе имя гимназии, на которое она претендовала. А может быть, более существенным был другой импульс, в какой мере это соответствует истине, я сказать не могу, но, мне кажется, я не сам его придумал, а в свое время от кого-то слышал: доктор Куусклайд задолго до истории с Маленьким Виппером бывал в качестве врача у его родителей, где хозяйка дома, как известно, нередко оставалась одна, и он, как бы незаметно для себя, глубже, чем положено домашнему доктору, стал заглядывать в ее темные, испуганные глаза.
Так или иначе, но при всей симпатии, которую я всегда испытывал к Костылю, пришлось признать: для того чтобы объявить правду monsieur Ледуте, особенного геройства от Костыля не потребовалось. От него потребовалось лишь в какой-то мере внутренне преодолеть общепринятые нормы поведения. Тем более что правда сама по себе остальным членам совета, включая и директора Лепнера, так сказать, только одной стороной шла против ворса, а другой – наоборот. И я не мог удержаться и не задать самому себе вопроса: произойди вся эта история не в Таллине, не у Гранберга, а в бантумском колледже в Либревиле – интересно, как бы доктор Костыль вел себя там? Хватило ли бы у него мужества выступить с «галльским петухом»? Там, где у monsieur Ледуте на плечах были бы еще видны следы майорских эполет, где monsieur Ледуте был бы не залетной птицей, если воспользоваться языком орнитологии, а по крайней мере сам считал бы себя хозяином, и, может быть, даже таким, который в клубе колониальной армии, попивая коньяк со своими приятелями – офицерами в отставке, про всю эту черную дрянь говорит… ну уж не знаю что… И я понял, что там Костыль вел бы себя иначе. Там этот мужлан восточно-балтийской породы с сердитыми серыми глазами был бы, увы, таким же барином, как и monsieur Ледуте здесь. Или почти таким же. Однако попытка представить себе Куусклайда тонкокостным, лиловато-черным бантуским доктором с голубыми белками глаз столь усложнила мою реконструкцию, что я махнул рукой и остался доволен нашим Костылем.
Директор Лепнер, однако, доволен не был. После «галльского петуха» он лишил его слова. Но результат от выступления Костыля все-таки был капитальный. Monsieur Ледуте слушал Костыля с улыбкой на неподвижном лице, подперев одним пальцем синеватый подбородок и склонив голову к шепчущим губам мадемуазель Нийнемяэ, произносившим необходимый monsieur перевод. Не знаю, насколько точно она умела, успевала или желала это делать. Когда Костыль дошел до «галльского петуха» и директор не дал ему дальше говорить («Доктор Куусклайд, вы сказали больше чем нужно! Заканчивайте, пожалуйста!» – «Да-да, я уже кончил»), – и тут monsieur Ледуте расхохотался, встал и сквозь смех воскликнул:
«Ho-ho-ho-ho! Quel gênie d'eloquence dans ce pays que je connais si mal…»[116]116
О-го-го! Какой гений красноречия в этой стране, которую я так плохо знаю… (франц.)
[Закрыть]
Он помахал коллегам обеими, вытянутыми к потолку руками: «Adieu, mesdames et messieurs!»[117]117
Позвольте откланяться, дамы и господа! (франц.)
[Закрыть] – и покинул педагогический совет.
Говорили, что он позволил выплатить ему жалованье за все три месяца каникул, а осенью сообщил, что у Гранберга больше преподавать не намерен. И, правда, там он больше не появлялся. Во французском лицее он проработал еще первое полугодие, но на рождество ушел и оттуда. Осенью я жил в Тарту, и эти беглые сведения получал от мальчиков, когда приезжал в Таллин. Время от времени monsieur Ледуте видели в кафе «Корсо» в обществе совсем молоденьких девушек или пожилых дам. Что касается Маленького Виппера, то о нем было известно, что он сдал вступительные экзамены в электротехнический, но пошел на срочную службу в армию, чтобы скорее избавиться от этой неприятной обязанности. Однажды в феврале следующего года, когда я опять приехал в Таллин и вечером около шести часов шел по мягкому снегу улицы Монахинь, направляясь из Каламая в центр, навстречу мне попались сразу наши три «француза».
– Ого, более удачной встречи не бывает даже у Эркюля Пуаро. Идем с нами!
– Куда?
– На вокзал. Уезжает Ледуте. Мы идем провожать.
– Почему его нужно провожать? Куда он едет?
– Известно куда. В Париж.
– Ну и пусть едет.
– Он уезжает из Эстонии. Насовсем. Понимаешь?
– Ах так…
Не могу сказать, в какой момент мое намерение обрело законченную форму, сколь четкими были его очертания, когда оно возникло, но с мальчиками я пошел.
Мы сразу же нашли monsieur Ледуте. Он стоял в толпе перед спальным вагоном Рижского поезда. На нем была черная велюровая шляпа – ничего другого он и зимой никогда не носил – и черное демисезонное пальто с бархатным воротником – и более теплого пальто он тоже никогда зимой не надевал. Мы подошли к нему, приподняли шапки, он нас узнал. Потом в некотором замешательстве мы остановились – поняли, что он не один. В толпе рядом с ним стояла белокурая дама, и он с ней прощался. У дамы было основательно накрашенное и основательно заплаканное лицо. Даже при тусклых фонарях на перроне это было хорошо видно. Monsieur Ледуте махнул нам кожаной перчаткой, поцеловал покрытые темным лаком ногти своей дамы и направился вместе с ней в здание вокзала. Через минуту он вернулся. Один. По его лицу было видно, что наш приход оказался кстати. До отхода поезда оставалось семь минут. Monsieur Ледуте вскользь спросил, чем мы теперь занимаемся и где учимся. Но прежде чем мы успели ответить, он сказал, что едет в Париж только на несколько дней и сразу же отправится дальше, в Аяччо, и на весеннем солнце у Средиземного моря прогреет кости после здешних варварских морозов. И тут я спросил:
– Monsieur Ледуте, вы познакомили нас с жизнью многих великих французов – Дюма, Мопассана, Рембо. Свобода слова – изобретение французов, свобода задавать вопросы, следовательно, тоже: скажите откровенно, почему вы издевались над Маленьким Виппером?
– О, Vipère le venimeux qui m'a piqué comme son nom le prédit![118]118
О, ядовитый Випер, который ужалил меня, как его фамилия и предвещала (франц.).
[Закрыть] – Monsieur Ледуте странно вспыхнул. – Да, я скажу вам почему! Потому что он глуп-глуп-глуп! Потому что он думал, как и многие здесь, может быть, все, может быть, и вы тоже, что для совершенства не требуется ничего иного, кроме труда! Это самоутешение посредственности! Нет! Не только труд, не только неутомимость. Они вторичны. Главное… Позвольте, через десять секунд отходит поезд… – он вскочил на подножку. – Messieurs – adieu! Если кто-нибудь из вас когда-нибудь приедет в Париж, мой адрес: Rue de la Fontaine, Versailles…
Вагон тронулся. Мы пошли рядом по заснеженному перрону. Я спросил:
– Так что же главное?
– Уверенность в превосходстве! – крикнул monsieur Ледуте из тамбура уже удалявшегося скорого поезда.
Я никогда с ним больше не встречался. Как и с Маленьким Виппером. Все, что я могу добавить про каждого из них, основано на слухах.
Маленький Виппер прошел военную службу. Как юношу со средним образованием и, кроме того, с математической головой его направили в аспирантский класс военного училища. Он окончил его прапорщиком весной 1939. В июньские дни Виппер был студентом второго курса Технического университета. Во время мобилизации в Красную Армию он в очередной раз лежал с септической ангиной. Во время оккупации продолжал учиться в Копли и дошел до четвертого курса. Его намеревались оставить при электротехническом факультете. Родители Маленького Виппера за это время разошлись. Не знаю, что стало с отцом. Мать его умерла в 1942 году. Сам он жил все в том же недостроенном доме, на улице Куслапуу, в мансарде, куда я однажды приходил. Внизу обитали посторонние люди. Осенью 1943 года Маленький Виппер как офицер запаса был вызван, чтобы выполнить свой долг перед отечеством. Он пошел, куда было приказано, и на основании документов получил назначение. Ему выдали мундир, и он принес его в чемодане домой. Соседи считали, что это был мундир лейтенанта какой-то военно-полицейской части. На следующее утро Маленький Виппер должен был отправиться на войну. В полдень жильцы обнаружили мундир аккуратно висящим на плечиках снаружи платяного шкафа, а самого Маленького Виппера в одном белье на крюке в соседней каморке без окон, дверь которой они открыли в поисках хозяина.
Возможно, подумал я, даже наверно, нет, наверняка он висел на том самом крюке, с которого сняла его мать за шесть лет до того. И время от времени я спрашиваю себя: когда он второй раз стоял под тем же крюком и привязывал к нему петлю, слушал воющий вокруг мансарды морской ветер и знал, что больше не войдет в комнату, где висит его мундир, который он не наденет, сказал ли он себе: сейчас у меня достаточная причина. И был ли он прав? Или – не прав? Да и кто, кроме него, мог это решить?
Десятилетия я ничего не знал про monsieur Ледуте. Пока не услышал от наших мальчиков, которые во время войны оказались за океаном: в 1945 или 1946 году где-то, наверно, в Южной Франции (только бог его знает, может быть, и где-нибудь в Африке, возможно, в Габоне), французским трибуналом monsieur Ледуте был приговорен к смертной казни. Осужден на смерть и расстрелян. Как коллаборационист.
В первый момент я был поражен. Потом мне это стало казаться возможным, вероятным, что этого следовало ожидать. А теперь мне кажется, что это было почти неизбежно.
Об исторической прозе Яана Кросса
Кросса спросили, и не без скрытой полемики:
– О героях ваших исторических произведений неоднократно писали как о людях нравственного компромисса…
Он ответил с улыбкой:
– Эта формула… слишком идеальна.
Вы слышите? «Слишком идеальна»! Кросс даже и в спор не вступает, он вопрос отводит, и делает это с безукоризненной дипломатичностью: «Ваш подход… не то чтобы разделялся мною, но я… имел его в виду, помнил и о такой интерпретации…»
Диалог, когда слова звучат одинаково, но смыслы не сходятся. Подходы разные!
Так подходы и есть главное…
Я ведь могу понять русского критика, который пришел к автору «Имматрикуляции Михельсона» именно с вопросом о «компромиссе» и «бескомпромиссности». Это ж незаживающая душевная рана наша, пункт отчаяния наших моралистов, предмет наших нескончаемых каяний: вера в некий остаток, чистый, не размененный в жизненных торгах, хранимый в тайниках души, благодаря чему все остальное можно считать, так сказать, уступкой и отступлением, нарушением и грехом, допущением и временностью – «компромиссом». Мы просто представить себе не можем, как прожить вне этого ощущения – не «против», а именно «вне». И что сам наш подход может оказаться для кого-то странным, внешним, не более чем рационально «учтенным». И для кого! Для Яана Кросса, которого русская критика уже десять лет увлеченно интерпретирует именно через проблему «компромисса». А он? Он об этой интерпретации знает. Он ее учитывает. Как одну из возможных. И оказывается, она никаким краем не касается внутренних законов его художественного мира. Можно уловить оттенок тонкого сарказма в безукоризненной выдержке его ответа. Компромисс? О, это было бы слишком хорошо, просто идеально…
Тут есть отчего прийти в замешательство, не правда ли? Или, говоря спокойнее, тут есть над чем поразмыслить. Актуальность этой проблемы для современной литературы самоочевидна. Писательский авторитет Кросса, признанный читателями и критиками, и не только в Эстонии, а, молено сказать, во всех концах страны, объясняется именно тем, что в его книгах речь идет об одном из центральных вопросов нравственной ориентации современного человека. А подходы… вот о них и поговорим. Некоторый же драматургический «дисконтакт» в диалоге Кросса с критиком я акцентирую намеренно. Тут отношения достаточно сложные – при всей корректности формулировок и при всей обоюдной заинтересованности сторон. И с читателем у Кросса тоже сложные отношения. Кросс – автор нелегкий.
Разумеется, я говорю прежде всего о русском читателе. С полным сознанием того, что для читателей эстонских и для читателей русских Кросс – не одно и то же. Давайте с этой ниточки и начнем разматывать клубок.
Для эстонцев Кросс – традиционный повествователь. Эпический романист, поднимающий мощные пласты исторической реальности. И как эпический повествователь, по крупицам собирающий и выстраивающий обширный художественный мир, он противостоит в сознании критики жесткой и экономной строгости других эстонских прозаиков. Скажем, Куусбергу. Кросс для эстонцев – археолог и летописец, реконструирующий исторические эпохи и восстанавливающий в национальной памяти образы выдающихся сынов эстонского народа. Он прежде всего – автор огромного, четырехтомного, близкого по типу национальной эпопее романа «Три чумы»[119]119
Я называю роман по оригиналу, потому что русский вариант названия: «Между тремя поветриями» – смущает меня какой-то воздушной, «не кроссовской» расплывчатостью.
[Закрыть].
Для нас, русских, Кросс – отнюдь не традиционный повествователь. Он вообще не повествователь, он жесткий и парадоксальный аналитик, моделирующий реальность в художественно «суверенных» конструкциях. В нашей критике он вовсе не противостоит ни Куусбергу, ни кому-либо еще из нынешних эстонских прозаиков. Напротив, он – ярчайший выразитель общего стиля сегодняшней эстонской прозы, с ее проблемной четкостью, напоминающей лабораторный опыт, с ее конструктивной открытостью, которую, употребляя термин, занесенный из архитектуры, иногда называют «честностью материала». Материал здесь – не средство что-то изобразить, материал – сам по себе откровение. Художественные конструкции Кросса воспринимаются при этом не как частицы жизненного потока, а как модели жизненной логики. Кросс для нас прежде всего автор коротких повестей, блистательных, жестких, весьма далеких от повествовательной традиционности. Мы от Кросса и не ждем повествований. А то, что у него не схватывается жесткой и экономной моделировкой, все, что оседает «традиционной описательностью», как раз и кажется досадной слабостью, вялостью, старомодным многословием. «Архивные данные о полузабытых деятелях прошлого», оживляющие в глазах эстонской критики эту описательную ткань, нам жизни не облегчают: иной раз читаешь и думаешь, что Кроссу просто нет дела до наших читательских трудностей.
Ну, вот пример. В «Императорском безумце» действуют: Ламинг, Латроб, Лерберг и Липхарт. Потом появляются парой: Лилиенфельд и Лорингсгофен. Шекспир в таких случаях хоть с разных букв именовал своих героев. А тут – попробуйте-ка читательски освоить эти номены! Будете путаться и ворчать на автора, который, виртуозно владея писательской техникой, не считает нужным хоть как-то поступиться «архивной точностью» и облегчить читателю жизнь.
Ниже я вернусь к этой «архивной точности»; в принципе это замечательная черта Кросса; но сейчас речь идет о внешней, так сказать, доступности его текстов: он о ней действительно мало заботится. В его огромном романе действие крутится спиралью, в концах глав оно раскаляется до расплавленности, так что, обжигаясь, глотаешь в нетерпении страницу за страницей, но по началам глав текст цепенеет в ледяной медлительности экспозиций, и их проходишь на одном упорстве. И так же, толчками, идет действие коротких повестей; от одного мыслительного всплеска до другого – через разветвленное, тяжеловесное, рационально-многосложное прописывание «всех условий опыта». Многоярусная и многоотсечная, полная логических отступлений и уточнений фраза Кросса (переводчица Ольга Самма немало потрудилась, укладывая эти тяжелые петли в нетерпеливые ритмы русской речи)[120]120
Не мне об этом судить, но критики, сопоставлявшие перевод с оригиналом, считают работу Ольги Самма замечательной.
[Закрыть], фраза эта – не легкое чтение. Кросс забирает и мучает, но его невозможно «почитывать», его вообще нельзя читать бегло, он требует работы. Мне кажется, что читателей у него (я все время говорю о русском восприятии) меньше, чем он того достоин. Тем более знаменательно, что, несмотря на тугоплавкость текстов, Кросса на Руси читают. Значит, задел!
Историческая тематика здесь, я думаю, тоже мало помогает, хотя с выходом большого романа о ливонском хронисте мы прочно причисляем Кросса к разряду исторических писателей. А они сейчас, как известно, ходят в любимцах публики: стараниями Давыдова и Эйдельмана, Балашова и Гордина, Гумилева и Чивилихина читатель наш доведен до такой степени заинтересованности, что репутация исторического романиста, кажется, сама собой способна привлечь сегодня к автору внимание. Но с Кроссом и это мало что объясняет. Ибо он склонен к разысканию и описанию таких исторических фигур, которые почти ничего не говорят читателю.
В самом деле. В. Шукшин подступается к Разину, о котором каждый читатель чуть не с пеленок наслышан; он поднимается к разинской теме на плечах других романистов; он пишет свой роман в параллель книгам историков на эту тему; и все это на полке у читателя – бери и сравнивай! – еще бы не гореть интересу при таком уровне читательских ожиданий. Или, скажем, К. Тарасов, реконструирующий Грюнвальдскую битву – скрещенье четырех или пяти национальных трасс. Или Ю. Трифонов с народовольцами… Все стараются работать на разогретых участках памяти, откликаясь читательской жажде.
Но каким образом объяснить магнетизм текстов, рассказывающих о Ситтове или Петерсоне, когда автор в приложенных пояснениях вынужден объяснять читателю, кто они такие? Или о Янсене, которого автор предварительно отделяет в сознании читателя от полудюжины других Янсенов, тоже достойных внимания и, однако, изрядно забытых современным сознанием? Из шеренги эстонских деятелей, оживленных Кроссом, один Крейцвальд сразу и ясно говорит что-то читателю-неэстонцу… так именно о Крейцвальде Кросс и отказывается писать! Потому что тот слишком известен (фрагмент неосуществленной повести застывает рассказом о «двух утраченных записках»). Работая «на глазах у Клио», Кросс не любит ее популярных героев, он ловит полузабытые тени. Два-три факта, больше ему не надо, между фактами должна быть бездна, которую надо заполнить воображением. Предварительные ожидания читателей при этом отключены начисто. Много ли знаете вы о живописце Келере? Еще начнете уточнять, тот ли это, у кого вторая фамилия была Вильянди, но это-то Кросс как раз и игнорирует. И генерал Михельсон в нашей памяти в лучшем случае темной тенью влачится за Пугачевым, да к тому же и заслонен Суворовым. Из русских героев Кросса даже и ближайший к нам, Тимофей Егорович Бок, едва удостоен тридцать лет назад брошюрки, крошечным тиражом помянувшей этого «современника декабристов», а за материалами о нем надо уже нырять в тихонравовские летописи.
Ну, хорошо, а Руссов? Балтазар Руссов, во всех справочниках красующийся ливонский хронист, радость историков – источник! Он-то – погребен разве?
А вот пошел я за этим самым хронистом в Библиотеку имени Ленина, полный иллюзий, что вот-вот выйду «на материал Кросса». Иллюзии сразу развеялись; даже и русский перевод хроники не просто оказалось раскопать, об авторе же ее не было вовсе ничего. На мою просьбу дать «хоть что-нибудь о Балтазаре Руссове» консультанты (историки!) затруднились с ходу ответить и попросили зайти минут через пятнадцать. Через пятнадцать минут меня озабоченно попросили зайти еще через полчаса – видимо, поиски велись серьезные. Еще через полчаса меня встретили сияющими улыбками: нашли!! – и, что бы вы думали, выложили передо мной?
«Три чумы» Кросса!
Тут-то я и успокоился. На предмет источников.
Но отнюдь не на предмет того, в какой степени их наличие в тексте дает нам право относить ту или иную книгу к жанру исторического романа.
Давайте разделим две вещи. Наличие исторических источников и наличие исторической концепции. При нынешней моде на документальность оснащение художественного текста «источниками» давно уже стало приемом, имеющим к историзму вполне внешнее, если не декоративное отношение. Б. Окуджава ставит «при входе» две толстовские цитаты, остальную же «переписку» насквозь имитирует, так кому ж придет в голову читать «Похождения Шипова» как произведение исторического жанра! С таким же успехом можно искать источники в обильно оснащенных имитированными документами произведениях Юлиана Семенова.
Однако вот разница: Юлиан Семенов все-таки внутренне нацелен не на лирическое самовыражение, а на воссоздание исторической ситуации. Получаются как бы параллельные ряды качеств: степень интереса (или неинтереса) к исторической ситуации и степень корректности (некорректности) в обращении с историческими фактами. Грубо говоря, «врет» автор или «не врет», и ради чего он «врет» или «не врет». Иной и «врет», но заставляет думать об исторической логике. А иной «врет», потому что занят на историческом фоне совсем другими вещами.
Так вот: Кросс «не врет». Нигде. И тем не менее рискну утверждать, что озабочен он по существу не историей.
Недаром же по интонации, по тональности письма тексты Кросса производят впечатление полнейшей свободы относительно источников. Автор «Четырех монологов по поводу святого Георгия» вкладывает в уста художника Ситтова цитату из Макиавелли. Трактат Макиавелли напечатан через семь лет после того, как Ситтов, волею Кросса, его процитировал. «Однако автора «Монологов» нельзя убедить в том, – пишет Кросс о себе, – что он не вправе доказывать, до какой степени мысли, обнародованные в трактате «Государь», были в ходу уже в 1506 году… Само собой разумеется, что при всех остальных событиях, разговорах и рассуждениях изложенной истории (это уже из предисловия к «Имматрикуляции Михельсона». – Л.А.) автор непосредственно присутствовал сам».
Смысл такой иронии разгадывается легко: она адресована читателю, который, «заведясь» от кроссовской свободы, захочет проверить автора. Оно понятно: тут интонационная свобода такова, Кросс настолько властно вбирает факты в свой художественный ритм, что это граничит с мистификацией. Читатель лезет «проверять», уверенный, что Кросс «врет». И убеждается, что Кросс скрупулезно, безукоризненно, профессорски точен в фактах. И не только при цитировании, скажем, пушкинского письма к Толю, которое можно найти в любой библиотеке, но при всяком прикосновении даже к проблематичному свидетельству. Уникальный случай: мистификация наоборот!
Эта мнимая вольность ввела в характерный соблазн критика Ю. Смелкова. Увлеченный мощной фантазией (Имматрикуляции Михельсона», он решил, что эстонское происхождение генерала, почерпнутое Кроссом из не слишком надежного источника (газета столетней давности, примечание к фельетону, с тех пор не подтвержденное), не более чем повод для Кросса. И вот критик, размышляя о повести, выстроенной на весьма эфемерном, хотя и имевшем место свидетельстве (да простит мне дальше Смелков некоторый стилистический нажим), и исходя из ощущения полной и романтически несвязанной воли писателя идти или не идти на «компромисс» с косным материалом, спросил Кросса: Яан Яанович, а если бы не было того примечания к фельетону в «Ревальше цайтунг», вы бы, конечно, все равно написали бы «Имматрикуляцию Михельсона»? Кросс ответил: нет, я поискал бы другой факт.
Так разве эта скрупулезная, совершенно научная по своей природе точность Кросса не говорит о нем как об историке?
А поразительная точность в воссоздании «аромата эпохи»!
Вот кусочек из Хроники Балтазара Руссова (чтобы выйти из-под обаяния Кросса, возьму отрывок, никак не тронутый им в романе): параграф 14, финал. «…Оба христианские государя (поляк и швед. – Л.А.), принявшие Ливонию под защиту от московита, боролись теперь друг с другом, а московит прошел себе невредимо мимо и исподтишка посмеивался над ними…»
Люди, читавшие «Три чумы», могут оценить изумительную психологическую точность, с какой воссоздал Кросс облик человека, написавшего в XVI веке пассаж в таком стиле. Методичная, твердая, невозмутимая поступь официального хрониста, и вдруг – эта дьявольская мгновенная усмешка в рыжей мужичьей бороде…
Все так. Кросс точен в реалиях, точен в «атмосфере». А все же один коренной признак выводит его за пределы задач, которые ставит перед собой историческая проза. Кросс не старается выдать свой художественный мир за познанную историческую реальность!
Речь идет о внутреннем писательском задании. Окуджава тоже не старается, и как раз потому, что у него совсем другое внутреннее задание. А Давыдов старается, он именно и постигает историческую реальность. Как и Пикуль, впрочем. То, что Давыдов при этом ее постигает (это мое мнение), а Пикуль остается во власти своих субъективных пристрастий (это тоже мое мнение), не мешает тому и другому быть историческими романистами. Тогда как Кросс и Окуджава таковыми не являются. Хотя Окуджава волен в деталях, а Кросс в деталях безукоризнен.
Жесткую грань между историческим романом и романом на историческом материале вообще провести трудновато. Внутренняя задача произведения выявляется целостно, а не из подсчета признаков. Всегда найдутся произведения, которые окажутся в пограничной зоне.
В этой пограничной зоне, пожалуй, и Кросс. Скрупулезность удерживает его на грани сугубого историзма. Но внутренняя тема его – не там. Все дело в том, когда какой фактор сильнее.
В собственных высказываниях Кросса можно найти несколько классификаций исторической прозы, и это небезынтересно для ответа на обсуждаемый нами вопрос. Есть, говорит он, «профессорский роман» и есть роман «приключенческий». Есть роман «пейзажный» и роман «персоналистский». Или такая триада: роман репродуцирующий (Вальтер Скотт), роман, мыслящий по аналогии (Фейхтвангер), и роман философствующий (подставим сюда Томаса Манна). Где же сам Кросс? Я думаю, везде понемножку – если брать всю широту его художественного мира. Не удивлюсь, если студент-историк, занимающийся Ливонией, почтет себя обязанным изучить «Три чумы» именно в качестве «профессорского романа». Или что из этого романа будут извлечены тонкие аналогии с современностью. Или извлечен будет исторический «пейзаж». Или захватывающее приключение с погоней (например, бегство Балтазара из-под Таллина после разгрома крестьянского бунта). Очень может быть, что книги Кросса сыграют свою роль в дальнейшем развитии литературы именно как произведения исторические…
Но в нашу сегодняшнюю прозу они входят не как исторические, а как современные, жгуче современные! Так они и воспринимаются, так и встречены.
Позволительно ли в этом случае опереться на ощущение самого обсуждаемого автора? Кросс ведь вовсе не спешит признать себя историческим романистом. После появления эпопеи о Балтазаре Руссове, когда к нему стали все чаще адресоваться именно как к историческому писателю, Ю. Болдырев сформулировал свои вопросы именно как историк, а не как литератор. Не цитируя всего взвешенного и развернутого «протокола» этой беседы (ее можно прочесть в «Вопросах литературы» № 8 за 1980 год), постараюсь передать вкратце несколько моментов, интересных мне прежде всего драматургически. Болдырев спрашивает мнение Кросса о взрыве читательского интереса к исторической проблематике в семидесятые годы (имеется в виду, что Кросс – один из создателей этого взрыва). А Кросс отвечает, что никакого взрыва не заметил: интерес был всегда. Болдырев спрашивает: но вы ведь действительно видите свою задачу в том, чтобы заполнить материалом «контурную карту» исторической памяти эстонцев? (Ожидается ответ: конечно!) А Кросс отвечает: нет, это дело попутное, просто мы неучи, а вообще-то задача моя другая. Болдырев спрашивает: почему в ваших повестях предпочтение отдано девятнадцатому веку? (Ожидается историческое рассуждение.) А Кросс отвечает, что это ничего не значит: прошедшее полтысячи лет назад и прошедшее только что для писателя в известном смысле одно и то же.
Интервью Болдырева тем более рельефно, что рядом с Кроссом на те же вопросы отвечают критику Юрий Давыдов, блистательный исторический романист, и Булат Окуджава, мало общего имеющий с исторической прозой. Два, так сказать, края. И что же? Давыдов вкапывается в вопросы по существу, он сравнивает людей девятнадцатого века с людьми восемнадцатого, ищет линии сходства и различия. Окуджава аристократично отшучивается.
Вопрос Болдырева: как вы пришли к исторической прозе? Ответ Давыдова: я к ней не пришел, я из нее вышел (то есть это мое кровное дело). Ответ Окуджавы: я не избежал общей участи (то есть моего участия здесь, в сущности, и нет).
Ответ Кросса: я к исторической прозе пришел случайно.
Вдумаемся. В этом и впрямь есть что-то от казуса. Кроссу заказывают… оперное либретто. Поэту, создавшему в пятидесятые годы философское направление в эстонской лирике (больше никому не удалось), – оперное либретто! Он пишет. Ему заказывают… киносценарий. Пишет. Кое какой материал из шестнадцатого века в сценарий не влезает…
Так начинается жизнеописание Балтазара Руссова.
Цепочку повестей «из девятнадцатого века» Кросс создает параллельно шести книгам этого жизнеописания. Так что никакой «эволюции» (от повестей к роману или наоборот; от шестнадцатого века к девятнадцатому или наоборот и т. д.) из этих трудов не извлечешь. Сложившийся писатель и ученый, юношеские и ученические опыты которого остались где-то во тьме ранней биографии, случайно ступив на стезю исторической прозы, сразу начинает строить (и выстраивает!) разветвленный и целостный художественный мир.