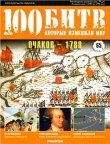Текст книги "Императорский безумец"
Автор книги: Яан Кросс
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 30 страниц)
Слава богу: все в порядке.
Ээвы и Юрика, правда, еще нет, но в их прибытии я не сомневаюсь. Главное: Клэр говорила мне вчера с таким расстроенным лицом, что я даже пожалел о невозможности сказать ей правду: их мама неожиданно тяжело заболела в Таллине! Отец получил от доктора Фрезе вызывающее тревогу письмо (интересно, каким образом Эльси это проделала, что даже доктора пишут по этому поводу письма ее мужу? Ого!). И папа Петер сразу же вчера утром помчался в Таллин. Quod erat probandum[75]75
Что и требовалось доказать (лат.).
[Закрыть], как говорится. Так что самый тяжелый шлагбаум на пути бегства Боков поднят. Нужно признать, благодаря чисто женской идее Ээвы…
Пярну, 17 сентября 29
Я здесь уже с четвертого. «Амеланд» пришел шестого, несколько дней он разгружался и на следующей неделе получал груз льна. Укрытие для трех душ приготовлено внутри груза. Еда и питье для них тоже припасены. Сами они должны прибыть сюда завтра к вечеру. Не медля ни одной минуты, сразу, как только они войдут в дом, я пойду в город и в ресторации Ингерфельда устрою для капитана Гланса пир на весь мир, чтобы ему ночью не пришла в голову мысль отправиться проверить портовую стражу. Троим его людям (один из них унтер-офицер), которым надлежит быть на дежурстве, я отнесу или пошлю закуску и выпивку в сторожевую будку. Чтобы они от зависти не бодрствовали, а в нужное время завалились спать. Через полчаса после полуночи я оставлю капитана Гланса сладко почивать у Ингерфельда (к этому времени он у меня уже наверняка не должен стоять на ногах), приду сюда, разбужу Юхана (надеюсь, мои господа сами спать уже не будут), мы распределим их чемоданы между тремя мужчинами, и я быстро, в полном молчании поведу их в пустой полуразрушенный дом позади Зимней гавани. Там их встретят посланные капитаном Снидером люди и препроводят на корабль.
18 сентября, вечер, 8 часов
Они здесь.
Юхан поставил лошадь и карету в укрытие. Я отправил его спать на сеновал. Ночью он будет нужен, чтобы нести чемоданы. Ээва на полчаса прилегла отдохнуть на соломенный тюфяк. После того, как перепаковала чемоданы и сделала из восьми семь, и перед тем, как содержание семи запихать в шесть. Потому что больше шести чемоданов (и нескольких легких свертков для Ээвы и Юрика) быть не должно, если мы хотим справиться за один раз.
Тимо сидит на дворе у стены застекленной веранды под рябиной. Я вижу его в окно.
Я велел Юрику быть на страже, просто так, для красного словца, разумеется, и теперь иду, уже время.
19 сентября, после полудня
Кхм… Итак – они уехали.
И я хочу подробно записать сюда события вчерашней ночи.
Следовательно, вчера вечером часов около семи они прибыли. Совершенно понятно, что все мы были несколько возбуждены. Когда Ээва начала перепаковывать чемоданы, Юрик спросил:
– Мама, но куда же мы теперь все-таки едем?
Ээва сказала:
– Я же говорила тебе. На Сааремаа. К Буксхевденам. Они наши родственники и очень милые люди.
– А почему же мы едем тайком – если у папы разрешение от императора? – спросил Юрик, расставляя шахматы, чтобы играть со мной. Те самые шахматы, что я подарил ему два года назад.
– А потому тайком, – объяснила Ээва, – что мелкие пярнуские чиновники могут не поверить, что наше разрешение подлинное. И мы можем потерять несколько дней, может быть, даже неделю, прежде чем им это подтвердят.
На двадцатом ходу я сдался, чтобы быстрее закончить партию. Допускаю, что на тридцатом он мог бы выиграть. Потому что для своих десяти лет он играет на удивление хорошо. И вообще создается впечатление, что из него растет самостоятельно мыслящий мальчуган. Я подумал: оттого ли, что он особенно рьяно впитал в себя лицейское воспитание, или оттого, что он особенно сильно противопоставлял ему собственное «я»?
Наверно, я уже писал раньше: Ээва между упаковкой чемоданов прилегла отдохнуть на соломенном тюфяке, а Тимо (я видел его в окно), несмотря на ветер и накрапывающий дождь, сидел во дворе на скамейке под рябиной и смотрел на море, хотя в сумерках его уже больше не было видно. Я обратил внимание – серая трава дрожала от ветра, за воротами, колыхаясь, светлел песочник. Тимо сорвал с дерева гроздь в полутьме уже почти черных ягод рябины и время от времени клал их в рот и жевал, странно откинув голову назад. Я подумал, нынче они должны быть еще невозможно терпкими.
Около половины девятого я надел свой брезентовый плащ и отправился в город. Капитан Гланс сидел у Ингерфельда, и, судя по расстегнутому воротнику и блеску в глазах, он был уже под хмельком. В отдельной комнате позади залы мы съели ужин из трех блюд – суп с фрикадельками, таллинский шницель с килькой и лимоном и сливовый компот – и обильно запивали все это пивом, водкой и привезенным на «Амеланде» португальским вином. Я рассказывал капитану глупые, отдающие казармой истории с женщинами, так что он время от времени задыхался от смеха, и все так же усердно настаивал на протекции у знакомого ему рижского генерала. И само собой разумеется, по счету платил я. И наливал тоже я. К половине двенадцатого капитан был вдрызг пьян. Я уложил его спать тут же в комнате на диване, перевел его карманные часы на три часа назад и в коридоре в печке спрятал его сапоги.
В непроглядной тьме, под дождем с ветром я прошел по прибрежной улице до корабельного причала и заглянул в окно сторожевой будки. Раньше я послал туда с ресторанным мальчиком на троих стражников три кряквы и шесть бутылок пива. Он отнес их, будто бы от самого капитана. Что означало почти приказание: вылакать все до дна. И его подчиненные, во всяком случае в этом отношении, оказались людьми исполнительными. Штормовой фонарь, горевший на маленьком столике, давал возможность отчетливо видеть, как они ничком дрыхли на трех скамьях вокруг стола. Я приоткрыл дверь в будку, протянул было уже руку, чтобы погасить фонарь, но передумал. Решив, что темная будка скорее могла привлечь внимание, я снова закрыл дверь. Огонек из кормовой каюты на «Амеланде» мелькал тут же у причала, на сто шагов ближе к устью реки.
Через четверть чаш я снова был в летнем домике Цвибельберга Юрик спал на полу, на соломенном тюфяке. Ээва и Тимо сидели при свече на чемоданах у шаткого столика. Ээва нашла какой-то бидончик и дрова и сварила чай. Над столом от чашек, вынутых из саквояжа, поднимался пар.
Я сказал:
– Пора.
Ээва сказала:
– Да. Минутку. Я сложу чашки и разбужу Юрика. Иди, скажи Юхану, чтобы он спускался.
Тимо встал. Он поднес к горлу руки со сцепленными пальцами. Он сказал:
– Подождите… Друзья мои… мне смертельно стыдно… что я, когда было нужно, не сумел этого выяснить для себя…
Ээва стояла у стола, сливала остатки чая в ведро и вытирала белым полотенцем чашки. Я заметил, как моя сестра странно испуганно повернула к Тимо вдруг будто застывшее лицо и как приоткрылся у нее рот.

Тимо сказал: «Однако, слава богу… я пришел к решению…» Он поднял взгляд от стола и поглядел Ээве и мне в глаза:
– Я не могу уехать.
Ээва опустилась на чемодан и закрыла глаза. Мгновение ясно был слышен ветер за окном. Потом в полотенце, которым Ээва вытирала чашки, раздался хруст. Ее взгляд был устремлен на стену. Не глядя, она крошила ручку, отломленную от чашки. Тимо этого не заметил. Он прошел между столом и чемоданом. Я сказал:
– Тимо… ты в самом деле… сошел с ума…
Он мельком взглянул на меня и произнес, но не в ответ на мои слова:
– Да-да. Я признаю: мне стыдно. Два года Китти этим занималась. И ты тоже. И я допускал, чтобы это происходило. От слабости…
Он говорил как-то сбивчиво, и будто отсутствуя, и все же с лихорадочным подъемом.
– …Я не знаю, поймете ли вы это… Когда человек стоит под огнем картечи… тогда это ведь по-человечески, что он хочет уйти оттуда… И если его жена и его ребенок… стоят тут же неподалеку… на грани смертельной опасности… и хотят помочь ему оттуда уйти… и он сам должен помочь им уйти оттуда, где они из-за него… а он в сражении… тогда может случиться, что аргументы pro и contra[76]76
За и против (лат.).
[Закрыть] растут с такой парализующей силой, что человек не способен принять решения и вытесняет из своего сознания категорический императив… бежать с поля боя недопустимо! Китти, ты же помнишь – я послал тебе однажды оттуда письмо, в котором была та же мысль. И вы ведь оба помните, что сказал когда-то Пален…
Я крикнул:
– Я точно помню, что говорил Пален! Что он сразу же поддержал бы твое бегство, если бы ты был в том же положении, что и он. В то время ты не был. А сейчас ты – в сто раз худшем! И ты в нем не один. Твоя жена изводится с тобою рядом! Твоего сына превращают в опорный столп всего того, что ты пытался сломать…
Тимо прервал меня:
– Но Пален сказал еще кое-что… помните: на чужбину уходят те, которые хотят отомстить за себя…
Я спросил – знаю, что хотел тем самым не только заставить его действовать, но от разочарования и злости еще и просто уколоть:
– А ты не думаешь, что уже давно пришел твой час отомстить за себя?!
Жестом правой руки он отмел мои слова в сторону:
– Якоб… помнишь… Пален сказал: кто хочет чего-то более значительного, тот остается дома…
Я воскликнул:
– О дьявол… с таким сумасшедшим, как ты, не стоит спорить. Кто настолько слеп, что в такую минуту отказывается от всего, что нами предпринято… Ну скажи, к чему более значительному можно стремиться или чего достигнуть в выйсикуской тюрьме? Глупец!..
Тимо обеими руками схватился за галстук. У него побелели суставы.
– Якоб… разве ты этого не понимаешь… Китти, ты должна меня понять – это моя битва… с императором, с империей… с той, что у нас… Я благодарю господа за то, что он дал мне силы прийти к этому решению. Дал мне понять: что смог бы я делать в чужой стране?! У меня нет денег, чтобы что-нибудь печатать. И если бы даже я нашел деньги, слово мое сюда все равно бы не дошло. А если бы и дошло, то для слишком многих было бы словом изменника! Нет-нет… если уж куда-нибудь ехать, то только не в Швейцарию. Тогда только туда, – он показал в темноту за окном, – за Иркутск, где уже есть другие… А для меня единственно правильно находиться там, где меня заставляют находиться. Быть там… подобно железному гвоздю в теле империи…
Я еще раз повторил от чистого сердца: «Глупец…» – и понял: если уж он принял слепое решение – спорить с ним бессмысленно. Может быть, я даже высказал бы все, что рвалось у меня из души: честное слово, это же совершенное безумие! Я уже пятый раз в Пярну! Но если бы только это… Люди рискуют тюрьмой и жестокими штрафами… Мы создаем огромный плацдарм от Таллина и Петербурга… И вам придется выложить Снидеру за труды и риск по крайней мере пятьсот рублей впустую… Знаете что, подите вы ко всем чертям и делайте дальше, что хотите, – больше я с вами дурака валять не намерен! Но я ничего не сказал – потому что мы все вдруг повернулись к Юрику. Мальчик сидел на соломенном тюфяке между окон. Золотые пуговицы на черной курточке гардемарина поблескивали от пламени свечи. Он воскликнул:
– Папа! Они соблазняют нас бежать! Я понимаю! Но мы ведь не убежим?! Правда?! Это было бы против повеления императора! Это было бы позорно…
Ээва крикнула:
– Юрик, ради бога – замолчи!
Я сказал, не надеясь, что это могло бы изменить решение Тимо, следовательно, просто со злости… ну, скажем, от разочарования, что меня так одурачили:
– Видишь, Тимо, как научили думать твоего сына! Вопреки императорскому повелению – значит позор!..
Ээва сказала:
– Якоб, ты мог бы быть великодушнее… – Она подошла к Тимо и положила руки ему на плечи. Она сказала – Я уважаю твое решение. Потому что я… я почти понимаю твои мотивы… Жаль только, что ты так поздно… Как же получилось, что ты раньше…
Тимо взял Ээву за руки. От облегчения он говорил почти весело:
– Знаешь… я так много это взвешивал. И сейчас в последние минуты, когда я сидел там на дворе… сейчас вдобавок к тем аргументам Палена… мне пришли на память… помнишь… его слова, что, может быть, он остался из любви к своим померанцам… может быть, самым северным во всей Европе… и особый горьковатый вкус этих померанцев… Я не знаю, испытывали ли вы, какой властной может быть иной раз память вкуса… И именно в этот момент, когда вкус померанцем возник в моей памяти… у меня в руке оказались ягоды рябины с того дерева, и я безотчетно положил их в рот… и тут вдруг во рту и во всем теле ощутил их ожидаемую сладость и невероятную горечь – тот же вкус, только у этих ягод он несравнимо более горький и властный…
Он вынул из кармана гроздь рябиновых ягод и поднес ее к Ээвиному рту.
– Видишь, вот они… – Он обнял Ээву за шею и прижался лицом к ее лицу. Гроздь незрелых оранжевых ягод возле их губ… Он сказал – Я понимаю, делайте со мной что хотите… Но и из-за этих ягод я не могу никуда уехать…
Короче говоря, в полночь я вручил в известном мне пустом доме боцману с «Амеланда» вместо своих беглецов пятьсот рублей золотом для передачи капитану Снидеру в уплату за его труды и риск и просил передать ему, что в дальнейшем он нам не понадобится. И поскольку я все равно бродил по городу, то, несмотря на дождь, зашел еще раз к Ингерфельду. Я постучал с черного хода – немало я роздал чаевых. Капитан Гланс по-прежнему спал мертвецким сном на том месте, где я его оставил. Я перевел обратно его часы, принес из печки сапоги и поставил под его ложе.
Сегодня на рассвете я отправил моих господ в полном составе обратно в Выйсику – и не знаю, нужно от всего этого плеваться, смеяться или плакать.
Пыльтсамаа, 18 марта 1830 г.
Нынешняя тихая и снежная зима в сущности уже идет к концу, а кажется, что она еще в полной силе. Если судить по высоте сугробов.
О том, что творится в Выйсику, с осени ничего не знаю. Через неделю после моего возвращения из Пярну была здесь Ээва и забрала по желанию Тимо ту памятную шкатулку с его рукописями. Так что подробнее изучить их я так и не смог. Однако в том, что тогда подумал, я все же почти уверен.
Но не из-за выйсиковских дел я открыл сегодня после полугодового перерыва эту тетрадь. А для того чтобы записать в нее то, что вчера вечером мне сказала Анна. Сама она сейчас по случаю субботнего вечера пьет кофе у управителя Валевского замка. Нас в последнее время звали туда почти что каждые две-три недели, и мне уже надоели их кофе и карты. Анна, по-видимому, моего отношения не разделяет.
Вчера вечером Анна сказала мне, что у нас, наверно, будет ребенок.
Здесь же в Пыльтсамаа, 12 ноября 30
Я решил поехать завтра в Выйсику посмотреть, как они там живут. Анна напомнила мне, что 13-го день рождения Тимо. Говорят, он за последний год сильно поседел. Хотя ему исполнится всего сорок два. А за девять лет каземата только на висках и в усах у него появилась проседь.
В нашем доме последний год тоже был довольно тревожный и беспокойный. Когда я прошлой осенью вернулся из Пярну, от наших наличных денег осталось шесть рублей. Чулан и погреб, правда, не были совсем пустыми. Однако из-за нашего весеннего переселения и моих осенних пустопорожних поездок мы не могли по-настоящему ухаживать за огородом, и у нас совсем не осталось муки, а над нашей спальней черепичная крыша окончательно прохудилась. Купить новую черепицу мне было не на что. Целую неделю я возился на чердаке с ведром глины и только кое-как залатал старую. Ээва прислала нам из Выйсику три пуда ржаной муки (от Анны она знала о наших трудностях), и на яблоках и капусте с четверти лофштеля, плохо ли, хорошо ли, мы прожили осень. Иногда река давала нам рыбу. И тут я придумал выход.
Я узнал, что полковник Теннер поехал в Ригу на зимние картографические работы. Я взял на дорогу оставшиеся у нас последние рубли и помчался за двести двадцать верст. Нашел его. Он написал нужную бумагу. Потом он отыскал старого графа Меллина и попросил у него для меня рекомендацию. И пошел со мной вместе в губернское управление, положил перед ними несколько триангуляций, подтвердил, что это моя работа (в какой-то мере так оно и было), и исхлопотал мне подписанное и заверенное печатью свидетельство землемера. Для казенных работ в России, согласно закону 1806 года, его, правда, вроде бы недостаточно, однако в Лифляндии этот закон до сих пор еще не введен в действие, и для местных работ мне никакого другого не требуется. Так или иначе, но моя принадлежность к новой профессии стала известна прежде, чем я сам успел кому-либо об этом сказать. Едва я вернулся из Риги, как господин Швальбе прислал за мной из Рыйка и предложил работу: вымерить и закартографировать для фабрики лесные участки по ту сторону реки и вдобавок еще закупленные для фабрики леса около Валга. Приступить к работе можно будет, конечно, только весной. Так что я через Швальбе попросил у господина Амелунга прежде всего аванс, чтобы было на что жить и чтобы взять напрокат нужные землемерные инструменты. Я знал, что у старого Винтера в Тарту, в прошлом землемера, теперь уже несколько лет живущего на пенсии, все это имеется: приличный теодолит, измерительные цепи, железные стержни для вымпелов, правда, несколько уже заржавевшие, и даже планиметр Вагнера. Дать мне все это напрокат он не пожелал. Но был согласен продать. И после долгих переговоров – даже на таких условиях: для начала я должен заплатить ему только сорок рублей, а вторые сорок могу задержать до осени. На остатки от аванса мы с Анной дотянули до весны, и, как только земля подсохла, я приступил к работе. И хотя плата за мой труд шла к нам в карман не очень уж обильная, но у меня оказалось вдруг так много работы в разных местах, что только с величайшим трудом я выкраивал время, чтобы сделать прививку нашим яблоням и вскопать огород. В более легких работах по саду и по дому Анна, нужно сказать, умело мне помогала (в более легких потому, что ее мартовское предположение оправдалось). К осени, когда по заказу детей господина Валя я намечал границы между их Каавеской и Паюской мызами, Анна вызвала из Вильянди себе в помощь мать. И сейчас, по Анниному расчету, ей осталось носить всего с неделю.
Так что в Выйсику я, естественно, отправлюсь один, притом верхом на взятой у Валя лошади, но даже и таким способом эти пять верст из-за немыслимой распутицы ехать противно.
15 ноября 1830 г., поздно вечером
Сейчас мне приходится вспомнить древние слова: господь дал, господь и взял. Или вернее. Господь взял то, чего еще и не дал. Однако попытаемся соблюсти последовательность событий.
Я оставил Анну в добром здравии варить последние яблоки нынешнего урожая, мать помогала ей поднимать медные посудины с готовым вареньем и поддерживать огонь в очаге. Я заблаговременно привел на двор коня от валевского управителя (ему дано распоряжение, когда потребуется, предоставлять мне лошадь) и после полудня поскакал в Выйсику.
Даже при скудном свечном освещении было видно, как сильно поседел Тимо с прошлой осени. А Ээва казалась в точности такой же, как прежде, и вообще, они производили впечатление людей, примирившихся со своим положением.
Гостей по случаю дня рождения у них не было никого, кроме Эльси и Клэр. Ни за кофе, ни за ужином я не стал спрашивать, дошла ли каким-нибудь образом до Петера наша отлучка минувшей осенью, не возникли ли в связи с этим какие-нибудь проблемы. Но после ужина, когда ушла Клэр, этот разговор завела Эльси.
Когда она вернулась с Петером из Таллина, едва оправившаяся и все еще слабая после своей выдуманной болезни, и обнаружила Тимо в Выйсику (Ээва повезла Юрика в Петербург), она с трудом сумела скрыть от Петера свое удивление. Нет сомнения, она была бы последней, кто способен предать. Однако каким-то образом – от конюха главному конюху, от него – кухарке управляющего, с которой тот был в сожительстве, от кухарки уже самому управляющему и затем, наверно, по не слишком ясному, а все же услужливому бормотанию старого Тимма – слух дошел до Петера, что, мол, господин Бок со своей супругой за это время куда-то отлучались… Да едва ли можно было совсем незаметно совершить такую поездку» Кроме того, никто из нас тогда не подумал о том, чтобы спрятать концы в воду на случай, если придется возвратиться. Петер спустя неделю первым долгом послал за кучером Юханом: чтобы явился! Юхан – человек, уже давно давший Тимо клятву верности. Он почуял недоброе – на обратном пути Ээва ему сказала, чтобы он, как могила, молчал об этой поездке, – и Юхан сразу же пришел в Кивиялг узнать, как ему быть с господином Петером, если его станут выспрашивать. Тимо сунул в руки Юхану двадцать рублей и отослал его не в господский дом, а в Экси с письмом старому Мазингу. С петеровских глаз подальше. Ибо Петер с его помещичьим всевластием и верноподданническим рвением вполне способен приказать, чтобы Юхана уложили на скамью и стали розгой выбивать из него правду, и Тимо сказал, что тогда у него было бы ощущение, что это проделывают с ним самим…
(После этих слов следовало бы в очередной раз спросить: откуда взялся такой прибалтийский дворянин? Но я настолько хорошо его знаю, что этого вопроса задавать не стану. Ибо скорее следовало бы спросить, откуда вообще взялся подобный человек?!)
После исчезновения Юхана Петер сам явился в Кивиялг. С присущей ему манерой он по-хозяйски расселся на их старом диване в зале и сказал:
– Говорите, куда вы ездили!
Ээва стала перед ним и, упершись совсем не по-дамски руками в бока, сказала, совсем по-дамски улыбаясь:
– Дорогой господин свояк, мы не собираемся отвечать на ваш допрос. Ни сегодня, ни в дальнейшем, да будет вам это известно.
Тут Петер начал им внушать – как сказала Ээва: «Ты же знаешь его поучительно брюзгливый дядюшкин тон, эту его совершенно идиотскую манеру», – стал внушать:
– Да поймите вы, мне же нужно написать донесение, что в мое отсутствие вы уезжали из Выйсику, Поскольку мне это известно… А как же я напишу, если не знаю, куда вы ездили.
Тимо сказал:
– Почему не можешь? Ты напиши: «На мои расспросы господин Бок отвечал, что они тринадцать раз проехали в карете вокруг волости, разумеется, не нарушая границ, только господин Бок, увы, точно не помнит – по солнцу или против солнца».
Петер крикнул:
– Не болтай ерунды! Вас не было четыре дня!
Тимо ответил:
– Для господа тысяча лет – одно мгновение.
Тут Петер взревел:
– Не изображай из себя дурака!
И Тимо ответил:
– Что значит не изображай?! Осторожно, Петер, ты ставишь под сомнение слова двух императоров!..
Юхан пропал. Петер ничего не добился. И, по-видимому, слух о тайной поездке Боков так и остался в донесении неупомянутым. Ибо в попытке к бегству Петер явно их не подозревал. Или если и подозревал, то нарочно об этом промолчал. Поскольку одно было ясно: если бы подозрение в попытке к бегству дошло до генерал-губернатора, а потом и до царя, то в положении Тимо произошли бы значительные изменения. И, очевидно, они коснулись бы и режима надзора и сдунули бы и самого председателя опекунского совета. Однако изменений не последовало.
Я спросил Тимо:
– А интерес господина Петера к твоим рукописям остался прежним?
Тимо сказал:
– О да! Время от времени он по-родственному приходит ко мне полистать мои поваренные книги.
Я спросил:
– А больше ему до сих пор ничего не удалось прочитать?
Не знаю, слышал Тимо мой вопрос или не слышал. Вслух он на него не ответил. Только мне показалось, он слегка покачал головой.
Мы засиделись допоздна, и Ээва велела протопить мою бывшую комнату и приготовить там для меня постель. Я уже почти засыпал, когда ко мне постучали:
– Господин Якоб! Господин Якоб! Проснитесь! Вас разыскивают, ваша жена…
Это был осторожный старческий голос Кэспера. И вмешался чей-то незнакомый:
– Доктор Робст просит вас приехать. Несмотря на ночной час. Он там. Роды начались. И кажется, что… Это случается иногда… Так что…
Через несколько минут я был одет. И я даже не могу сказать, что был испуган. Я был настолько уверен в своем дурном предчувствии, что, окажись оно напрасным, у меня было бы ощущение, что я обманут. Я бросился в конюшню и вывел лошадь. Слуга и famulus[77]77
Слуга, ученик, помощник (лат.)»
[Закрыть] доктора Робста поехал вместе со мной. В глубоких колеях грязи и в полном мраке наши лошади сами находили дорогу. А когда мы повернули на шоссе, моя коняга так круто свернула с мызской дороги, что, очевидно, ветка невидимого в темноте придорожного дерева сорвала у меня с головы шляпу. В этой кромешной тьме я не стал искать ее. С непокрытой головой я поскакал дальше и помню, как отчетливо думал: все равно, ищи не ищи, но раз она слетела с головы, сразу, как только я помчался домой, – это дурной знак, значит, дома смерть…
Когда я приехал, уже было поздно.
Анна от большой потери крови была в полубессознательном состоянии, ей еще ничего не сказали. Теща встретила меня пьяная и заплаканная. В кухне на столе стояла пустая бутылка от прошлогоднего яблочного вина. За кухней в проходе с каменным полом лежал освещенный свечами тот, кто хотел родиться, но в последний миг отказался, маленький лиловато-желтый комочек, накрытый белой пеленкой. Мой сын, который не захотел стать моим ребенком.
Доктор Робст мне его показал. В кухне он велел полить ему на руки из ковша над глиняным тазом и, моя руки, объяснял мне: биение сердца было отчетливо слышно, но выход ребенка из материнского лона, чего никак нельзя было ожидать, длился очень долго и был очень труден. И к тому времени, когда ребенок оказался у них в руках, он успел задушить себя собственной пуповиной…
Знаю, что, очевидно, мысль моя неверная, но знаю и то, что никогда не смогу от этой мысли отделаться… Если бы тринадцатого ноября, которому не суждено было стать днем рождения моего сына, – а это был день рождения Тимо… если бы тринадцатого ноября я не уехал, а находился дома (ведь считать рождение моего сына преждевременным нельзя)… может быть, не случилось бы того, что случилось…
И я размышлял: следует ли мне считать утешением (как доктор Робст с присущей ему эмфатической манерой старался мне внушить) или, напротив, – еще большим несчастьем, что он отчетливо слышал удары сердца ребенка? Значит, ребенок не умер зародышем, который должен выйти из живого тела матери, чтобы быть погребенным, значит, мой ребенок был живым?
И еще я думал: …то, что я оставил Риетту, – разве это поступок действительно достойный Иуды, и он ляжет на моих детей до третьего и четвертого колена? Может быть, поэтому мой сын, еще не вступив в этот мир, подобно Иуде сам себя задушил?
21 ноября 30
Мы хоронили его на следующий день (моя теща и я, вдвоем) в маленьком деревянном ящичке, который я сколотил из выструганных дощечек, под густым мокрым снегопадом у задней стены кладбища. Без молитвенного напутствия, разумеется, а все же в освященную землю.
Сегодня Анна непременно хотела пойти со мной на кладбище – взглянуть на могилку. Она от нас в нескольких сотнях шагов. Тем не менее спустя неделю после всего происшедшего это оказалось для нее не так легко. Хотя ее относительно неплохое физическое состояние удивляло меня меньше, чем, как бы сказать, ее душевное равновесие. Наше горе, кажется, ее совсем не угнетает…
Конечно, я не стал ей говорить о Риетте или о своих страхах перед ветхозаветной местью. Однако q том, что несчастье с нашим ребенком могло быть в какой-то необъяснимой связи с судьбой Тимо – поскольку ребенок поторопился родиться в один с ним день и, может быть, именно поэтому и не родился, – об этих своих домыслах я Анне говорил. Говорил на обратном пути с кладбища, когда она в пятидесяти шагах от наших ворот, несмотря на падавший снег, еще раз присела отдохнуть на придорожный камень. Когда же мы, дойдя до ворот, вошли в дом и Анна легла в постель, она позвала меня. Я сел возле нее на кровать. Она взяла мою руку и стала ее гладить, а я почувствовал, что скорее мне бы следовало ее утешать… Она придвинулась поближе ко мне и сказала:
– Якоб, не надо так думать. Такое несчастье и прежде слишком часто случалось, чтобы за ним искать неведомо какой смысл. Просто мы должны просить господа и надеяться. Чтобы в будущем он даровал нам больше счастья… И если ты меня и дальше будешь так же любить, как до сих пор…
Я почувствовал, как вздрогнул от ее самообольщения… Потом я внимательно всмотрелся в ее лицо и увидел: за эти дни, измученная родами и изменившаяся, она каким-то чудесным образом будто от чего-то освободилась… Ее странная усталая свежесть стала теперь еще прозрачнее и еще пленительнее и – боже правый, – в еще большей степени, чем прежде, и ее собственной, и Риеттиной… И я ощутил, что, хотя она еще продолжала кровоточить, мы оба хотим – вопреки воле господа или по воле его – возможно скорее снова сделать попытку…
26 декабря 30
Сегодня после полудня Ээва приезжала к нам в гости, и я запишу некоторые рассказанные ею новости, пока я их не забыл.
То, что Тимо отказался от тщательно подготовленного нами бегства, заставило Эльси поверить, что в какой-то мере он действительно не в своем уме. Ну, я думаю, что она не поверила бы в это так легко, если бы ее собственное участие в истории с его бегством было бы чуточку более сторонним… Чем больше наше личное участие в каком-либо намерении, тем более слепым мы считаем того, кто это намерение отвергает. Знаю по собственному опыту. Ибо моя доля в подготовке бегства Тимо была действительно самой большой… и я был первым, кто назвал его глупцом…
Кроме того, Ээва сказала, что теперь, когда маркиз Паулуччи оставил царскую службу и уехал из России и генерал-губернатором Прибалтийских провинций назначен господин фон дер Пален, кажется родственник того старого Палена, Тимо разрешил семье, когда она сочтет нужным, обратиться с прошением на имя генерал-губернатора. Потому что Палена Тимо считает человеком более достойным, по крайней мере в сравнении с Паулуччи. И Эльси написала такое прошение, и по ее настоянию Петер его подписал. Ибо после того, как Эльси поверила в болезнь Тимо или во всяком случае усомнилась в том, что он вполне в здравом уме, она поставила себе задачу все-таки осуществить отъезд Тимо за границу. Но сделать это законно, с высочайшего разрешения. При этом условии, как считает Эльси, Тимо должен согласиться. Кстати, я очень хорошо понимаю такую готовность Эльси действовать при тех напряженных отношениях, которые создались между братом и мужем, однако полагаю (и Ээва считает так же), что в согласии Тимо нельзя быть вполне уверенным… Так или иначе теперь они написали Палену, и содержание письма примерно таково: умственное расстройство их брата и родственника весьма безобидно и неопасно, в его состоянии наступают моменты полного просветления, в силу чего при длительном и правильном лечении можно твердо надеяться на полное выздоровление. Поскольку же средства брата весьма ограниченны и не позволяют рёгулярно приглашать к нему врачей из Таллина или из Пярну в его вынужденно отдаленное местопребывание, они просят разрешить ему временное, проживание в Таллине или в Тарту, лучше именно в Тарту, где благодаря наличию университета имеются особенно сведущие врачи. В этом же письме они просят милостиво отнестись к прошению, с которым семья из естественного желания выполнить свой святой долг намерена вскоре обратиться, то есть к просьбе разрешить Тимо в сопровождении близких с целью окончательного выздоровления поехать в Германию, например, в Кётен, чтобы пройти там курс гомеопатического лечения у знаменитого доктора Ханемана. Ибо, как всему просвещенному миру известно, курсы лечения у доктора Ханемана именно при такого рода заболеваниях, как у господина Бока, показали самые блестящие результаты…