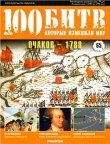Текст книги "Императорский безумец"
Автор книги: Яан Кросс
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 30 страниц)
Господин Латроб торопливо выпил с нами кофе. Ээва и госпожа Альвине сидели рядом на диване и говорили о детях и детской ветрянке. Ээва учила Альвине опыту недавнего ухода за болевшим Юриком, какое лекарство следует прикладывать к оспинкам. И госпожа Альвине старательно и подробно ее расспрашивала. Мне казалось, что внимательность (ведь ее муж был как-никак окончившим университет медиком), с которой она слушала, – сознательно или нет – должна была свидетельствовать о ее покорности господу… Ибо госпожа Альвине уже давно была в числе тех дворянских жен, которые за последние десять лет – одни медленнее, другие быстрее – все же стали Ээву признавать. Альвине была почти что вынуждена следовать примеру своего Йоханна. Потому что господин Латроб оказался одним из первых мужчин в приходе, который еще десять лет тому назад воскликнул: «Мои дамы и господа! Тот из вас, кто не питает уважения к госпоже фон Бок, тот попросту или осе-ол! Или осли-и-ца! Соответственно!»
Господин Латроб выпил кофе, сел за фортепиано, и старая зала в Кивиялге с ее маленькими окнами закачалась в ритмах менуэта. И казалось, что непреклонные семейные портреты, рядами развешанные на коричнево-белых полосатых обоях, танцевали под эту музыку. Господин Латроб играл собственные сочинения, сочинения Боккерини[43]43
Боккерини Луиджи (1743–1805) – итальянский виолончелист и композитор, писал галантно-развлекательные концерты и камерную музыку.
[Закрыть] и Моцарта, потом снова свои, играл с таким вдохновением, что, когда слуга Кэспер зажег в канделябрах на фортепиано свечи, стало видно, что лоб у маэстро мокрый. Через час он вытер шелковым платком свое костистое лицо, поцеловал Ээве руку, взял Альвине под руку и, еще раз извинившись, ушел.

Когда они удалились, Ээва распахнула в зале окна, потому что к вечеру стало душно. Но и в саду не ощущалось прохлады. Мы стояли втроем у открытого окна и смотрели на лилово-серую грозовую тучу, появившуюся за пивоварней над лесом. Ээва спросила:
– Что сегодня было с господином Латробом?
Очевидно, женщины чувствуют такое лучше, чем мужчины. Я, например, ничего особенного в Латробе не заметил. И Тимо, глядя на тучу, сказал:
– Ничего. А что с ним могло быть? За исключением того, что у него нет основания особенно хорошо себя чувствовать. В его положении вынужденного арендатора.
– Не знаю, – сказала Ээва. – Мне показалось, что у него еще что-то на душе…
Некоторое время мы разговаривали. Когда раскаты приближающейся грозы стали слышнее и сумерки задрожали от первых молний, Тимо встал и закрыл окна. Я подумал: интересно, неужели он, в шестидесяти сражениях смотревший смерти в глаза, в самом деле боится грозы? А он, будто прочитав мои мысли, сказал:
– Я сам удивляюсь… Я ведь немало бывал среди свиста ружейных пуль и разрывов картечи. И я всегда испытывал только какое-то, ну… опьянение и несколько болезненное любопытство: заденет или не заденет? А теперь перед обыкновенной грозой мне так душно и скверно, что только немногого недостает, чтобы сказать – страшно…
Мы слышали, как упали первые капли. И сразу хлынул ливень. Тут же послышались быстрые шаги и сильный стук в дверь. Кэспер кого-то впустил. Мы обернулись. В дверях стоял господин Латроб. Его седые локоны намокли, и плечи почернели от воды. Он на одном дыхании сказал:
– Простите! Неожиданный ливень… Я уложил Альвине. Она устала с дороги… О-о, господь бог играет Бетховена… – Это относилось к раскатам грома, которые разразились над домом. – Видите ли… мне хотелось бы с вами поговорить! – Он посмотрел на Тимо и Ээву.
– Прошу вас, – сказал Тимо. – Между нами троими тайн нет.
Эти слова пришлись мне по сердцу, И взволновали меня. Я остался, хотя было уже поднялся, чтобы уйти. Кроме того, мне показалось, что слова Тимо были чуть-чуть нарочиты, чтобы подзадорить господина Латроба. Разумеется, если бы господин Латроб попросил о разговоре с глазу на глаз с Тимо, тот несомненно согласился бы. Но господин Латроб только бросил на меня близорукий беглый взгляд и глухо сказал:
– Хорошо. Все равно… – Он подсел к нам, опустившись на кончик стула. При свечах я видел, что на лице у него были капли дождя, а может быть, и пота… И вдруг он заговорил прямо исступленно, – Видите, я пошел на это! Поймите, ведь в сущности я даже не дворянин. Я же иностранец, которого можно выслать из страны, если он не согласится… Теперь, когда я несу ответственность за жену и детей. Я говорю детей. Потому что у нас должен родиться второй… Я согласился! Но только при одном условии.
– Я знаю, – сказал Тимо, – только при условии, что вы будете самым корректным арендатором во всей Лифляндии.
– Я говорю не о поместье, я говорю о вас, – воскликнул господин Латроб почти до неприличия громко. – Я согласился писать по поводу вас донесения. Понимаете. Два раза в месяц. Генерал-губернатору или кому-то еще. Не знаю кому. У них там теперь есть какое-то Третье отделение с Бенкендорфом во главе. Но только при одном условии!
Тимо сказал с некоторым удивлением:
– И они приняли ваше условие?
– Господи боже, да не им же я поставил это условие! Себе самому!
– И вы решили сказать нам, что это за условие?
– Да-да! Именно! Непременно!
– Какое же?
– Условие, что вы будете предварительно читать каждое мое донесение. Зачеркивать все, что не годится. И сами добавлять, что найдете нужным. Понимаете, я решил, что ведь все равно кого-то поставят их писать. И какой модус был бы для вас лучше? – Господин Латроб повернулся к Ээве – Скажите, madame, какой модус был бы для вашего супруга лучше?!
Ээва на миг закусила губу. Я видел, как поднялись у нее брови и загорелись глаза. Она медленно произнесла:
– …Это в самом деле был бы великолепный выход. Я представляю себе… Только…
– Только я не могу на это согласиться, – сказал Тимо совсем тихо.
– Вы… не можете? – переспросил господин Латроб очень испуганно.
– К сожалению, – сказал Тимо. – Господин Латроб, прежде всего это было бы недоверием к вам. Во-вторых, я не скрываю, что считаю важной и другую сторону – это была бы не только помощь, но и обман. По отношению к присутственному месту, которому я не желаю помогать, но которое не хочу обманывать.
– А… как же тогда я?.. – Господин Латроб спросил как-то даже по-детски… я не понял, что именно он имел в виду. Тимо сказал мягко:
– Вы будете писать то, что вам подскажет совесть. Когда человек пишет то, что ему велит совесть, то не возникает никаких нравственных проблем. И мы спокойны, что наши интересы в руках честного человека.
– Нет-нет-нет… Господин Бок… О боже… Это очень просто. Но все гораздо сложнее… Поверьте мне! Вы с вашим опытом, вы же должны это знать… – Господин Латроб встал. Он подошел к Тимо. Он поднес руки со скрещенными пальцами к разлетающемуся банту своего серо-бело-полосатого галстука. Он сказал упавшим голосом – Господин Бок… я прошу вас… Иначе… Госпожа Ээва, может быть, вы…
– Нет! Ни я, ни она! – Тимо сказал это вдруг взволнованно и с металлом в голосе. И сразу смягчился, добавив – Господин Латроб, не причиняйте себе лишнего беспокойства. Мы совершенно уверены, что вы будете писать о нас донесения насколько возможно благоприятные. Но я знаю, если бы мне нужно было вам помогать, – (по тому, как сперва – стих, а потом снова усилился его голос, было понятно, что он искал убедительный аргумент и нашел его), – я знаю, это взвешивание, что можно и чего нельзя, эти связи настоящего с прошлым и будущим – скверно отразились бы на моем здоровье. Может быть, даже фатально. Вы как врач…
– Боже упаси, господин Бок, я – я просто осе-о-ол! Как же я об этом не подумал…
Господин Латроб, извинившись, ушел. Пять минут мы «сидели молча. Гроза удалялась, в северных окнах залы сквозь мокрые заросли шиповника сверкали лиловые молнии, и гром гремел уже где-то за Пыльтсамаа. Ээва сказала:
– Я думаю, что Якобу следует в конце этого месяца съездить в Пярну и посмотреть, как там обстоит с кораблями.
Понедельник, 25 июля
Осенью 1818 года мы с Ээвой уже давно вернулись из Риги, и Георг, получив в полку отпуск, опять приехал домой, отчасти, быть может, для того, чтобы находиться здесь во время родов невестки на случай, если понадобится помощь. Сентябрь был на исходе. Я помню, как будто это было вчера, происходивший между нами разговор по поводу графа Штединка, того самого, который соизволил швырнуть в неизвестность, туда, где находился Тимо, в подарок ему шестьдесят тысяч.
Помню, мы сидели за завтраком в столовой большого барского дома, и Ээва спросила Георга (по-французски, чтобы не понял слуга), кто же этот граф Штединк. Я предполагал, что Георг сразу же внесет ясность и мы узнаем, что это кто-нибудь из старых знакомых семьи, хотя мы о таком никогда не слыхали. Но к моему удивлению Георг сказал:
– Граф Штединк? Ерунда!
– Почему? – спросила Ээва.
– Единственный граф Штединк был военачальником шведской армии в тринадцатом году. С ним у Тимо ничего общего не было. Штединки – шведский род. Все остальные Штединки – бароны. Будьте любезны! Этот единственный граф Штединк был при Павле шведским послом в Петербурге. Кстати, ему-то Павел и сказал свои знаменитые слова: «Каждый человек имеет значение, поскольку я с ним говорю, и до тех пор, пока я с ним говорю». Штединки, конечно, могут быть в России еще. Только не графы.
Я в нескольких словах рассказал Георгу о сообщении главного фискала. Я сказал: «Но кто-то должен стоять за этим именем. Кто же это?»
Георг налил себе и мне еще по кружке хорошего густого пива Михайлова дня, выпил и тыльной стороной руки провел по своим темным усам. Не знаю, почему он сказал все то, что сказал. Наверное, хотел внушить нам, что его брат, несмотря на его странную женитьбу и репутацию преступника, личность необычайная. Может быть, Георг хотел прежде всего в очередной раз сказать это самому себе. Бог его знает. Во всяком случае, он бодро, с офицерской хваткой выпил кружку до дна, велел слуге налить ему еще и стал говорить по-французски, но на всякий случай, когда слуга вышел из столовой.
– Madame, вы несомненно должны были слышать разговоры, которыми петербургские светские трещотки старались в свое время испортить вам настроение. От зависти и из женского любопытства, в силу чего подобные разговоры и возникают. Что Тимо будто бы ходил свататься к Марине Нарышкиной и получил отказ. Слышали ведь?
– Слышала, конечно, – сказала Ээва, подняв глаза от крохотных носочков, которые вязала. – В пятнадцатом году это как будто было…
– Ну да! – сказал Георг. – Но вы, должно быть, считали, что это просто злая выдумка. Ибо иначе зачем же тогда понадобилось бы Тимо отправлять вас учиться к пробсту Мазингу? При прямолинейности его действий?
– Этим я себя и утешала, – сказала Ээва.
– И все же, madame, в этих разговорах была правда. Только правда шиворот-навыворот, само собой разумеется, – продолжал Георг с удовольствием человека осведомленного. – Вы оба наверняка знаете, чья она дочь, эта Марина Нарышкина?
– Доводилось слышать, – сказала Ээва.
– По материнской линии она дочь фактической жены императора. Но вот Нарышкин ли ее отец, этого и сам сатана не знает. Ибо что касается ее младших сестер – одна умерла году в пятнадцатом, а второй сейчас двенадцать, – то все знающие люди считают их дочерьми не Нарышкина, а царя. Так что эта самая Марина (она вышла теперь замуж за графа Гурьева, о чем вы, наверно, слышали), эта Марина, во всяком случае, почти член царской фамилии. Даже больше то-, го, цари к своим детям часто бывали весьма нетерпимы, а к этой, ну, скажем, своей падчерице, император относился так по-отечески заботливо, будто Марина в большей мере, чем ее сестры, была его ребенком…
Я помню, мы сидели за утренним завтраком; в просветы между Ээвой, Георгом и самоваром в полосатом от тумана окне уже по-осеннему выглядел коричневый сад, в котором девушки срывали последние ярко-багровые яблоки и складывали их в берестяные короба. Оторвавшись от своих носочков, Ээва спросила:
– И какая же правда – прямая или шиворот-навыворот – была в этом?
– А та, – сказал Георг, – что план поженить Марину Нарышкину и Тимо в самом деле в то время существовал.
Ээва поглядела на Георга. Его глаза на бледном, слегка поблекшем сейчас лице стали особенно темными. Но она ничего не сказала. Она ждала от Георга пояснений.
– Да-да! – сказал он после паузы (он ведь был подполковником гвардии, он умел ходить с эффектной карты). – Существовал такой план. Но это был не план Тимо, а самого царя. И не Марина отказалась, а Тимо отшатнулся, когда понял намерение императора. Ибо его избранницей уже были вы. И я скажу от чистого сердца, о его выборе можно резонерствовать и так, и этак. Особенно если подходить к нему с точки зрения общих правил, не правда ли? Непреодолимая сословная бездна. Но факт остается фактом. Тимо переступил через нее. В обществе, конечно, это подавали как следствие отказа m-lle Нарышкиной. Иначе было невозможно. Иначе пришлось бы признать, что флигель-адъютант, полковник фон Бок отказался, можно сказать, от падчерицы императора – и ради кого? Кхм… И те, кто говорил, из них ведь никто вас, madame, собственными глазами не видел… Однако что из этого явствует и что я хотел этим сказать? Что в свое время император считал вашего мужа близким себе человеком и захотел приблизить его к своей семье!
Ээва молча перебирала спицами. Я сказал:
– Что касается выбора, который сделал Тимо, то цари сами подали ему пример.
– Кого вы имеете в виду? – спросил Георг.
– Да хотя бы Петра Великого. Он ведь тоже женился на…
Георг воскликнул:
– Якоб, вы меня все больше и больше удивляете! Это был самый великолепный аргумент Тимо. Когда он задумал жениться на Ээве, ему как офицеру полагалось получить согласие императора. И он написал царю: «Я полагаю, что ваше величество не может иметь ничего против брака, в некотором смысле и неравного, поскольку самый почтенный предок вашего величества всем другим предпочел девушку из простого народа…» Разрешение он получил, это так. Но его дерзкий аргумент с быстротой молнии «стал известен в придворном обществе. Кстати сказать, уже тогда в связи с этим были брошены в почву первые семена слухов, будто Тимо не в своем уме.
Зава сказала:
– Господин Георг, вы все это рассказали, для того чтобы подойти к графу Штединку?
Надо сказать, что напиток нашей выйсикуской пивоварни – зелье весьма внушительное. Не выпей Георг после легкого завтрака трех кружек, он, возможно, не стал бы, во всяком случае на первых порах нашего знакомства, не стал бы говорить того, что он сказал. На какой-то миг он сдвинул усы влево и зажмурил левый глаз:
– За этим графом Штединком не кто иной, как сам император. По-моему, Тимо должен был совершать большие траты, вращаясь среди Нарышкиных и им подобных. Государь знал об этом и его долги тех лет взял на себя.
– Поразительная милость!.. При том, сам он бог весть куда загнал Тимо… – Признаюсь, это вырвалось у меня непроизвольно, потому что я взял себе за правило (и уже давно) не комментировать вслух того, что слышу.
– Милость? – передразнил Георг. – Ну, скорее это попытка снять тяжесть с души. Попытка откупиться за шестьдесят тысяч…
Ээва расправляла бело-голубую полоску носочка на спице и рассматривала ее. Потом взглянула на Георга:
– Во всяком случае мне приятно, что вы относитесь к Тимо… с прежним уважением.
– К Тимо – несомненно, – сказал Георг. – И к вам, madame, тоже. К вам с новым уважением. – И добавил, что он тоже вряд ли сделал бы, не будь этого зелья, во всяком случае с такой непосредственностью, как у него получилось – В сущности, madame, я не умею к вам относиться… Вы слишком противоречите всем правилам. Однако… я начинаю понимать выбор Тимо.
Это было, надо сказать, со стороны Георга просто не по-баронски мило. Особенно в этой волне злобного злорадства, клочья пены которой, случалось, докатывались до нас из прихода и из более отдаленных мест. Неделю спустя, когда Ээва родила мальчика, Георг был еще здесь. И на крестинах он стоял в полной парадной форме и даже сам держал на руках малютку, когда приглашенный пастор Рюккер в этой самой желтой гостиной обрызгал водой рыжеватую головку младенца, и мальчик захныкал, а дядя Георг поднес его к своим усам и нечаянно при этом до крови оцарапал ему щечку Георгиевским крестом, так что ребенок совсем раскричался. Будто протестовал против того, что в честь дяди и крестного отца да вдобавок еще и деда его нарекли Георгом.
Через несколько дней дядя Георг уехал, взяв с собой в Петербург письмо Ээвы к Тимо. Письмо с сообщением о рождении сына для дальнейшего препровождения через начальника главного штаба князя Волконского бог его знает куда. Или для навечного желтения неизвестно в каких сверхтайных архивах с нацарапанной по царскому повелению пометкой: «Не разрешать!» Господи, да ведь Ээва уже отправила Тимо не меньше дюжины писем. Все, как ей было сказано, тому же князю Волконскому, для препровождения государственному преступнику. И все они бесследно исчезли, словно в бездонном колодце. Хотя все эти письма, насколько я мог судить по черновикам, которые она мне иногда показывала, были не только необыкновенно искусно написаны, но, по правде говоря, исторгали у меня слезу:
«Мой дорогой, я знаю, ты делаешь все, что в твоих силах, чтобы вернуться к нам. И ты знаешь, что ни одного шага, который не допускают твои убеждения, я от тебя не жду. Ты знаешь, как я была с тобою во всех твоих рассуждениях в наши счастливые месяцы, так же твердо я вместе с тобою и сейчас и пребуду во веки веков. Мой любимый, я немножко боюсь наступления трудного часа, как, наверно, боится каждая женщина, которая в первый раз к нему приближается. Но я знаю, что скоро мне станет легче: пусть ты и далеко, но ты неотъемлемо будешь со мной в нашем ребенке…»
Я спросил: «Ээва, ты считаешь, что стоит так писать: «я была с тобою во всех твоих рассуждениях»? Ведь ты тем самым объявляешь себя его единомышленницей. Понимаешь? Согласной со всеми его дерзостями. Если он в самом деле говорил их императору. Как некоторые утверждают. Это тебе совсем бы не нужно».
Ээва посмотрела на меня: «Знаешь, я об этом думала. Опасность, что они меня за эти слова станут впутывать, очень невелика. Насколько я могу судить. И со мной пусть будет так, как будет, – но это нужно Тимо. Чтобы он чувствовал, что кто-то у него все-таки есть, кто не станет упрекать его. Хотя бы одна-единственная душа…»
Вторник, 26 июля
Я перечитал вчерашнюю запись. Ну, осенью восемнадцатого года Ээва все-таки еще не была единственная, кто не делал Тимо упреков. В то время и я его еще ни в чем не упрекал. И еще много позлее – тоже. Вплоть до минувшей недели. По крайней мере не так, как сейчас. Ибо сейчас доказательства его неоспоримой вины невероятным образом оказались у меня на столе.
Да, я снова принес бумаги Тимо к себе на стол.: Ибо все, что произошло с нами вечером в позапрошлую среду (я имею в виду разговор с господином Латробом), и все, что происходит с нами изо дня в день, корнями восходит к этим пожелтевшим листам. И кому известно их содержание, тот, бог мой, тот уже не может поражаться всему, что с нами происходит. Удивляться можно лишь одному: сколь поразительно перемешаны безумие и здравомыслие в душе и в уме моего зятя. И не только безумие и здравомыслие. Но и баронская узость, и человеческая широта видения. И то и другое одновременно. Вот как он пишет:
Рабство – установление и безрассудное и возмутительное…
Да-да. Это правда. Тем не менее, когда он пишет о своих предках, то пытается их выгородить.
Шестьсот лет прошло с тех пор, как наши предки поселились здесь на побережье, в соответствии с духом того времени они были доблестные и храбрые поборники христианства. Никто тогда еще не думал о международном праве, эти воинственные провозвестники веры считали, что идут святым путем, обещая неповинным коренным жителям вместо земного счастья и свободы вечное блаженство…
Только в самом ли деле они думали, что идут святым путем… Меркель[44]44
Меркель Гарлиб Хельвиг (1769–1850) – прибалтийский демократический публицист и просветитель.
[Закрыть] не считает, что они так думали. И я этого тоже не считаю. Я полагаю, что, если мой зять так о них думает, он, оказывается, более наивен, чем ему следовало быть.
В ту пору, когда рыцарей в их взаимных отношениях воодушевлял редкий для того времени дух чести и свободы, коренное население оказалось в ужасающем рабстве…
Этого он не скрывает. И он не считает, что винить в этом следует дикость населения. Как это делают те немногие немцы, которые вообще порицают порабощение местных жителей. А все же вот что он пишет:
Рыцари не видели в эстонцах и латышах себе подобных созданий, точно так же, как в Древнем Риме раба считали просто укрощенным диким зверем…
Хорошо. Только мой зять не замечает при этом, как он нравственно пристраивает своих соплеменников так, чтобы на них падала могущественная тень древних римлян! Как сияние их славы по его воле отражается на его соплеменниках, он отнюдь не задается вопросом: разве не должно быть коренного нравственного различия между бездушными язычниками, жившими на основе права сильного, и носителями учения христианского милосердия?!
Правда, о себе он здесь пишет:
Я не принадлежу к тем, кто мучит людей. В моем доме все свободны. Любого обездоленного раба я считаю своим ближним, своим братом, которого, как и меня, Господь создал для того, чтобы стремиться к достойной жизни… Я не принадлежу к тем вызывающим сожаление дворянам, благородство которых ограничивается их гербом и чье убожество скрыто под смехотворными румянами бесстыдства. Господа, вам всем известно, кого я избрал себе женой…
А об освобождении лифляндских крестьян, что десять лет назад было самым животрепещущим вопросом, об этом он пишет здесь столь странные вещи, что в первый момент это меня даже от него оттолкнуло.
Господа, если в результате преждевременного освобождения крестьян мы с вами и не будем испытывать трудностей, то я призываю вас подумать над тем, что выиграют крестьяне, когда увидят, что лишились защиты своего хозяина…
Боже мой, неужели Тимо на самом деле не понимал, что если он при его донкихотстве, может быть, и был крестьянам в какой-то мере защитой (до тех пор, пока сам был на свободе), то остальные помещики – девяносто девять из ста, ну ладно, девяносто пять из ста – каждый по-своему был угнетатель, грабитель, мучитель и кровопийца par excellence?[45]45
По преимуществу (франц.).
[Закрыть] Неужели он этого не понимал? А ведь сдается, что и в самом деле не понимал. Потому что он пишет:
Наша добрая воля в вопросе освобождения крестьян завела нас слишком далеко, и дальнейших шагов мы делать не будем. Ибо вопрос ведь не в том, чтобы вскружить крестьянину голову пустым словом воля, а в том, чтобы утвердить благосостояние народа на твердой основе, при которой землепашец не утратит своего места…
Разумеется, та воля, которую вы десять лет назад дали нашим крестьянам, в большой мере осталась пустым словом. Никак не пойму, чего же все-таки хотел мой дорогой зять? Потому что он пишет:
Императору нужно освобождение крестьян лишь как повод для того, чтобы уничтожить то единственное сословие нации, которое до сих пор оказывало сопротивление крайностям тирании… Находясь во главе наших крестьян, мы нашли бы у них, если бы понадобилось, поддержку, чтобы силой выступить против насилия… (Господи, что за мысль!..) Мы все со стародавних времен воины Нам не занимать стать храбрых и умелых офицеров, и шесть лет назад мы красноречиво показали, как крестьянство создавало земские войска и как оно формировалось в полки. Наши крестьяне, само собою понятно, против нас. Мы можем рассчитывать на их поддержку только в той мере, в какой мы, будучи честными судьями и справедливыми господами, сумеем заслужить их почтение, уважение и любовь, если будем к ним относиться по-отечески. Иначе, как я уже сказал, мы рано или поздно превратимся в стадо семьи Романовых…
Мысль, что лифляндское дворянство могло бы во главе какого-то войска с оружием выступить против правительства, сама по себе дерзновенна… Особенно высказанная человеком, который тут же пишет, что он вовсе не мятежник и что цель его не производить революции, а воспрепятствовать грозящей революционной вспышке… Да-да, наверно, и мызники по-своему чувствуют, что правительство применяет к ним насилие. Хотя, по-моему, их лелеют в пуховых подушках… Но удивляюсь я не дерзостности его мысли о сопротивлении, а трагической наивности и смехотворности ее. Пугающей превратности его знания жизни. Той глупой вере, которую при его образованности и опытности трудно от него ожидать: будто помещик каким-либо способом может завоевать любовь крестьянина… Полки лифляндских крестьян под началом офицеров из почитаемых и любимых ими господ помещиков… Представляю себе: неутомимые, храбрые полупартизанские части серого крестьянства, с восторгом читающие в глазах своих замечательных офицеров приказы и бросающиеся выполнять их, прежде чем они высказаны… И замечательные офицеры (честные судьи и по-отечески заботливые господа!), мундиры которых пестреют орденами двенадцатого года, поднявшиеся на защиту рыцарского союзного договора, на гарцующих конях через своих кильтеров и бурмистров командующие ратью храбрых рабов: «Ребятки! Мушкеты на прицел!» (Другого оружия, кроме мушкетов времен Семилетней войны, у этого войска все равно бы не было.) «Мушкеты на прицел… по войскам царя-узурпатора… Feuer!»[46]46
Огонь (нем.).
[Закрыть].
Милый мой Тимо, я скажу тебе, если взаимное уважение и любовь между мызником и крестьянином единственный для твоего племени выход (а Бог знает, может быть, иного для вас в самом деле и нет), то вы все – обреченное на смерть общество. Да, общество, которое уже давно само себя обрекло. Ибо над пропастью, за шестьсот лет выкопанной между крестьянином и помещиком, не перекинет мост никакая небесная или земная сила. Даже если бы одни с одной, а другие с другой стороны бездны своим разумом стремились навести этот мост. Ибо даже если бы они днем перебрасывали над ней балки и устанавливали опоры для пролета, все равно ночью, во сне, подобно лунатикам, они становились бы по обе стороны этой бездны и под воздействием слепого естества разрушали то, что своими руками сделали днем…
И все же… Муж моей сестры, во всяком случае в своей личной жизни, перекинул мост через эту пропасть. Правда, даже за это он заплатил тем, что его признали безумным. Тем не менее, насколько я могу судить, он нашел свое счастье. И я вынужден признать: не произойди того, что с ним произошло по политическим причинам, моя неистовая сестра была бы с ним счастлива. Вопреки всему тому дикому противостоянию, которое их окружает. И вопреки всей той внутренней недопустимости брака, откуда это противостояние и черпает силу. Мой зять справился с наведением моста. И если это признать, то следует сказать: из его поступка во все его бредни проникает некое чудесное, незащищенное, не допускающее отрицания зернышко правды… Смехотворное, конечно, а все же невытаптываемое.
Четверг, 28 июля
Сегодня ночью видел сон. Я на этих страницах стараюсь не писать о совсем личном. Но это сновидение, каким бы оно ни было глупым, в какой-то мере порождено обстоятельствами нашей странной жизни.
Я видел, будто Риетта пришла ко мне в спальню, сюда в Кивиялг. После ее отъезда, а с него прошло уже полтора месяца, я старался о ней не думать, и против ожиданий мне это удавалось. Я не написал ей ни одной строчки (я даже не знаю, куда я мог бы адресовать письмо). И она, хотя ей известно, где я нахожусь, мне не писала. И так лучше.
Сегодня под утро она вошла в мою спальню. Точно такая, какая она есть. Какой бывала в радостные минуты. В руке она держала белый узелок, и ее бело-голубое в черных точечках платье оставляло дразняще открытыми стройную шею и полные плечи. С милой улыбкой она развязала свой узелок. Но то, что она вынула из белого платка, – вздрогнув от ужаса, я заранее это почувствовал – не была половинка миндального кекса. Это была голова императора Александра с очень бледным, почти белым лицом, может быть, из гипса, но с кровоточащей шеей… Риетта сказала:
– Видишь, Якоб, мой отец мертв. Теперь уже нет ничего, что могло бы тебе препятствовать…
Она поставила не то императорскую, не то отцовскую голову на овальный столик перед диваном, и я подумал: теперь она запачкает мой стол кровью, и если кто-нибудь это заметит, то только один Бог знает, что может произойти… Когда я повернулся к ней, чтобы высказать ей упрек, то тут же умолк от радостного испуга. Именно от радостного испуга, я помню. Потому что Риетта высоко перешагнула через ворох упавших с нее на пол одежд. Она была ослепительно обнажена и в воздухе между нами держала белый платок, чтоб я не видел ее лица, она подошла ко мне и бесстыже села на меня верхом… Какой бред!
Пятница, 29 июля
В сущности, я хотел вчера записать здесь совсем другое сновидение. Не свое, а Тимо, которое он мне позавчера рассказал. Когда Ээва уже после ужина опять позвала меня к ним, чтобы обсудить вопрос о моей поездке с целью рекогносцировки, о чем я уже писал. Мы взвешивали и так и эдак и решили, что во второй половине августа я съезжу в Пярну.
Наше совместное обсуждение тайного плана второй раз за последние два с половиной месяца создало между нами близость, которой я прежде не ощущал. Как и в прошлый раз, когда мы об этом говорили, так и вчера я не смог пересилить своего любопытства. Все же я не решился – что было естественно – спросить прямо: Тимо, скажи, за что они все это с тобой сделали? Ибо, черт его знает, кто бы он ни был – помещик не помещик, безумец не безумец, преступник не преступник, свояк мне или не свояк, но уже в силу того, что с ним случилось, как-то нельзя быть с ним иначе, как честным… или по крайней мере более или менее честным… И сейчас, когда я несколько сомнительным путем узнал, за что покарала его судьба, я уже не могу изображать перед ним незнание или начать его спрашивать о том, что мне известно. Поэтому я связал свой разговор с тем, о чем он сам в прошлый раз счел нужным рассказать. И когда мы закурили третью трубку, я сказал:
– Эта история с присылкой тебе фортепиано, о чем ты говорил – помнишь? – я думал о ней – все-таки это весьма странно… А приходилось тебе испытывать там в Шлиссельбурге еще какие-нибудь… императорские чудачества?
Мне показалось, что от моего вопроса Тимо слегка побледнел. На Ээву я старался не смотреть, чтобы не встречаться с ее наверняка укоризненным взглядом. Тимо встал и, окутанный дымом, начал ходить взад и вперед. Он закрыл окно в сад и подошел к нам. Ой сказал:
– Приходилось. Хотя я уже не совсем уверен, что там действительно происходило и что мне мерещилось, – учитывая мое безумие…
И он рассказал нам о первых годах жизни в Шлиссельбурге. Вплоть до этого его сновидения. Ибо я все же отказываюсь верить, что это был не сон, а что-то иное… Рассказ Тимо настолько удивительный, что я постараюсь записать все так, как он говорил: