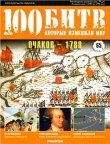Текст книги "Императорский безумец"
Автор книги: Яан Кросс
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 30 страниц)
Ее папенька продолжал:
– Зимой Риетта живет в Риге у моей сестры и учится в школе для девочек m-lle Фрибе. А тут занятия уже заканчивались, и я повез директрисе кое-какие гостинцы – окорока, несколько банок маринованных грибов et cetera – сами понимаете, – она мне пожаловалась, что Риетта в этом году стала сильно отставать. Нет-нет, она девушка вообще-то сообразительная и живая. Да вы, должно быть, и сами это заметили. А вот со счетом голова у нее не смогла справиться. Да еще с историей Российской империи. И если Риетта собирается с осени учиться дальше в приме[8]8
Прима – старший класс.
[Закрыть], то ей следует летом все это нагнать, и лучше, если это будет происходить под наблюдением умелого и знающего человека. И вот, едучи обратно, я подумал: может быть, вы, господин Меттик, не откажетесь взять на себя этот труд? Вы хотя и не прошли университета в Тарту или где-нибудь в Германии, но, как я вижу, в сравнении с большинством тех, кто там учился, вы много умнее. Мне думается, что вам не так уж трудно было бы найти для этого время, отказавшись на несколько часов от ваших книг. Если вы не погнушаетесь серебром простого управляющего, я хорошо бы вам заплатил. Серьезно. И Риетта была бы вам глубоко благодарна.
С чего мне было отказываться? Я получу кое-какие деньги, которыми не буду обязан Ээве. И Риетта будет мне благодарна… Я спросил:
– А вы не говорили с доктором Робстом? Я думаю, что он больше подошел бы. Он окончил немецкий университет и даже преподавал в школе.
– Да-да. Он наверняка знающий доктор, – сказал Ламинг, – он вполне подходит, чтобы учить маленького Юрика французскому языку и прочему. Но в качестве учителя для взрослой девушки – нет. Да вы и сами, должно быть, обратили внимание. Он – человек, не знающий меры, неуравновешенный. Вместо того чтобы ступать на всю ногу, он ходит на цыпочках и, вместо того чтобы говорить, поет… Нет-нет. Учитель не должен быть в глазах ученика смешным. Ученик должен смотреть на учителя с уважением, снизу вверх. Только так, как на вас смотрит Риетта… Это я знаю…
Тогда я сказал: «Хорошо. Попробуем». Сегодня в шесть часов Риетта придет ко мне, и я начну ее репетировать.
Спустя час
Ничего за это время не произошло. Я слегка прибрал в комнате и увидел, что до прихода m-lle Риетты остается еще два часа, которые решил посвятить дневнику.
Итак, мы с Ээвой приехали в Виру-Нигула и почти четыре года прожили у старого Мазинга. Мы с ней были похожи на бутылки, поставленные под воронки, мы давали вливать в себя все, что только в нас хотели влить, и вдобавок еще и сами добавляли, что могли.
Почти с первых же дней в доме Мазинга нам полагалось говорить только по-немецки. Спустя шесть месяцев мы должны были уже полдня говорить с гувернанткой его детей по-французски. А сам старый Мазинг вбивал в нас – и в Ээву и в меня – основы латыни и хотел даже приступить к греческому и древнееврейскому, но гувернантка, которая позже стала его женой, сочла, что этого будет слишком много.
Выяснилось, что Тимо отправил вместе с нами два-три ящика с книгами, лучшими из его юношеской библиотеки, на них были пометки и пояснения, сделанные рукою Лерберга, и некоторые места были подчеркнуты. Лерберг был учителем и воспитателем Тимо и его братьев и сестер, и я уже тогда знал, что Тимо относился к нему с глубочайшим почтением. Я этого человека никогда в глаза не видел, но слышал про него много: что родом он был из семьи бедного тартуского ремесленника, будто бы даже наполовину деревенского происхождения, но знания его были столь обширны, что, несмотря на исключительную прямоту характера, он еще сравнительно молодым человеком был избран академиком Петербургской академии. К сожалению, он вскоре скончался от какой-то страшной ревматической болезни, еще до того как начались наши годы учения в Виру-Нигула. В доме Мазинга о Лерберге говорили как о близком человеке, достойном большого уважения. Вдова его несколько раз приезжала из Петербурга в Виру-Нигула погостить. Ибо госпожа Лерберг была родной сестрой покойной жены Мазинга. Следовательно, детям Мазинга она приходилась родной теткой.
М-да, и эти старые книги, пестревшие духовными завещаниями Лерберга, оседлал тогда вместе с нами гофмейстер детей Мазинга, некий господин Грунер, родом из Ганновера, сам по себе человек приятный, и мы вместе с ним и с детьми Мазинга терпеливо, но все же галопом на них скакали. Я должен сказать: несмотря на то что нам с Ээвой иной раз приходилось руками, ногами, зубами вцепляться в скользкий круп мчавшейся лошади, мы с нее не свалились… Кроме того, старый Мазинг находил еще время учить меня основам черчения и топографии. Три недели подряд я чертил для него до полуночи план вирунигулаского пасторского двора до тех пор, пока мой план не стал настолько точным и правильным, что Мазинг с ним согласился. И многое еще другое. А будущая жена Мазинга и ее помощница изо всех сил обучали Ээву искусству стряпни и домоводству.
Однажды ветреным сентябрьским вечером тысяча восемьсот семнадцатого года в Экси неожиданно приехал Тимо. (Еще за год до того Мазинг и мы вместе с ним переселились туда из Виру-Нигула.) Помню, как в рабочей комнате, Мазинга потрескивая горело в лампе репное масло. Огромное помещение было до невозможности набито всякой всячиной: книгами, рукописями, кусками картона и обрывками бумаги с пометами, тетрадями, гравюрами, бутылками, ретортами, инструментами для работы по дереву и металлу. Мазинг, заложив руки за спину, шагал туда и обратно, Ээва и Тимо сидели на диванчике между стопками книг, я стоял возле них. Вдруг старик остановился посреди комнаты, повернулся к Ээве и Тимо и сказал своим хрипловатым голосом:
– Друзья мои, уж ежели я этого не делаю, так можно поручиться, что никто другой тоже не сделает. А я этого сделать не могу. У меня на шее как раз сейчас процесс. Будто я поженил людей вопреки церковным и государственным установлениям. Хотя это касается только наших крестьян. Тем не менее крик уже дошел до Риги и Петербурга. И я говорю вам: любого лифляндского, эстонского или курляндского пастора, который осмелится вас обвенчать, навечно прогонят с кафедры! Тимо, ежели ты полагаешь, что я преувеличиваю, значит, ты совсем не знаешь своего сословия!
Тимо ответил:
– Я знаю свое сословие, господин Мазинг. И я не считаю, что вы преувеличиваете.
– И поэтому, – сказал старый Мазинг, он подошел к Ээве, – друзья, пусть это будет первый и, я надеюсь, последний раз, что я кому-то даю подобный совет – что лютеранский пастор кому-то дает подобный совет… – Он положил руку Ээве на плечо, а другой рукой за подбородок поднял к себе ее лицо. – Поэтому, дитя мое, оставь нашу злосчастную лютеранскую церковь. Перейди в русскую веру! Да-да! Другого пути я не вижу. Во имя любви свершались дела и похуже! А господь – с божьей помощью – един. Поезжайте в Петербург, я дам вам письмо к одному моему другу. Он найдет вам священника. Большего, чем у нас, пьянчугу или большего гуманиста, все равно. Вас обвенчают. Получите документ на общегосударственном языке. Вернетесь обратно, и все будет почти comme il faut. Во всяком случае ничьи зубы до вас тогда не дотянутся.
Он отступил на шаг, взялся рукой за подбородок, сероватый от отросшей к вечеру щетины, и смотрел на них.
– А что каждый может запустить в вас зубы, это вы сами знаете. Представляю себе, какой пойдет дым коромыслом, когда станет известно, что вы свое намерение осуществили. У-ух! Как завоют все волки несчастий, залают все лисы интриг, зашипят все змеи клеветы – ш-ш-ш… – Могло показаться, что Мазинг даже как-то наслаждался картинами своей фантазии. И вдруг совсем другим тоном он сказал: – Ничего нет сильнее любви. Ээва, это она, любовь, делает тебя сильной. Я знаю, я это заметил. Тимо, и то, на чем ты стоишь, это тоже любовь. Да. Но не только. Все то, другое, на что ты опираешься, мне не совсем ясно. Наверно, убеждения. Ну, а ради них люди шли на костер, так что же для тебя могут значить косые взгляды и перешептывания твоих драгоценных братьев по сословию… По-эстонски говоря, mitte sittagi![9]9
Ни фига! ни черта!
[Закрыть] – Он рассмеялся.
– Ежели только вы сами друг другу доверяете. Не просто, а полностью во всем. В таком доверии друг к другу вы можете спрятаться от всей этой возни просто… ну, скажем, как в круглой перламутровой раковине! Пусть будет какой угодно шторм, а что он может с нею сделать?! Она знай себе приятно покачивается…
Что касается змеиного шипения клеветы и необходимости доверия, то про это я уже кое-что сам слышал. Разумеется, намерение Ээвы и Тимо пожениться кое-кому стало известно. В Петербурге Тимо уже дружески нашептывали (разумеется, таким образом, чтобы у него не было основания вызвать на дуэль), будто бы от скуки Ээва бросалась в объятия то фон Адлерберга из Ууэ-Вартсту, то славного мужицкого кистера Иоханнсона из Виру-Нигула. А некоторые осведомленные дамы, оказавшиеся в доме Мазинга, говорили намеренно так, чтобы Ээва слышала: будто господин фон Бок ходил в Петербурге свататься, и не к кому-нибудь, а к самой Нарышкиной, к которой сам император, как известно, изволит проявлять отеческий интерес… При этом личная дружба императора с господином фон Боком оказалась все же не столь глубокой, чтоб он приказал m-lle Нарышкиной принять сватовство. Нет, господин фон Бок получил отказ! Так что нечему удивляться, если господин фон Бок снова вспомнил про свою Золушку… и хихикали.
Еще в конце сентября Ээва и Тимо вернулись из Петербурга. Их обвенчали по обряду православной церкви. И Ээва теперь по документам была Катарина. Катарина фон Бок. В первый момент я заставил себя думать и чувствовать, что это совершенно чужой мне человек. Тем более что Ээва стала мне казаться какой-то другой, глаза у нее бывали то какими-то затуманенными, то более лучистыми, чем прежде, и в ее уверенных движениях появилась какая-то горделивая плавность, что я считал даже не совсем неуместным.
Когда Ээва объявила, что они с Тимо сразу же уедут в Выйсику и первое время жить будут там и что я, само собой понятно, поеду вместе с ними, мне подумалось, что ничего иного мне и не остается.
За четыре года я втиснул в себя книжную мудрость гимназического курса, а поскольку это происходило в еще восприимчивом, но уже взрослом возрасте (мне было полных двадцать семь лет), то, наряду с книжной, я приобрел еще и добрую долю жизненной и человеческой мудрости. Только я не знал, что мне со всем этим делать. Я думал только о том, что, имея уже некоторый практический опыт, я смогу быть полезен Ээве и Тимо, если возьму на себя ведение хозяйства в Выйсику. Вместо управляющего Кларфельда, который тогда этим занимался и который, как Тимо давно заметил, за спиной у хозяина мало-помалу умело наполнял свой собственный карман. Чего, кстати сказать, управляющие, получающие жалованье, очень редко не делают.
Итак, прекрасной сухой золотой осенью мы отправились вчетвером (слуга Кэспер был вызван в Экси) через Пуурмани и Пыльтсамаа домой. Всю дорогу мы были с Тимо и Ээвой вместе. Или с Тимо и Китти, если я назову свою сестру так, как ее стал на английский манер называть муж.
В имении Выйсику я провел когда-то всего один или два часа, в тот осенний день тринадцатого года, когда нас с Ээвой усадили здесь в карету и мы отправились в путь навстречу нашей новой жизни.
Выйсику не принадлежало к числу самых великолепных лифляндских поместий, это мне было уже известно, однако в северной части Вильяндиского уезда оно было одним из самых значительных, если не за счет барского дома, то во всяком случае выделялось множеством приусадебных построек, старинным парком, размерами яблоневого сада и, прежде всего, разумеется, обширностью владений, которые простирались до реки Педья и до поймы реки Эмайыги.
Так называемый новый барский дом, тоже насчитывавший уже сто лет, представлял собой одноэтажное каменное здание с мансардой. И хотя мои мерки, первоначально основанные на крестьянской избе, в двух пасторатах господина Мазинга намного возросли, все же великолепие этого дома сперва меня даже как-то озадачило. И я понял: попади я сюда жить четыре года назад, я испытывал бы прежние крестьянские робость и смущение. А сейчас его пышность вызывала у меня беспокойство. Беспокойство, а умей я тогда понять свое ощущение, то мог бы сказать даже – нетерпимость.
Внизу в доме было шестнадцать комнат, здесь же помещалась кухня, в мансарде – еще четыре комнаты, где жила прислуга и останавливались гости попроще. Из этих четырех комнат одну я выпросил у Ээвы для себя. Хотя сама она намеревалась поселить меня внизу и даже в двух комнатах. Но мне больше нравилось жить наверху. Потому что там я был обособлен. Вначале я поселился в мансардной комнате левого крыла, выходившего в сад. (Кстати, несмотря на то что внизу в распоряжении Тимо имелся кабинет, состоявший из двух комнат, он обставил для себя еще один маленький в правом крыле мансарды.) Именно ради большей обособленности: живя наверху, я не должен был, входя в дом или выходя из него, обязательно пользоваться парадным ходом и пробиваться сквозь всех Боков и Раутенфельдов в алонжевых париках и прическах a la coeur, смотревших из золоченых рам со стен вестибюля. На верхний этаж вела еще одна лестница, прямо из сада, и с первого же дня я стал ею пользоваться.
В то время по требованию Тимо и Ээвы мне надлежало каждый день вместе с ними по крайней мере обедать. И против этого я не возражал. Ибо за обедом, кроме них и доктора Робста, никого не бывало. Младшие братья Тимо – Георг и Карл – находились кто где, а сестра Элизабет, как я уже, кажется, писал, была замужем и четвертый год жила с мужем в Эстляндии. Кстати, эта самая Элизабет так и не удосужилась навестить своего любимого брата и его молодую жену, что, как мне думается, было бы вполне нормально. Но ведь о нормальном отношении к нам говорить не приходилось. Об этом свидетельствовало многое. Поселившись в Выйсику, Ээва и Тимо не стали сами ездить с визитами к соседям, как было принято, а разослали приглашения. Во всяком случае тем, о которых прямо не было известно, что и они называли брак Тимо с Ээвой якобинским свинством или фортелем с собачьей свадьбой. Однако из приглашенных никто не изволил явиться. Одни уехали, у других оказалась сильная простуда или какая-то другая хворь. Так что наши трапезы (не в столовой возле кухни, куда проникали запахи приготовляемой пищи, чего Тимо не выносил, а в зеленой комнате для чаепитий, рядом с малой гостиной) происходили вчетвером за круглым чайным столом. Но стол сервировался тяжелым фамильным серебром фон Боков. О старом Боке я слыхал, что он по собственной вине умер в бедности (летом двенадцатого года от лихорадки в лазарете города Риги, где он – в звании капитан-лейтенанта – учреждал во время нашествия Буонапарта военные госпитали). Согласно чему и Тимо, разумеется, должен быть человеком бедным. Однако, сколь удивительна может быть сия бедность богатых, в дальнейшем я понял еще лучше на более красноречивых примерах, чем боковское серебро.
Моим vis-à-vis за столом был доктор Робст. Он следил за здоровьем обитателей имения, лечил пыльтсамааского арендатора фон Валя и владельцев местного замка Бобруйских, если они между Петербургом и Парижем заезжали в Пыльтсамаа. Кроме того, доктор Робст коллекционировал бабочек и время от времени разыгрывал с детьми выйсикуских ремесленников отрывки из Лессинга и Коцебу. К столу он приходил всегда запыхавшийся, хотя от Кивиялга (одну половину которого занимал он, а во второй жил управляющий имением Кларфельд) пройти ему нужно было всего двести шагов, и, прежде чем занять свое место за столом и даже уже за едой, когда возникали паузы, он цитировал нам Руссо, модулируя при этом голосом, или читал лекции об эстонских певчих птицах, сопровождая свои слова соответствующим насвистыванием. При этом каждый свист он научно обосновывал. И – до и после – просил извинения у милостивой государыни. Я смотрел через стол на его долговязую фигуру, как бы готовую к полету, на его исполненное доброжелательности лицо, на его печальные глаза, а над ними брови, напоминавшие хвостики терьеров, и мне было приятно, что я мог смотреть на него и поэтому реже встречаться глазами с сестрой и ее мужем. Потому что поперек стола, разъединяя меня и доктора Робста, струились лучи их любви, которую они не пытались скрывать, и я бы не удивился, если бы все боковские серебряные соусники начали позванивать. Помню, Тимо не хотел, чтобы за столом прислуживал Кэспер или какая-нибудь из горничных, так что Ээве или ему самому приходилось вставать, чтобы принести что-нибудь или распорядиться. И каждый раз, когда Тимо, возвращаясь к столу, проходил мимо Ээвы, он наклонялся и целовал ее в затылок или, что еще более неуместно, идя к своему стулу, Ээва мимоходом погружала руку в веселую коричневую шевелюру мужа. Будто ни меня, ни доктора Робста за столом просто не существовало. А большая любовь и прежде не раз…
4 июня, поздно ночью
Это Риетта подошла так неслышно и так неожиданно постучала, что я едва успел спрятать дневник.
Что касается школьной мудрости, то Риетта оказалась глупее, чем я полагал. Я хотел проверить ее знания и предложил ей решить задачу, причем на такую тему, которая должна была бы интересовать молодую девушку: в мануфактурном магазине приказчик продал два сорта муслина, всего на 32 рубля. Аршин одного сорта стоит два рубля, другого – четыре. Сколько аршин более дорогого муслина и сколько более дешевого он продал, если за последний он получил на 8 рублей больше, чем за первый?
Ровным быстрым почерком Риетта записала условие задачи, некоторое время смотрела на свое платье и, поскольку ответа там не увидела, рассмеялась.
– Послушайте, господин Меттик, ведь я же не буду торговать материями. Мне приходится иметь дело с мануфактурным магазином, только когда я хожу за покупками. А муслина я все равно не куплю. Муслин уже несколько лет как вышел из моды.
И при этом она уставилась на меня своими улыбающимися глазами (глаза у нее серые, немного выпуклые и как будто чуточку затуманенные – и в то же время какие-то мерцающие) и улыбалась яркими губами, как бы приглашая меня непременно вместе с нею посмеяться.
Но когда я провел для нее на бумаге тридцатидвухдюймовую линию (лист покрыл весь маленький овальный столик между двумя плетеными креслами, на которых мы сидели), когда я отметил середину и твердым голосом школьного учителя велел Риетте подумать, она тут же отняла от второй половины четыре дюйма, прибавила их к первой и сосчитала, сколько двухдюймовых отрезков укладывается в одной половине и сколько четырехдюймовых в другой. Так что практической смекалки ей не занимать стать. И с примером на проценты, после того как я кое-что ей напомнил, она тоже вполне справилась и сама так этому обрадовалась, что несколько раз принималась смеяться. Однако о реформах Петра Великого она ничего толком сказать не могла. Не думаю, чтобы после моих объяснений они стали ей понятнее. Ибо я заметил, что, слушая меня, она рассеянно играла тоненьким золотым колечком (наверно, все же не обручальным, поскольку она и дальше собирается учиться в школе). А некоторые вопросы, касающиеся Российской империи, ее даже интересуют. Потому что, выслушав мои объяснения петровских реформ, она спросила:
– Господин Меттик, вы ужасно умный человек… скажите – у m-lle Фрибе мы этого так и не поняли, – что произошло в Петербурге в декабре позапрошлого года?
Я немного помолчал:
– А в школе на уроках вам этого не говорили?
– О нет! Только шептались, что был бунт. И что покушались на жизнь государя императора. Что погибло много замечательных молодых офицеров из самых лучших семей. Или получили страшные наказания. А что это было и ради чего они начали бунтовать, этого никто не понял. Во всяком случае я. Может быть, потому, что и самой нашей учительнице это не было вполне ясно. И еще потому, что в позапрошлом году я и сама была еще совсем ребенок. Теперь бы я уже поняла. Если бы такой умный человек, как вы, мне это объяснил…
Я подумал: «Ишь ты, какая девица… Я и сам-то толком не знаю, что там произошло. Горстка молокососов из барских семей захотела перевернуть мир. Наверно, даже в правильном направлении. А только так чертовски не ко времени. И так чертовски сверху вниз. Как я начал догадываться. Да, пусть даже в правильном направлении… Ибо слова ограничение самодержавия и конституция и до позапрошлого года иной раз доходили до моих ушей… Кстати, я слышал их и из уст того самого полковника Теннера, вместе с триангуляционной группой которого исходил в двадцать втором и двадцать третьем годах вдоль и поперек всю Курляндию и всю Гродненскую губернию». Однако Риетте я сказал:
– Знаете, Риетта, поговорим об этом, когда вы придете в следующий раз.
Зачем я буду какой-то девчонке высказывать свое мнение о том, по поводу чего во всей империи люди набрали в рот воды?! Это ни к чему. Но мне не подобает сказать ей, что я просто ничего об этом не знаю. Учителю непременно полагается знать. Ну, а до вторника эта ветреница свои вопросы, конечно, забудет.
Она встала, чтобы уйти, и вдруг остановилась передо мной и спросила:
– Вы ведь родственник нашего хозяина… То есть и да, и нет… Скажите, неужели господин фон Бок в самом деле безумен, как будто бы утверждают при дворе… или это все же не так?..
Я, очевидно, опять ответил не сразу.
– Как же может быть не так? – сказал я. – Ведь это утверждают не вообще при дворе, а сам государь император. Следовательно, это должна быть правда!
– Ах так, – тихо сказала Риетта, – а я надеялась, что, может быть, он только делал вид, что безумен. – Риетта взглянула на меня своими мерцающими светло-серыми глазами. – Потому что ужасно грустно так думать… такой замечательный человек…
Она ушла. А я, подойдя к письменному столу, стал смотреть в окно. Она двигалась между светлеющими яблонями в направлении Кивиялга. Потом, наверно, затылком почувствовала, что я слежу за ней, оглянулась через плечо и поймала мой взгляд. Она доверчиво мне улыбнулась, поднесла руку к уху и помахала – воплощенное кокетство! Я отошел от окна и почувствовал, что в комнате волнующе пахнет девичьим потом и духами.
А вопрос, который остался здесь в комнате вместе с ее запахом, меня самого уже давно интересует, и наверняка еще больше, чем ее. За эти три недели, что мы живем под одной крышей, я, в сущности, не сталкивался с сестрой и ее мужем, к общему столу, как это было девять лет назад, меня не приглашают. Ээва сказала мне, что сначала они с Тимо будут есть у него в кабинете или в спальне, ему нужно немного привыкнуть и прийти в себя. Для меня и доктора Робста она приказала накрывать стол в столовой, и там мы с доктором вдвоем все это время едим. (Доктор уже несколько лет жил в Пыльтсамаа, но перед возвращением Тимо Ээва попросила его вернуться в Выйсику, и доктор – этот старый суетливый холостяк – переселился в имение, тем более что пациенты и здесь, за пять верст, его все равно находят.)
С Тимо я сталкивался еще реже, чем с Ээвой. В окно я видел, как он гулял по парку. Однажды видел, как он стоял под деревом и очень долго – пять или шесть минут, может быть, даже дольше – нюхал яблоневый цвет. Несколько раз случалось мне видеть, как Кэспер вел из конюшни сюда, к дверям со стороны сада, оседланного гнедо-чалого. Тимо сразу вскакивал в седло и уезжал. У меня создалось впечатление, что этот человек каким-то странным образом стал тише. Однако никаких признаков безумия я не замечал.
Я попросил доктора Робста высказать мне его мнение. Оно, наверное, у него сложилось. Ибо для того он здесь и находится, чтобы следить за здоровьем Тимо. Но каково оно, его мнение, мне и посейчас не ясно. На каждый мой вопрос он принимается бормотать надтреснутым голосом и извергать из себя докторскую латынь, а в том, что он иногда говорит по-немецки или по-эстонски, я все равно не могу связать концы с концами. На мои совершенно прямые вопросы он отвечает тем, что театральным тоном задает мне встречные, непонятные и нелепые.
– Господин доктор, вы уже основательно ознакомились с состоянием здоровья моего зятя, уверены ли вы в том, что он в каземате, ну… стал безумным?
– Господин Меттик, разве же не в силу этого обстоятельства его императорское величество милостиво освободил господина фон Бока?
– Кхм… А разве не потому – как говорят – наш прежний государь заточил его в крепость, что он уже тогда был безумен?
– А разве это вызывает у вас сомнение?
– Да. Как же в этом случае он мог потерять разум в тюрьме?
– Не хотите ли вы, случайно, спросить об этом у меня?
– Именно. А что по этому поводу полагаете вы?
– Господин Меттик, а вы не считаете, что – кхм-кхм – во всяком случае врачу надлежит от подобных суждений воздерживаться?
– Значит, вы считаете, что он в здравом уме?
Доктор Робст вытянул губы трубочкой, растопырил согнутые пальцы и, подобно двум чашам, поднес руки на уровень глаз.
– Господи боже, что значит в здравом уме?!
Во всяком случае в жизнь сестры и ее мужа я не суюсь. Все эти три недели я гулял, читал, катался верхом. Ездил в Рынка осматривать зеркальную фабрику господина Амелунга. Управляющий подарил мне (разумеется, из угодничества) большое зеркало в раме мореной березы. Я же – как-никак – член семьи владельцев Выйсику… Но я держусь от этой семьи подальше. Пусть Ээва поступает как умеет или как находит нужным, а мне и тогда, десять лет назад, рядом с ними было не по себе и неуютно, тем более теперь, когда их жизнь стала совсем для меня непонятной.
И все же – именно из-за этой непонятности – после ухода Риетты я спустился вниз и постучал в кабинет Тимо, смежный с малой желтой гостиной.
Его кабинет – небольшая высокая комната, равная, пожалуй, одной шестой части желтой гостиной. Выбеленный известью потолок. Светло-серые с золотой полоской обои. Секретер красного дерева, книжные шкафы, стол для рисования, на нем огромный глобус, кушетка, перед ней столик. Справа от двери в гостиную – камин.
Тимо и Ээва сидели вдвоем на кушетке перед маленьким круглым столиком, под двумя гравюрами Клода Лоррена, – о девятилетней давности долге за них в сумме девяноста рублей напоминает таллинский антиквар Арранцо в полученном позавчера письме. Значит, об освобождении Тимо, если это можно так назвать, известно и в Таллине!
Ноги Тимо под столом были укрыты клетчатым пледом, Ээва наливала кофе в чашки синего пыльтсамааского фарфора.
– Садись. Я тебе тоже налью.
Я сел в кресло, стоявшее напротив. Из посудной горки Ээва достала для меня третью синюю чашку. И я только тут заметил, как она все еще по-девичьи стройна. Как изящно, плавно она двигалась в своем платье благородного серого шелка. Благодаря серому платью две узкие серебряные полоски у нее на висках казались кокетливой скромной диадемой. Даже самые искушенные в искусстве украшений дворянские дамы вынуждены были бы признать, что крохотная камея у Ээвы на груди была превосходно подобрана к цвету волос и ее удивительно свежему лицу.
На Тимо был темно-зеленый домашний сюртук. Бреясь, он порезался и смазал ранку йодом, и теперь пятно от йода на его бледном подбородке казалось желтым отпечатком пальца. Он смотрел на меня с интересом и спокойно. Я спросил:
– Nun – wie fühlen Sie sich?[10]10
Ну, как вы себя чувствуете? (нем.)
[Закрыть]
Его пестрые с проседью брови взметнулись. Я заметил, что за эти три недели кожа на лице у него заметно посвежела, да и лицо могло показаться даже молодым (ибо Тимо явно уже успел согнать верховой ездой по крайней мере двадцать фунтов), но острые усы были почти совсем седые. Он сказал с печальной иронией, по-эстонски:
– Якоб, с императорским полковником ты был на «ты». А с императорским безумцем тебе уже быть на «ты» не подобает?
Я рассмеялся, отхлебнул кофе, набрался было духу, но все же так и не решился прямо спросить, что это за история с его безумием.
Чем больше мы говорили, тем тверже было у меня впечатление, что он в здравом уме. Тимо сказал Ээве, которая завтра должна была уехать на неделю в Тарту:
– Не забудь, Китти. Побывай у Андреса на Домберге и привези мне «Утопию» Мора. Но на латыни и на английском не бери. Возьми на немецком. Чтобы ты и сама могла ее прочитать.
Ээва подошла к Тимо сзади и провела ладонью по его волосам, я не видел ее лица, но видел ее руку и почувствовал (все так же с некоторой неприязнью) странную страстность и боль в движении ее руки от его затылка ко лбу; рука ее погружалась в его волосы, противилась и льнула, отталкивала и привлекала к себе – точно так же, как девять лет назад, только теперь волосы у ее мужа были седые.
– Не забуду, дорогой! – сказала Ээва. И Тимо обратился ко мне:
– Наверно, ты уже знаешь: припаян здесь к месту. Я не смею уехать из Выйсику. Только с разрешения генерал-губернатора. Так повелел император. И это гениальное повеление. Ибо за ним кроется уверенность, что господина Саулуччи (sic!) я никогда и ни о чем просить не стану.
– А если ты уедешь без разрешения?
– Этого я не могу.
Я спросил:
– Ты полагаешь… значит… что твоя честь?..
– О нет, до этого они не доросли… – Тимо сказал это как нечто само собою разумеющееся, как будто это касалось вполне определенных мерок и дел. – В Петербурге они ведь взяли у Китти подписку. Ответственность на ней.
Я сказал:
– Значит, вам остается только бежать. За границу. И вместе.
Я не заметил выражения лица Тимо, но Ээва поднесла палец к губам и сказала:
– Тссс!
В ту же секунду раздался стук, видимо, кто-то ждал за дверью разрешения войти.
– Кто там? – спросила Ээва.
Дверь кабинета приоткрылась. Ламинг просунул в нее свое плоское, старательно улыбающееся розовое лицо и вслед за этим сразу же появился весь.
– Прошу прощения, господа. Я хотел…
– Кто это?
Не только сам по себе вопрос Тимо прозвучал странно, но я заметил, что и голос его стал неприятно хриплым.
– Тимо, – произнесла Ээва, мне показалось, даже испуганно, – это же наш управитель…
– Правильно! – воскликнул Тимо неожиданно живо. – Входи, входи, входи! Я тебя сначала не узнал. Давно не видел..
Ламинг вошел как-то нерешительно, боком, мелкими шажками, глядя при этом на нас, в то же время Тимо продолжал:
– Кроме того, ты уже несколько лет как умер. Так ведь? Скоро три года. Даже три года каземата меняют человеческое лицо. Три раза три – тем более. Что же говорить о смерти! От нее у человека лицо становится совсем другим. И у управляющего тоже. Смотри, какой ты стал маленький и простенький! Нет, нет, не бойся, что я начну тебе лгать. Я тебе всегда говорил правду. А сейчас я и правду оставлю про себя. Ибо правду я скажу тебе в лицо, когда будем вдвоем. Как всегда. В свое время ты на меня разгневался, что я назвал тебя смертным. Ну, а теперь я так не поступлю. Я скажу тебе не смертный, а мертвый, Александр le mort! Но все равно я скажу это тебе только самому. Печально, что ты пользуешься этими мелкими наушниками… Ну да бог с тобой. Все мертвы.