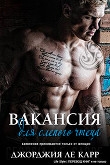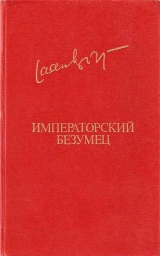
Текст книги "Императорский безумец"
Автор книги: Яан Кросс
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 30 страниц)
Послесловие
Некоторые читатели, ознакомившиеся с рукописью еще до ее публикации, высказали мнение, что было бы полезно сопроводить книгу послесловием, которое помогло бы читателю, в какой-то мере объяснило бы ему, что в этой истории выдумано, а что исторически верно.
Слишком поздно мне стало ясно, что это был полезный совет, слишком поздно для того, чтобы с этой просьбой обратиться к историкам, кому только и надлежало бы стать автором такого послесловия, но чье чувство научной ответственности чаще всего прямо пропорционально медлительности их работы.
И если я пытаюсь сам стать автором послесловия, то прежде всего в силу необходимости сделать это быстро. Но есть и другая причина. Ведь я оказался первым читателем дневника Якоба Меттика. Вопросы о границе между правдой и вымыслом в этой истории, вставшие и передо мной, были в принципе те самые, на которые должно ответить послесловие. Некоторые из них я выяснял для себя по мере того, как все больше углублялся в события. И теперь мне представляется, что мой прямой долг, по крайней мере, на эти вопросы ответить читателям.
Должен признаться, что мое отношение к грани между правдой и вымыслом в дневнике, в этом смешении возникающих вопросов, упорной их неразрешимости и неожиданных ответов было неустойчивым. Порой мне начинало казаться, что Якоб Меттик наводит меня на ложный след каких-то общеизвестных фактов и каких-то кажущихся вероятностей, будто легковерного зеваку в комнате кривых зеркал на ярмарке. В то же время мне представлялось, что если вообще задаваться вопросом о правде и вымысле в этом дневнике, то лишь в одном: содержится ли в нем что-либо документально недоказуемое или уловимо противоречащее правде.
И тут же я ловил себя на мысли, что подобная постановка вопроса субъективировала бы результаты до невозможности. Это означало бы в конечном итоге замену или почти замену граней между правдой и фантазией границей между тем, что я смог проверить, и тем, чего я проверить не смог… Однако и противоположный путь, то есть перечисление важнейших событий, подлинность которых мне удалось установить, в сущности, столь же субъективен. Все же почему-то этот путь, в конце концов, мне показался более приемлемым. Может быть, потому, что в нем содержится больше доверия к Якобу Меттику.
Итак:
Было время, которое охватывает дневник Якоба Меттика. Была Лифляндия, которой управляли Александр Первый и Николай Первый, маркиз Паулуччи и граф Пален. Да и само поместье Выйсику, правда неузнаваемо перестроенное, существует и поныне. Жил Тимотеус Бок. Он даже упоминается в Эстонской советской энциклопедии. Так же, как жила и Ээва – Китти – Катарина. Притом, очевидно, почти такая, какой она предстает перед нами в дневнике. О ней несколько раз упоминалось в эстонском печатном слове, начиная со статьи Мартина Липпа в «Ээсти кирьяндус» за 1909 год, и, по крайней мере, то, что говорится в ней про Ээву, не оказалось «журчанием» Мартена Липпа, как по другому поводу сказал Густав Суйте. Ээва – Китти – Катарина, явно та самая Ээва, дочь хольстреского кучера Петера и его жены Анны, родившаяся, согласно Пайстуской церковной метрике, 8 сентября 1799 года.
Существовал и доктор Робст. Правда, в представлении Якоба Меттика он несколько иной, чем в романе «Эвремонт», принадлежащем перу Софии фон Тийк, где доктор тоже фигурирует. Тем не менее я позволю себе не считать беглый портрет доктора Робста, предложенный госпожой Тийк, более достоверным или более выразительным.
Упомяну также, что в Тарту не только существовал дом Мойеров, но в нем бывали те самые люди и в воздухе там реяли те самые проблемы. Мои попытки проверить достоверность дневника Якоба Меттика меня в этом совершенно убедили. То был маленький домик на окраине Тарту, он стоял на углу улицы Калева и улицы Соола и разрушен только осенью 1944 года (к тому времени дом был уже почти в центре города). Тридцать лет спустя я установил, что в студенческие годы я сам жил в доме Мойеров. И я смог опознать, что моя бывшая комната служила у Мойеров курительной, выходившей в сад и на реку. До моего времени дожила и дверь с низкой притолокой, хранившая прикосновение волос Тимо цвета лосиной шерсти.
Рижская поездка Тимо, по-видимому, в самом деле имела место, и совсем неожиданным образом существенная часть разговора между Тимо и графом Петром Паленом оказалась даже документированной. На это указывает ленинградский историк А. В. Предтеченский в небольшой монографии о Боке, четверть века тому назад изданной Эстонской Академией наук.
Кстати сказать, в одном из писем Тимо упоминаются даже его иквибы.
Визит доктора Фельмана в Выйсику проверить мне не удалось. Однако известно, что профессор Эрдман нередко вместо себя посылал к больным своего любимого ученика. И вообще в достоверности этого стоило бы сомневаться только в том случае, если допустить, что Якоб Меттик хотя бы в самой малой степени мог предвидеть здесь культурно-историческую пикантность.
Подробности ареста Тимо, содержащиеся в дневнике, мне нигде больше обнаружить не удалось. Однако тот неожиданный факт, что генерал-губернатор лично руководил арестом, тоже соответствует действительности. Отсюда, очевидно, следует пересмотреть размеры самого дела и его тогдашний удельный вес.
И господин Латроб – подлинная личность со всеми указанными подробностями, хотя в 1976 году в Таллинском государственном музее театра и музыки его имя не было известно.
Семейное предание о клятве Тимо говорить царю правду упоминает Теодор Бернхарди в своих «Воспоминаниях юности». А письмо царя к Паулуччи шестьдесят лет спустя было опубликовано.
Даже факт посылки царем в каземат фортепиано, вопреки всякой логике, соответствует действительности. Это подтверждается в рапортах генерала Плуталова князю Волконскому. Об этом же пишет и М. Н. Гернет в своем исследовании «История царской тюрьмы», Москва, 1960, I, с. 257. Следовательно, и в этом случае приходится расширить воображение и усилить гибкость логики.
О том, что шестьдесят тысяч рублей были таинственно списаны, свидетельствуют документы. Это подтверждают хранящиеся в Тарту в Государственном центральном историческом архиве бумаги, относящиеся к Выйсикуской мызе. Объяснению, исходящему от Георга фон Бока, можно верить или не верить. Об отношениях между Тимо и Нарышкиной, хотя и в чуточку ином освещении, говорится в одной из статей, опубликованных в «Русской старине».
Что касается мужа сестры Тимо, Петера Мантейфеля, приходится сказать, что роковым образом таковой на самом деле существовал. Правильнее будет – Петер Цёге фон Мантейфель, он не имеет ничего общего с другим Петером Мантейфелем, равиласким графом, которого эстонская история литературы помнит как автора повестей «Досуг при свете лучины» и «Жизнь Виллема Наави».
Наконец, текст «Меморандума» Тимо, цитируемый точно, со всей его невероятной, неопровержимой, фатальной искренностью, действительно существует. Автограф, хранящийся в настоящее время в Московском архиве, возможно, является оригиналом, отправленным Тимо императору.
Нигде, за исключением дневника Якоба Меттика, я не нашел подтверждения тому, что Тимо в глаза назвал Александра I Тартюфом. Однако письменно он это сделал, о чем свидетельствует текст меморандума.
Ээва действительно ездила в Торма, чтобы встретиться с Марией Федоровной, и в гостиной с ней в самом деле находилась вдова учителя Асверуса. И с нею был ее десятилетний внук с задорным курносым носом и карими глазами. Пятьдесят лет спустя этот мальчик написал воспоминания о встрече Ээвы с вдовствующей императрицей. Они были помещены в книге д-ра Бертрама[89]89
Шульц Бертрам Георг (1803–1875) – прибалтийский литератор и фольклорист.
[Закрыть].
И гусарская проделка Георга фон Бока, проникшего в Шлиссельбург, вопреки возможным сомнениям, в самом деле имела место, об этом упоминается в одном из писем О. В. Мазинга суперинтенденту Зоннтагу в Ригу.
Существует написанное Ээвой подтверждение долга, этот документ хранится в Тартуском центральном историческом архиве.
Вне дневника мне не удалось найти доказательств встречи Ээвы с Жуковским. Но известно, что в указанное время Жуковский бывал в Тарту и читал там своим друзьям перевод «Орлеанской девы» Шиллера.
Даже сама фамилия коменданта Шлиссельбургской крепости – Плуталов – может показаться не слишком удачной, но вполне оправданной иронией со стороны Якоба Меттика. Фамилия Плуталов явно в большей мере отвечала сущности генерала уже в силу самой его должности, чем описанное Георгом фон Боком почти рыцарское поведение коменданта. Тем не менее множество документов и личная подпись генерала свидетельствуют о том, что ирония исходила не от Якоба Меттика, а от самой Истории. Комендантом Шлиссельбургской крепости был в то время Плуталов. О том, как далеко может дойти ирония Истории (исходи она от писателя, ее сочли бы непростительным преувеличением, когда же она принадлежит самой Истории, то, очевидно, ее приходится считать гениальной гиперболой), об этом подчас свидетельствуют мелкие, но неопровержимые и, как кремень, неподатливые факты. Как и тот, что комендантом Петропавловской крепости был в ту пору генерал Сукин.
Стихотворение Гёте, посвященное Тимо, входит во все крупные издания сочинений поэта. О трагическом ударе саблей, которым Тимо ранил своего сослуживца, написал В. фон Бок. Тот факт, что им оказался нэресаареский Тийт, лишь подробность, в которой не стоит сомневаться.
Письма Георга фон Бока и Ээвы, адресованные Николаю I, черновики которых Якоб Меттик переписал к себе в дневник, к счастью, благополучно сохранились и находятся в тюремном досье Тимо. Кстати, там же хранится и немало не переписанных в дневник писем и иных рукописных документов, которые могут служить письменным доказательством подлинности дневника. Такого рода документы до сих пор все еще продолжают обнаруживаться и в других местах и, молено допустить, будут обнаруживаться и в дальнейшем. На одно из подобных писем обратил мое внимание д-р Юхан Кахк, нашедший его в архиве Сангастеских Бергов. Оно датировано 5 сентября 1817 года и касается предстоящей женитьбы Тимо, и начало его уместно здесь привести:
Любезная тетушка
Благодарствую за прием, оказанный Ээвочке в Вашем доме; сегодня она покинет Вас, поскольку сегодня, в столь знаменательный для меня день, она получит от меня обручальное кольцо. Спустя несколько часов она уже перестанет быть деревенской девушкой, а безвозвратно станет моей нареченной. Ей следует уехать из Уус-Пыльтсамаа, ибо смешно было бы от Вас требовать, чтобы существо, которое Вы считаете настолько ниже себя, Вы стали бы вдруг приветствовать как рядом с Вами стоящее. Вы, разумеется, спросите, что я буду делать с нею в дальнейшем, поскольку я сам признаю, что мой брак оказывается ни рядом с Вашим, ни ниже Вашего. А что Вы скажете, тетушка, если мы (с нею) чуточку опередим (других)!
Возвращаясь к документальному материалу, приведенному в дневнике, наверно, следует предостеречь читателя от опасности, которую может повлечь за собой бросающаяся в глаза точность изложения материала. Она может вызвать к дневнику доверие большее, чем того заслуживают насквозь субъективные записи.
Конфликт господина Латроба с лицами власть предержащими («И я надеюсь, что мне больше не придется иметь дела со здешними господами…») затрагивает статья, посвященная жизни этого человека, напечатанная в «Балтише монатсхефте», № 58, однако объяснение его дает только дневник Якоба Меттика.
Письмо Тимо его светлости Бурхарду Христофоровичу, как и некоторые другие бумаги, вызвали бы немножко больше доверия, если вспомнить loc. cit[90]90
В упомянутом месте (лат.).
[Закрыть] слова д-ра Шульца Бертрама: «У меня были его (Тимотеуса Бока) письма, в которых рядом со всевозможными проказничанием и высокими духовными осенениями стояли непонятные фразы, так что появлялось искушение считать его умственные отклонения просто игрой».
Что касается известной и таинственной истории исчезновения рукописи большого эстонско-немецкого словаря О. В. Мазинга, то, к сожалению, в дневнике Якоба Меттика встречается лишь подтверждение самого факта безо всяких дополнительных сведений. Объявление о розыске рукописи, по поводу помещения которого в «Дёрптише цейтунг» идет речь в дневнике, было напечатано. В нем взывали к совести обладателя рукописи и убеждали его вернуть это лингвистическое сокровище. Полтораста лет тщетной и все более угасающей надежды!
Большая часть подробностей смерти Тимо поддается контролю по нескольким официальным записям, которые подтверждают достаточную точность дневника. А все же и дневник не дает убедительного объяснения загадочному выстрелу дробью. Во всяком случае он подчеркивает его необъяснимость. Гипотеза Якоба Меттика проливает некоторый свет. По этому поводу снова следует сказать: ей можно верить и не верить.
Молодой Георг фон Бок, в дневнике Юрик, не стал, правда, морским министром империи, но чина вице-адмирала достиг. Больше того, он обучал морскому делу великих князей и даже стал доверенным лицом великого князя Владимира Александровича. Несмотря на это, он, по-видимому, с уважением относился к памяти отца. Доказательством может служить следующее: в 1859 году в Москве появилась статья Н. П. Лыжина «Знакомство Жуковского со взглядами романтической школы», насколько известно – единственная дореволюционная публикация, в которой много говорится о Боке. Эта весьма интересная статья оставляет странное впечатление из-за разрыва между двумя стремлениями ее автора: с одной стороны – внешнее, адресованное цензуре, старание говорить о Жуковском, а с другой – внутреннее, обращенное к читателю – возможно ближе познакомить его с Боком. Статья – единственный источник сведений о многих обстоятельствах, касающихся Бока. И последнее оказалось возможно лишь благодаря тому, что Юрик предоставил в распоряжение автора оставшиеся после отца и с пиететом им хранимые бумаги…
Жена Юрика Анна Дмитриевна Игнатьева была дочерью генерал-майора, владельца поместья в Самарской губернии. От этого брака, заключенного в 1847 году, родилось трое детей: одна дочь и два сына.
В июне 1876 года Юрик в качестве гофмаршала великого князя Владимира Александровича поехал вместе с ним в Германию навестить семью великого герцога Мекленбург-Шверинского, на дочери которого был женат Владимир. 12 июня 1876 года Юрик скоропостижно скончался в Шверинском замке, согласно сообщениям местных газет – от паралича легких.
И в заключение: когда Юрика не стало, Ээвы давно уже не было в живых. Она умерла там же, в Пыльтсамаа 3 мая (по старому стилю) 1862 года в возрасте шестидесяти двух лет, и 7 мая олустверский священник Симеон Попов похоронил ее рядом с мужем на лютеранском кладбище Выйсикуского поместья.
Некоторые проницательные читатели записей Якоба Меттика считают, что автор дневника – сам Я.М. – предстает в нем человеком уныло заурядным. Мне думается, что как литературное произведение этот дневник своей старомодностью сегодня, возможно, заслуживает какой угодно невысокой оценки… на фоне тридцатых или даже пятидесятых годов минувшего столетия оценка его была бы несколько более благоприятной. И соответственно несколько более снисходительной была бы и оценка автора дневника, если о достоинстве человека судят по его труду. Что же касается дневника как собрания фактов, то лишенное иллюзий отношение Я.М. к самому себе могло бы, кажется, только способствовать доверию к нему.
У меня есть возможность несколько дополнить русское издание книги. В октябре 1979 года в Стокгольме госпожа Маргарете Векманн (урожденная фон Бок) вручила мне множество генеалогических копий из Бокианы.
Из записей, сделанных в 1935 году в Эстонии, на мызе Ууэ-Порнусе, явствует, что, согласно семейному преданию, бабушка Тимо – Хелене фон Шультце, родившаяся в Москве 12 августа 1722 года и умершая в Выйсику 14 августа 1783 года, была дочерью фрейлины Софии фон Фрик и императора Петра Великого. Из этого следует, что Тимо должен был считать себя правнуком Петра. Обстоятельство, которое явно не было известно Якобу Меттику. Иначе он не находил бы поступки Тимо доведенными до крайности, в том числе его суверенное поведение по отношению к своему суверену, и объяснил бы их не только особым складом мышления Тимо, но и его именитостью, которую Тимо должен был сознавать, ощущая себя более прямым потомком великого представителя семьи Романовых, чем даже его родственник, император Александр I.
Хочу поблагодарить за всестороннюю дружескую помощь, которую мне оказывали во время работы над этой книгой сотрудники библиотеки Академии наук ЭССР в Таллине и Государственного исторического архива в Тарту, на этот раз – особенно тартусцев: прежде всего заместителя директора архива Малле Лойт за предоставление текста «Меморандума» Бока и его тюремного досье.
За любезную готовность жертвовать ради этой работы своим временем я прошу принять мою благодарность:
Галину Игнатьеву в Ленинграде за уточнение сведений о Шлиссельбурге во времена Тимо;
профессора, доктора филологических наук Сергея Исакова в Тарту за сведения, касающиеся тогдашних культурных кругов тартуского общества;
доктора исторических наук Юхана Кахка в Таллине за вышеприведенное письмо и за советы;
Херберта Куурме и Юлиуса Кийсхольста в Пыльтсамаа за сведения по истории местности и ее жителей;
Александра Лооритса в Таллине за уточнение карты со следами жизни молодой Ээвы;
Георга Мери в Нымме за дополнительные подробности жизненной истории Ээвы;
Юргена фон Шульца в Мюнхене за дружеские попытки отыскать письма Тимо, некогда принадлежавшие д-ру Шульц-Бертраму;
Марка Сергеева в Иркутске за ориентиры в эпохе декабризма;
д-ра Ханса Штрутца в Шверине за уточнение данных, касающихся смерти адмирала Георга фон Бока.
Я.К.
Рассказы
Дед
Оба мои деда были железнодорожники.
Дед со стороны отца, Якоб Мирк, служил паровозным машинистом на железной дороге Таллин – Петербург. В 1886 году его разжаловали и сделали кочегаром на его же паровозе. Потому что немецкий язык он знал так же плохо, как и русский, но в те времена и за такое плачевное знание новые железнодорожные начальники стали считать его сторонником немцев. В семье утверждали, что от этой несправедливости он заболел и, не дожив до пятидесяти лет, умер от туберкулеза, так что мне его видеть не довелось.
Отец моей матери, Хинрик Урбан, работал кузнецом в таллинских железнодорожных мастерских, и хотя едва ли он говорил по-русски лучше, но его, во всяком случае, не превратили в мальчишку-молотобойца у той же наковальни. С этим дедом мы стали друзьями, и история с крестом, которую я хочу здесь рассказать, произошла с нами обоими.
Мы с ним условились, что встретимся на железнодорожной станции. Или даже на Балтийском вокзале, как, наверно, сказал дед. На Балтийском вокзале июньским утром 1929 года.
Я уже давно стоял на тротуаре между зданием вокзала и только что вымытой булыжной площадью и смотрел направо. Оттуда, из-за дощатого забора, должен был появиться дед. Но его все не было, и мне становилось неуютно. Конечно, не оттого, что я был один, и не из-за чужих людей. Мне ведь исполнилось десять лет, и я уже вторую неделю считался третьеклассником, а незнакомые лица были далее интересны: немногочисленные, очень разные люди спокойно поднимались и спускались по каменным ступеням, два-три тачечника в надежде заработать стояли возле своих неуклюжих тачек (один сильно заросший старик, немножко похожий на деда, улыбаясь, предложил мне половину сайки, но я покраснел и, отвернувшись, отказался), три сонных извозчика сидели на облучках своих пролеток с фонарями, и три лошади шевелили в ожидании ездоков ушами, и еще там были две совершенно восхитительные вещи – два таксомотора! Надменный, с откинутым за загривок, складчатым брезентовым верхом черный «форд» и такой же темно-зеленый «фиат». От обоих исходили фантастические запахи масла, бензина, металла, лака и искусственной кожи. В каждом на переднем сиденье развалился вызывавший невероятную зависть шофер: на одном кожаное кепи с кожаной пуговкой, на другом шапка с козырьком, на ней даже значок автоклуба, а над козырьком таращились, поблескивая, настоящие гоночные очки… Только, нет-нет… несмотря на все это великолепие, я все-таки беспокоился за деда. Как мы все уже год за него беспокоились. Прежде всего потому, что он был ужасно старый – скоро семьдесят пять. И, во-вторых, потому, что он недавно так напугал нас своей болезнью. И еще потому, что после болезни он как-то изменился. Настолько, что, если уж совсем честно признаться, я стал его даже побаиваться.
Хинрик Урбан, мой дед с материнской стороны, как я уже сказал, был по профессии кузнецом. Когда-то он работал в Харьюском уезде, на мызе Карила, а позже, когда разругался с управляющим, – в Таллине. Здесь в кузнице железнодорожных мастерских он сорок лет простоял у полыхающего горна и под грохот парового молота ковал железо. Вплоть до прошлогодней весны. Я и теперь не могу сказать, почему он до такого преклонного возраста продолжал свой тяжелый труд. Сейчас я начинаю думать: может быть, из желания даже в малой мере не есть хлеб из милости и не зависеть от зятьев. Потому что на пенсию в сорок крон, на которую он мог рассчитывать за сорок лет стояния в кузнице, им с бабушкой прожить было бы трудно. Однако – но так, разумеется, я думаю сейчас – быть может, он шел к семи часам утра в свою черную кузницу, к своим куда более молодым товарищам, к молотобойцам с тяжелыми кулаками и торчащими усами, к молоту, к добела раскаленным кускам железа, от которых взлетали огненные хлопья и рассыпались искры (я бывал у него на работе и знал, как там все выглядит), быть может, он продолжал туда ходить просто по привычке. Что в более снисходительные к пафосу времена назвали бы глубокой, человеческой, творческой преданностью труду или как-нибудь еще более звучно.
Прошлой весной дед вдруг упал перед наковальней. Автомобилем красного креста его отвезли в больницу. Мать и бабушка ходили его навещать, но меня с собой не брали. Через месяц дед вернулся домой, и в воскресенье утром я пошел к нему. Их маленькая квартирка в начале Палдиского шоссе – комната с плитой и вторая, задняя, побольше – такая мне знакомая, оказалась пустой. Бабушка ушла, конечно, в церковь, но и деда не было. Я обнаружил его на дворе в сарае, где он, склонившись над тисками, пилил обрезок железа. Дедушка сел на табуретку в полосе падавшего из окна света и поманил меня к себе. Он положил тяжелую руку мне на плечо и что-то сказал, но я его не понял. Ах да, ведь дед иногда в шутку говорил несколько слов по-шведски, которые он знал от своей матери. Я попросил:
– Скажи по-эстонски. Я не понимаю.
Дед повторил, но я все равно его не понял.
– Дедушка, я не понимаю, что ты говоришь.
Дед отвернулся к окну и стал смотреть на двор, на хозяйские кусты крыжовника с крохотными листочками, и долго молчал. Потом медленно произнес – теперь я понял:
– Ну, я ведь спрашиваю… как у тебя… идут дела в школе? В каком ты теперь классе?..
Но он сказал это непривычно громко, непривычно медленно, и все равно казалось, что во рту у него каша. И как это могло быть, чтобы дед не помнил, в каком я классе. У меня сжалось сердце: значит, вот об этом и говорили между собой бабушка и мама: дед многое забыл и не может говорить – боже мой, ведь так было, когда его отвозили в больницу! Но теперь он опять дома! Доктора сделали свое дело! Теперь он опять должен быть здоров!
Но он не был здоров. Обострившимся от испуга зрением я видел: левый глаз у деда был не такой, как правый, левый уголок рта в серых зарослях бороды как-то горько опущен, его левая рука плохо слушалась и была почему-то холоднее, чем правая. А когда мы встали, чтобы через двор пройти в дом, то, идя следом, я видел: его левая нога почему-то не хотела отрываться от земли и большой сапог несколько раз застревал на шершавых камнях, цеплялся за неровности вымощенной камнем дорожки, и я боялся, как бы дед не упал.
Войдя в квартиру, он опустился на скамейку у плиты и с трудом, но более или менее внятно и, мне показалось, почти зло сказал:
– Глупости, что я там у наковальни упал. Просто заснул. Я помню. У меня из носу выскочили – я хорошо видел – выточенные медные шарики – не меньше как два дюйма в поперечнике – четыре штуки – на эту самую наковальню… А когда я стал спрашивать, куда они подевались, жулики доктора… скрыли… будто их и не было.
Этот странный разговор так напугал меня, что, несмотря на ласково глядевшего Христа над комодом, мне стало не по себе в этой комнатке, где все было так знакомо, все предметы, все запахи – дедовых сигар и папирос и бабушкиной ромашки. Ведь в дедушкиных историях про домовых граница между правдой и тем, другим, всегда угадывалась, если не как-нибудь иначе, то по прячущейся в бороде усмешке или подергиванию уголка глаза: веришь или не веришь? А сейчас он высморкнул свои невозможные медные шарики – два дюйма в поперечнике! – почти гневно и совершенно всерьез. Это было так странно, что я не решился спросить о подробностях. Я послушал тиканье стенных часов с гирями-шишками и спустя какое-то время сказал:
– Расскажи лучше историю про то, как карилаские мальчишки ходили ночью в капеллу и что там случилось.
– Дак чего там… особенного-то. Ээх…
Рот у дедушки скривился. Он умолк, махнул рукой и, повернувшись к окну, стал смотреть на улицу.
А я в испуге думал, что, наверно, мне уже не приходится ждать его необыкновенных и таких замечательных историй… Совсем про другие времена, про чертей и кладбища, поселки и мызы, про проделки кузнецов и их подручных, про амбарщиков и бурмистров, про баронов и их жен, возможно, не всегда годившихся для таких, как я, слушателей, так, во всяком случае, считала бабушка. Потому что я помню: если она оказывалась рядом, то нередко раздраженно и со страдальчески искаженным лицом вмешивалась:
– Ну что ты своим непристойным языком ребенку…
Да-а, наверно, мне уже не придется ждать от дедушки рассказов. Но нет. В течение первого пенсионного года дед против ожидания совсем оправился. Последствия паралича были едва заметны, а речь восстановилась полностью. И левая рука действовала. Правда, не настолько, чтобы пиликать на скрипке, что он прежде, с удивительной для его рук, старого кузнеца, ловкостью делал. Но свои удивительные истории он опять стал мне рассказывать.
Помню, на второй день рождества дед и бабушка, как это было на праздники заведено, пришли к нам обедать. Отец и дед выпили перед обедом по рюмке водки. Отец никогда больше одной не пил. А деду теперь – слава тебе господи, как сказала бабушка, – больше не разрешалось. Потому что прежде он выпивал и побольше. Даже настолько, что бабушка будто бы от этого страдала. Не знаю, когда именно, однако позлее я стал понимать, что в этих бабушкиных страданиях была немалая доля преувеличения, так как дружба деда с чаркой никогда не переходила за три-четыре рюмки субботним вечером в обществе железнодорожных кузнецов в низеньком Ялакаском трактире под замшелой черепичной крышей, который позже именовал себя даже «Ялакаской ресторацией». Всегда не больше нескольких рюмок и, допускаю, – что было уже пределом – мурлыкание каких-то песенок в потертый бархатный воротник старого мешковатого пальто с накладными карманами. «Ах ты, парень, разве ты не знаешь…» или чего-то подобного. Субботним вечером, возвращаясь около одиннадцати по Палдискому шоссе, он шел, разумеется, совершенно прямо. Так что в этом отношении по сравнению с теперешними знатными работягами мой дед был совершенный тюлень. Но бабушка считала, что и такое недопустимо.
Моя бабушка Анна была дочерью карилаского лесника. Среднего роста, к старости располневшая, но все еще с густыми темными, не тронутыми сединой волосами и синими глазами под высокими бровями. По-моему, она была самым добрым и достойным доверия человеком. Порой, может быть, даже снисходительнее, чем мама. Что касается доверия, которого она заслуживала, то время нисколько моего мнения не изменило. Что же касается ласковости и приветливости, то я пришел к выводу, что совсем не обязательно всем разделять мнение ее внука. Потому что с более далекими людьми бабушка была, по-видимому, скрытна и холодна. Но весь ее облик и поведение, как я сказал бы теперь, были неожиданно стильными. Она никогда не повышала голоса. Не произносила грубых слов, не говоря уже о бранных. Бабушка носила три платья: зимой черное, весной и осенью серое, летом светло-серое. На самом деле каждого цвета было по два платья, будничное и воскресное. Все на один фасон сшитые по ее собственному указанию тетей Сандрой; совершенно простые с закрытым воротом и узким белым воротничком. К воскресному платью бабушка прикалывала у самого горла брошь, овальный белый камень, обрамленный серебряной проволокой. Обручальное кольцо, которое она семьдесят лет не снимала с руки, было ее единственным украшением. Несмотря на положение жены рабочего и три класса деревенской школы, я никогда в жизни не слышал, чтобы кто-нибудь – знакомый или незнакомый, в глаза или за глаза, на улице или в лавке, в церкви или прачечной – употребил по отношению к ней выражение «кузнечиха», сказал бы о ней «хинрикова Анна» или «урбанская тетка». Как само собой разумеющееся, все говорили «госпожа Урбан». Должно быть, и по мнению бабушки, это было само собой разумеющимся. Смеха ее я не помню. Только усмешку, с которой она слушала собеседника: «Вот как? Только все ли обстоит так славно, как вы рассказываете?»
Шутила бабушка редко. И шутки ее тоже были особенные. В тот год, когда болел дед, мы с бабушкой накануне рождества проходили мимо церкви Яана, и она сказала: «Зайдем на минутку».
Мы свернули с засыпанной свежим снегом аллеи и вошли. Бабушка оставила меня стоять посреди пустой церкви, сама отошла в сторону и опустилась между скамьями на колени. И только спустя мгновение я понял, что бабушка молилась. Я смотрел на ее склоненное лицо. Глаза были закрыты, губы неподвижны, и выражение лица гораздо серьезнее, чем обычно. Она молилась долго, молча, сосредоточенно. Потом встала, и мы вышли. И хотя такая молитва была для меня непривычна, я не осмелился ничего спросить. Перед папертью стояли двое нагруженных саней, возчики выносили из церкви и укладывали на сани серые мешки.
– Что вы носите? – спросила бабушка.
– А что нам носить! Глядите сами, – буркнул возчик, – голубиные нечистоты. На церкви, поди, уже второй потолок нарос, не меньше фута.
По уголку бабушкиного рта мне стало ясно: она хорошо поняла, что хотел сказать возчик. Но бабушка взглянула сперва на меня, потом на него и строго сказала: