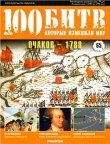Текст книги "Императорский безумец"
Автор книги: Яан Кросс
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 30 страниц)
– Und Sie sind mir also das zweite Wunderexemplar, mein Herr?[54]54
Значит, вы, сударь, второе для меня чудо? (нем.)
[Закрыть]
Я молча поклонился. Мария Федоровна продолжала:
– В Германии встречаются, разумеется, высокообразованные люди, по происхождению землепашцы. Но все же редко. И даже в России мне попадались такие. Единичные. Музыканты. Актеры. Но вот что бывают эстонцы, говорящие по-немецки и по-французски и ставшие почти дворянами, – это для меня совершенная новость…
Говоря это, она смотрела на меня, и я подумал, что мне следует что-то сказать в ответ. Нечто такое, от чего мне самому не стало бы неловко… Что-нибудь, что всегда так удачно умеет сказать Ээва, – вполне вежливое и, если удается, то чуточку все же колючее… Я сказал:
– Ваше величество, смею надеяться, что для вас это все же не неприятная новость…
– О-о, да-да! – сказала Мария Федоровна с ни к чему не обязывающей любезностью. – А сестра ваша мне очень нравится. Она настоящая женщина. И настоящая аристократка. А вот то дело, по которому она ко мне пришла, нравится мне куда меньше. Я наслышана о нем. Как и все. И не только наслышана. У меня с Александром Павловичем был даже по этому поводу разговор. Мое милое дитя, – Мария Федоровна взяла Ээвину руку в свою, – должна вас огорчить: если ваш муж заверил вас, что его обращение к императору было корректно, то следует сказать, что понимание корректности у вашего мужа, мягко говоря, расходится с общепринятым.
– Ваше величество, – сказала Ээва, – разве не естественно, что в какой-то мере оно должно отличаться от общепринятого?
– То есть как? – удивилась Мария Федоровна. И Ээва ответила:
– Потому что император взял с моего мужа клятву.
– Что значит – клятву?
– Клятву, что он всегда будет высказывать его величеству только правдивое свое мнение.
Мария Федоровна мгновение помолчала. Я заметил, что она колебалась, отпустить Ээвину руку или все-таки держать. И, продолжая поглаживать ее руку, сказала:
– Я знаю. У Александра Павловича были в свое время такие близкие люди. Но ваш муж единственный, которому это принесло несчастье. Ибо никакая клятва не обязывает к грубостям. Особенно к грубостям правителю.
– Но правда… – начала было говорить Ээва.
– Дорогая моя, даже правда или то, что хотят именовать правдой. И ваш муж может радоваться, что его выступление сочли только умопомешательством. Я вас понимаю. Да-да! Я даже любуюсь вами. И я обещаю вам, я буду следить за делом вашего мужа. Но лучше, если вы не будете питать никаких надежд.
Так безо всяких надежд мы от нее и ушли. И когда на обратном пути я спросил у Ээвы про клятву Тимо, в чем же он поклялся и каким образом император взял ее с Тимо, Ээва ответила:
– Якоб, мне не хочется больше об этом говорить. И ты про это не говори никому.
Так я и не узнал подробностей о клятве, которую Тимо дал императору. Пока через восемь лет Ээва не рассказала мне о ней. Как я уже писал.
Второй день рождества 1827
Вчера мы сидели за нашим скромным рождественским ужином в неожиданном обществе. В Выйсику на несколько дней приехал Георг. То есть Георг senior, брат Тимо, полковник в отставке. Мы ужинали в Кивиялге в нашей столовой с ее выщербленным дощатым полом. И хотя господин Латроб лично приходил просить гостя остановиться в господском доме, Георг предпочел вежливо отказаться и остался у нас, в свободной сейчас комнате своего племянника и тезки, которую нам пришлось полдня топить, пока не растаял на окнах лед.
Несколько лет тому назад Георг вышел в отставку в чине полковника и уехал жить за границу. Но перед тем он женился в Петербурге на дочери польского графа Терезе Лопушка, и у них родилась девочка. Гласно их отъезд за границу последовал в связи со здоровьем ребенка. На самом же деле осенью двадцать первого года перед отъездом Георг говорил Ээве и мне, помню, это было в господском доме в кабинете Тимо, и сказано было очень тихо:
– Вы же понимаете, что в России тень Тимо так или иначе падает и на меня. Все равно – помешает ли это моему дальнейшему продвижению или, даже наоборот, под действием укоров совести император присвоит мне следующий чин вне очереди… Кстати, в последнее время у меня были основания предполагать скорее второе, после того как через полтора года из подполковников меня произвели в полковники. Должен сказать, что мне это пришлось против шерсти больше, чем если бы повышение задержалось. Ибо последнее было бы нормально. А преждевременное получение следующего чина мне надлежит понимать как императорскую подачку, с помощью которой делается попытка примирить меня с судьбой Тимо… Роскошно жить за границей нам, конечно, не придется. Сначала мы будем жить на небольшое приданое Терезы… Ну, я попытаюсь там что-нибудь писать, хотя я сам знаю, что по сравнению с Тимо мои литературные способности мало чего стоят… Может быть, Кубе будет нам время от времени посылать какие-то суммы из доходов от Выйсику… Надеюсь, как-нибудь справимся. Во всяком случае там я буду свободен от кошмара моего двусмысленного положения. Ибо теперь мне совершенно ясно, что на родине я все равно ничем помочь Тимо не могу.
В тот самый раз он рассказал нам, какой гусарский фортель он выкинул незадолго перед тем. Нет, он начал самым подобающим образом. Он выяснил, по каким дорожкам царскосельского парка прогуливается император. В густом кустарнике он ждал приближения государя. Георг был напряжен, как конь перед взятием двойного препятствия. Все ордена на груди и все слова на языке… «Ваше императорское величество, мой несчастный брат уже третий год томится по воле вашего величества в не известном его семье месте, от чего семья его томится не меньше… Ваше величество, у него трехлетний сын, который даже не видел своего отца! Так же, как и отец – своего сына… Ваше величество, жена моего несчастного брата, что, конечно, скандально, женщина крестьянского происхождения (которую вы милостиво приказали щадить от всяких притеснений), все эти годы жестоко страдает от них как с одной, так и с другой стороны… Ваше величество…»
В это самое время его величество в самом деле приближался по песчаной дорожке вдоль кустарника, Георг вышел из-за кустов и остановился возле дорожки в ожидании. Император был уже в семи или восьми шагах от него. Но прежде чем Георг успел открыть рот, тот узнал его, тут же свернул на перпендикулярную и почти бегом удалился… Час спустя жандармский офицер отыскал Георга и велел ему явиться во дворец к министру двора Волконскому (к тому самому, которого Тимо в своей рукописи называет оберкельнером), и тот сказал Георгу: «Никогда не пытайтесь заводить разговор с его императорским величеством о вашем брате! Оставьте самую мысль о том, что император соизволит когда-нибудь выслушать вас по поводу Тимотеуса! (Что я теперь, увы, отлично понимаю и что Георг наверняка до сего дня считает ужасной несправедливостью и высокомерием.)
Другого человека такое внушение вполне могло бы парализовать. Но в Георге сидит добрая порция боковского упрямства. Да, это свойство им от природы присуще. Судьба Тимо более чем убедительное тому доказательство. Так же, как общее мнение, не раз мною слышанное: что сама фамилия Бок[55]55
Der Bock – козел (нем.).
[Закрыть] свидетельствует об основной черте этой семьи… Вместо того чтобы сдаться, Георг бросил в игру несколько тысяч рублей… Не знаю, сколько именно, и не знаю, кому они пошли. Но он в конце концов узнал то, чего ни Волконский, ни личная канцелярия императора не сочли нужным до сих под сообщить семье в ответ на ее запросы: узнал, где содержался Тимо. Он узнал, что это был Шлиссельбург, место еще более зловещее, чем Петропавловская крепость.
И вот тут Георг выкинул фортель, который я назвал гусарским. Он пошел в соответствующее место, точно не знаю, что это было за присутствие, и заявил, что является тем-то и тем-то, скажем, Иваном Ивановичем Плуталовым, во всяком случае племянником генерал-майора Плуталова – коменданта Шлиссельбургской крепости, – что прибыл из далекого полка, из Польши или откуда-то еще, и желает навестить своего дядю, для чего просит выдать ему соответствующий пропуск. Благодаря его уверенному поведению, его полковничьему мундиру и орденам и тому, что поблизости не оказалось офицеров более высокого чина, ему тут же выдали письменное разрешение в Шлиссельбург. Он вскочил в седло, чтобы, прежде чем выяснится обман, оказаться на месте.
Он помчался в город Шлиссельбург, туда, где мы с Ээвой уже побывали, где смотрели на остров и крепостные башни в неясной тревоге, а вдруг это и есть то самое место, где томится Тимо. Но поскольку у нас пропуска не было, мы, разумеется, внутрь не проникли. Георг предъявил свой пропуск охране, ему предоставили лодку с гребцами. Он переправился на остров. Его впустили в крепость. И он предстал перед старым, покрытым шрамами Плуталовым в его освещенном свечами комендантском кабинете, где толщина стен достигает сажени. И когда Плуталов посмотрел на пропуск, он засопел, вскинул брови и открыл рот, чтобы накричать на Георга, но Георг сказал:
– Господин генерал! Иначе мне было невозможно к вам попасть. Я полковник Георг фон Бок. Брат вашего особо секретного узника Тимотеуса фон Бока. И я прошу вас не как генерала, не как коменданта крепости, а как почтенного человека, человека чести: допустите меня в вашем личном присутствии к моему брату.
Генерал Плуталов долго молча таращил на него глаза. Может быть, в том виноват был дрожащий огонь свечей, но его шрамы, казалось, то бледнели, то наливались кровью. Потом он стал так же молча прохаживаться взад и вперед по своему кабинету. Георг говорил нам: у него создалось впечатление, что генерал потому отвернулся и стал ходить, что хотел скрыть от Георга выражение своего лица. Когда он наконец остановился перед пришельцем, и притом настолько близко, что запах лука от недавнего ужина ударил тому в нос, лицо у Плуталова было непроницаемым. Он сказал:
– Господин полковник, видно, что вы брат своему брату. Известно ли вам, как мне надлежит с вами поступить?
– Полагаю, что известно, – ответил Георг. – Вам надлежит взять меня под стражу и ждать приказаний от императора. Вам – как генералу и коменданту. Но – как человеку чести – вам следует выполнить мою просьбу.
Генерал Плуталов стал кричать:

– Черт подери! Не пережмите пружины! Благодарите бога, что я действительно человек чести и не поступаю так, как мне надлежит поступить по букве закона! – Потом он сказал почти тихо: – Подите сюда! – достал из стола бутылку с синей головкой и налил Георгу полный стакан водки. – Садитесь! – налил второй стакан себе и сел напротив Георга на деревянную скамью. – Ваше здоровье… – Он выпил стакан до дна. – В сущности, мне следовало сказать вам, что я понятия не имею, ни где находится ваш брат, ни вообще о его деле. И что здесь его во всяком случае нет. И так далее. Или даже еще правильнее было бы вообще с вами не разговаривать. Вам, господин полковник, надлежало бы уже полчаса сидеть здесь у меня в карцере. А я разговариваю с вами. И безо всяких выкрутасов. Ваш брат здесь. К нему по указанию императора доступ разрешен только мне. И только тем лицам, которым с разрешения императора графом Ливеном выдан пропуск. Я предвижу, что вы обратитесь по своему делу к графу Ливену. Если это будет так, то хочу надеяться, меня вы не упомянете. Кхм… Вы хотите знать, как себя чувствует ваш брат? Я скажу вам: так, как здесь можно себя чувствовать. Соответственно. И добавлю со своей стороны: я полагаю, что ему не пришлось бы здесь находиться… если бы он сам не решил, что должен. Так. А сейчас с глаз моих долой! Уезжайте обратно в город! Стойте! Допейте свой стакан, не то простудитесь в лодке. Адье! Чтобы даже духа вашего здесь не было!
Георг говорил нам в тот раз:
– К Ливену я действительно потом ходил. И то, что я там увидел и услышал, лишило меня последней надежды чего-нибудь добиться для Тимо. Мы с Тимо знали графа еще по Тарту. Даже еще раньше. Наши отцы были знакомы по рижскому ландтагу. Однако должен сказать, этот граф, этот университетский куратор, эта близкая императору душа и главный ангел библейских обществ, повел себя так, что старый жандармский мужлан Плуталов по сравнению с ним в самом деле был джентльмен… С первых слов Ливен отрицал вообще какую бы то ни было свою причастность к делу Тимо. Столбовой дворянин, кем он был, с репутацией почти что святого, которой он так домогался, Ливен повернул ко мне свою желтоватую лошадиную морду – и тут же на ней появилась маска придворной улыбки… Он стал делать вид, будто ему нужно вспомнить о чем-то давным-давно забытом, и врал мне в лицо: «…Да-да-да, несколько лет тому назад я действительно что-то слышал о каком-то безрассудном поступке Тимотеуса… И что император был глубоко возмущен – глубочайше возмущен, – об этом тоже. Но больше я об этой истории ничего не знаю, нет-нет-нет. И вы же понимаете, господин Георг: мне совсем не пристало в это вмешиваться и проявлять какой-то интерес… Так что… А как растет и поправляется ваша дочурка? Хорошо ли чувствует себя в Петербурге госпожа Тереза?
Георг говорил:
– На это я ему ответил. На правах старого знакомого я подошел к его столу и сказал: «Граф! Мне доподлинно известно, что Тимотеус содержится в Шлиссельбурге, в Секретном доме, и вы облечены властью разрешать посещения… – И знаете, когда я увидел, как он разводит в стороны свои восковые руки, чтобы отречься и от этого… Тогда… поскольку он хотел так дешево меня провести… И… поскольку Боки по природе все немножко актеры, я вынул пистолет! Боже сохрани, конечно, я не стал угрожать ему. Я приставил дуло к собственному виску и сказал – Граф! В Священном писании сказано: лгущие уста убивают душу. Говорите правду! Или я спущу курок – и через десять секунд предстану перед господом богом! И хотя господь отправит меня за мой поступок в чистилище, я все же успею ему сказать: «Всемогущий, душа моя выйдет оттуда, ибо она жива! А вот благочестивый Ливен там, во главе России, убил свою душу ложью! Он бездушный мертвец!» Итак, через десять секунд я буду там!» И я стал считать: «Один, два, три, четыре, пять». Когда я дошел до шести, он крикнул: «Перестаньте!» – (Георг рассмеялся.) – Само собой понятно, я не хочу сказать, что он был сломлен. Сломлен – совсем неуместное слово. Но это треклятое вместилище грехов и слез, этот старый глупец внутренне все же дрогнул от какого-то испуга – и стал придумывать новые ходы. Он вскочил. Он заставил меня сесть на диван. Сел со мной рядом. Положил руку мне на колени и эмфатически принялся объяснять: «О господин Георг, словами Книги премудрости Соломона вам пришлось напомнить мне правду… Благодарю вас за это… Слушайте меня… История вашего несчастного брата трагичнее самой трагедии… Вы себе не представляете, как я боролся за его душу… Но в своем абсолютном неверии он гибельно замкнут. Это ужасно, что с ним стало! Он законченный богоотступник! Именно это император отказывается ему простить! Именно поэтому всякая мысль о милосердии безнадежна…»
Он печально смотрел на меня, его лошадиное лицо побледнело, и я собственными глазами видел, как по этой желтоватой маске катились слезы… А я ведь знал – как раз перед этим до нас дошли первые письма Тимо, где он писал: «Мои дорогие, надеяться на людей нам не приходится. Будем же надеяться на господа, на которого я твердо уповаю…»
Вы же понимаете, – продолжал Георг в тот раз, – после такой бездонной лжи, исходившей с такой высоты, мне должно было стать ясно, что мне не на что надеяться. Уехать, поселиться на чужбине – единственный путь. И туда мы теперь и отправляемся. Согласие императора получено… Ох, бог знает, может быть, лжи повсюду не меньше и воздуха не больше, чем здесь… Нет-нет. Я ведь это чувствую. Или во всяком случае предугадываю. Знаете, даже если я ошибаюсь, даже если мое впечатление от жизни во Франции или Швейцарии иное просто потому, что оно беглое и поверхностное, – далее и в этом случае все же существует огромная разница! Да, разница остается громадной, даже если там в действительности то же самое, что и здесь, – омерзительная ложь и насилие. Ибо там я не буду на каждом шагу чувствовать, что я в ответе за все гнусности, понимаете… Нет, не думаю, что вам это совсем было бы понятно… Потому что вы происходите из низов, – простите меня, из дерьма, – как говорят мои братья по сословию. Вы оба получили образование, обладаете определенным кругозором и имеете представление о мире. Случайно и чудом. И тем горше для вас мировые абсурды. Но зато в силу своего происхождения вы обладаете святой внутренней свободой называть гнусности гнусностями. Если не гласно, то по крайней мере в душе. У меня этой свободы нет. Я дворянин империи. Я – столп порядка! Есмь и должен им быть и – Господи Боже – желаю им быть! Но какое же государственное устройство выпало на мою долю поддерживать! Любую мерзость я должен объяснять в пользу императора, прощать ее. Я должен говорить: все дурное в империи существует лишь только потому, что добрый царь об этом еще не знает… Хватит!
В последней фразе от полушепота он дошел почти до крика, потом голос его опять стих:
– И я не единственный, кто это понимает. Среди офицеров есть честные и мыслящие люди. Я это знаю. Может быть, нам придется ждать не так долго, как мы думаем. Они звали меня действовать вместе с ними. Но дружбу с ними я себе позволить не могу. К сожалению. Поскольку я совершенно уверен в том, что правительственные наушники уже четыре года ходят за мной по пятам. Любая близость с каким-нибудь – ну, каким-нибудь тайным обществом с моей стороны была бы прямым предательством Иуды. Так что единственное, что нам остается, это спрятаться за спину нашей трехлетней дочурки (что мы и делаем!), ускользнуть за границу и там поселиться…
Через несколько дней вслед за Георгом к нам приехала Тереза с девочкой. Молодая подвижная черноволосая женщина такого типа, какой здесь, наверно, называют испанским. Она явно не глупа. Только, по-моему, слишком уж заметно старается казаться умной. А их Агнес вполне здоровенькая трехлетняя стрекоза.
Они пробыли в Выйсику несколько дней и отправились в Ригу, если я правильно помню, это было в сентябре двадцать первого, и потом несколько лет о них можно было только случайно что-то услышать. Помню, что вскоре пришло от них коротенькое, в несколько строчек письмо из Кракова и второе – из Берлина. Жуковский, старый друг Тимо, приезжавший в двадцать первом году на несколько дней в Тарту, говорил, что встретился с Георгом в Берлине и представил того своей повелительнице, то есть супруге нашего теперешнего императора Николая Первого. Потом мы опять несколько лет ничего о Георге не слышали. Пока не стало известно, что за несколько месяцев до того, находясь в Германии, он завел переписку с Ригой по поводу каких-то денежных дел. И теперь вдруг он сидел здесь за нашим рождественским столом и раскатисто смеялся и, когда Кэспер, подав на стол свиное жаркое, вышел, сказал:
– Слава богу, теперь я своими глазами видел: Тимо, ты точно такой же безумец, нисколечко не больше, чем тогда, двенадцать лет назад, когда в Петербурге впервые заговорили о твоем безумии. За то, что ты отверг императорский план женить тебя на Нарышкиной и остался верен своей Китти. Знаешь, когда летом в Германии мы услышали, что они освободили тебя из-за того, что ты лишился рассудка, я сначала даже немного испугался. Да-да. Я подумал: в какой-то мере мой дорогой брат всегда отличался особым мышлением… так что в конечном итоге за эти годы в Шлиссельбурге, как бы сказать – под каменным кузнечным молотом, – может, и в самом деле у него помутилось в голове. И тем отраднее мне сейчас видеть, в какой ты хорошей форме…
Тимо ничего не сказал. Я заметил, что у него слегка подрагивало левое веко. Он смотрел в тарелку и резал жестковатое жаркое на мелкие кусочки, чтобы справиться с ними беззубым ртом. И у меня промелькнуло: нет, не может Георг вполне искренне восхищаться здоровьем Тимо.
Третий день рождества
Сегодня часов в десять утра ко мне постучался Кэспер и сказал, что господин Тимотеус просит меня к себе. Когда я вошел в залу, они сидели втроем – Ээва, Тимо и Георг – у камина в старых скрипучих креслах, затылками к сероватому снежному свету за окнами и лицами к огню. На столике у камина перед Георгом стояла кружка с пивом, а перед Ээвой лежала какая-то бумага. Тимо сказал:
– Якоб, у тебя по-своему жесткий, но справедливый ум. Скажи, кто из нас прав. С восемнадцатого года я должен Георгу тысячу шестьсот рублей. С процентами это составляет сейчас две с половиной тысячи. В Германии у Георга семья и никаких доходов. И он хочет через генерал-губернатора получить этот долг из доходов Выйсику. А Китти считает, что человек чести не стал бы этого требовать…
– Дорогой, может быть, я и несправедлива к Георгу, – сказала Ээва, поглаживая руку Тимо, – а бумагу, которую Георг хотел получить, я написала еще два месяца назад…
– Какую бумагу ты должна была по этому поводу писать? – спросил я, несколько удивленный.
– Ну, я ведь безумен, – сказал Тимо, – подтверждение долга, написанное мною, в расчет не принимается. – Он придвинул ко мне лежавший на столе лист, и я прочел:
«Я, подписавшаяся ниже, Катарина фон Бок, жена полковника в отставке, дворянина Тимофея фон Бока, будучи в здравом уме и твердой памяти, настоящим подтверждаю:
Из неоднократных устных и письменных заявлений моего мужа, находившегося в полном здравии как физически, так и умственно, мне известно, что он задолжал своему брату, полковнику в отставке, дворянину господину Георгу фон Боку одну тысячу шестьсот шестьдесят рублей восемьдесят копеек, взятые им наличными деньгами, на сию сумму следует начислить проценты, начиная с 17 апреля 1818 года.
Во время регистрации долгов моего мужа господин Георг фон Бок, полковник в отставке, в предусмотренный срок не записал себя в число кредиторов, отчасти потому, что не располагал соответственно оформленным документом, отчасти же желая пощадить своего брата и не предъявлять лишней жалобы на и без того несчастного должника. В надежде, что последний вскоре будет освобожден из-под ареста и тогда вне всякого сомнения сам выплатит долг. Эта надежда из года в год продолжала оставаться тщетной. Когда же, по высочайшему повелению, после девятилетнего отсутствия мне моего мужа вернули, его пострадавшее за это время умственное здоровье сделало невозможным погашение выше означенного долга им самим.
Поскольку мой весьма ограниченный доход лишает меня возможности вместо мужа удовлетворить это обоснованное требование его брата, я прошу последнего рассматривать данный документ как подтверждение, к сожалению, все еще не выплаченного долга в размере двух тысяч пятисот шестидесяти рублей серебром и восьмидесяти копеек. Если мне суждено умереть прежде, чем я смогу выполнить мое искреннее желание и выплатить этот долг, я уповаю на то, что мой любимый, сейчас еще малолетний сын Георг фон Бок, находящийся в данное время в Царскосельском воспитательном заведении, сделает это по достижении совершеннолетия и незамедлительно погасит отцовский долг, особенно памятуя долголетнее ласковое, истинно родственное отношение своего дяди, который сам нередко испытывал серьезные денежные затруднения, что дает тому полное право рассчитывать на благодарность со стороны брата, то есть моего мужа, следовательно, и на мою и на благодарность нашего сына.
Выйсику Лифляндской губернии,
Вильяндиского уезда,
октября 26-го дня 1827 года
Катарина фон Бок»
Я смотрел на них в недоумении. Я спросил, что по этому поводу могу сказать им я. Георг явно считал приглашение меня в качестве арбитра глупым (как и я сам). Ничего не говоря, он отхлебнул пива. Однако Тимо сказал:
– Скажи нам, имеет ли Георг, по твоему мнению, право – понимаешь, не о юридических правах идет речь, они вне всякого сомнения, – есть ли у него нравственное право добиваться получения этих денег?
Я спросил:
– Ээва полагает, что у него этого права нет?
По тому, как озабоченно Ээва смотрела на Тимо, я понял, что она хочет говорить правду, но в то же время смягчить явное волнение Тимо. Она сказала:
– Я считала, что у него нет такого права… Учитывая наше положение… Но я же сказала, может быть, я ошибаюсь…
Я спросил:
– Однако все, что ты пишешь о благодарности, которую испытываешь к Георгу, это же истинная правда, насколько я знаю?
– Правда, – сказала Ээва.
– Каким же образом ты считаешь, что у него нет права?
– …Потому что мне казалось, как бы бедственно ни было их положение, все же по сравнению с нами – ну… он свободный человек, волен приезжать и уезжать и может постоять за себя. Поэтому мне и представлялось, что он все же не должен пускать в ход написанный мною документ.
Тимо встал и со странно напряженным лицом стал ходить от камина к фортепиано и обратно. Потом он остановился рядом с камином, более бледный, чем обычно, причем правая половина лица, освещенная огнем, казалась горящей. Он сказал:
– Друзья мои, эти две с половиной тысячи – пустое! Я, разумеется, никто. Я лишь – эхо когда-то существовавшего имени. И у меня ничего нет. И все-таки я скажу. Эти две с половиной тысячи – прах. Другое внушает мне тревогу. Как мне верить, что осуществимо справедливое государство, если две самые близкие мне души так по-разному понимают нравственность?! И если невозможно решить, кто прав?!
Должен признаться, предложение быть судьею над этими тремя, из которых двое – дворяне (пусть даже оба неимущие, при этом один из них официально объявлен безумным), а третья называет себя «фон такая-то» (я видел ее подпись), хотя корнями из дерьма и является моей собственной сестрой, – что предложение стать их судьей показалось мне соблазнительным. И выход, который пришел мне в голову, представился правильным. И для того чтобы показать беспочвенность несколько странного беспокойства Тимо, он тоже годился. Я сказал:
– Послушайте, что страшного в том, что мы не можем решить этот спор. Ведь это же не первостепенный или – если Тимо желает – не философский вопрос. Мне думается, здесь дело просто в нашей осведомленности или неосведомленности. Георг имеет право – как юридическое, так и нравственное – в том случае, если его затруднения большие, чем наши.
Тимо скрестил руки на груди и с восторгом посмотрел на меня.
– Якоб, тебя следовало бы назвать Соломоном!
Я сказал:
– Но у нас нет, конечно, мерки, чтобы измерить затруднения. Есть лишь чувство. И каждый чувствует, что его беда больше.
– Неопровержимая истина! – воскликнул Тимо, – А знаете, что мы сделаем? Мы решим нашу дилемму! Мы решим ее божественным судом!
Мы смотрели на него, ничего не понимая. Мне показалось, что он даже наслаждается нашей непонятливостью. Он сказал:
– В истории это делалось по-разному. Четыреста лет тому назад Георга закопали бы по пояс в землю и дали бы ему и Китти мечи. Или их испытали бы водой и огнем. Но тот способ, к которому мы прибегнем, тоже существует уже давно.
Он вышел из залы, а мы смотрели друг на друга. Георг спросил из-за своей пивной кружки – было видно, что не без волнения:
– Китти, что он затевает?
Ээва поднялась, чтобы пойти за Тимо, но он уже вернулся. Он держал на ладони две игральные кости с черными точками. Одну из них он сунул в руку Ээве, другую – Георгу. И сказал радостно и деловито:
– Сперва Китти, потом ты… Согласны? Если первый раз выпадет ничья, бросайте еще, пока одному из вас не выпадет большее число. Если выпадет раньше Георгу, он будет требовать долг. Если Китти, то Георг откажется. – Он повернулся ко мне – Ну как? Правильно?
Что мне оставалось на это сказать?! Даже если бы Тимо здесь не было, я не мог бы спросить у тех двоих, считают они его предложение безумным или разумным… И само предложение неожиданно было… Как бы это сказать? Безумно? Нелепо? Странно? Чудно? Или, в конечном итоге, было в нем что-то… если совершенно здраво подумать – даже что-то мыслимое? Даже по-своему логичное? Или, может быть, в данных обстоятельствах даже единственно логичное, когда действительно невозможно решить, у кого же большие трудности – у тех бродяг, без корней, в чужой стране, или у этих, ставших тенями узников в собственном доме?.. Черт его знает. Мне это не было ясно ни сегодня утром, ни сейчас. Во всяком случае я ответил Тимо:
– Ну… если так, то, по-моему, все как надо.
Георг хотел что-то сказать, наверно, возразить, но решил махнуть рукой, а поскольку кубик был у него на ладони, он сжал руку в кулак и махнул не рукой, а кулаком.
– Нет, Тимо, я же говорил – ты никогда разум не терял. Ты всегда был безумным. – Он засмеялся. – Китти, бросай!
Ээва поддержала игру, и вопрос решился с первого броска. Ээве тут же на полированном каминном столике выпало пять очков, а Георгу три. Вероятно, Георг был разочарован, генерал-губернатор наверняка велел бы выплатить ему деньги или поделить капитал, который по распоряжению самого генерал-губернатора был выделен на воспитание Георга-младшего. Наверняка приведен был бы довод, что семье уже не приходится тратиться на образование сына, поскольку император сам всемилостивейше et cetera. Но Георг своего разочарования не показал, а сохранил жовиальность. Только его отъезд сразу же после обеда – в Ригу и снова в Германию, – о чем он через два часа после игры в кости сообщил нам во время закуски, произошел, по-видимому, скорее, чем предполагалось.
11 февраля 1828 г.
Опять полуторамесячная усталость от дневника. Наверно, это свидетельствует и о том, что ничего особенного за это время не произошло. Очевидно, наш несколько странный образ жизни постепенно становится обыденным.
Мы живем совсем тихо, почти беззвучно. Мы нигде не бываем или почти нигде. И у нас почти никто не бывает. Только господин Карл Лилиенфельд из Ууе-Пыльтсамаа, по какой-то линии родственник Боков и даже не очень дальний, вдруг после Нового года явился нас проведать. Весьма мило и любезно, и даже вместе со своей супругой Шарлоттой и тринадцатилетним Карлом-младшим, так что вполне, как говорится, comme il faut. Мне было больно видеть, как Тимо им обрадовался, и не столько за себя, сколько за Ээву, – все-таки не все родственники отказываются признавать его жену. И я понимаю, что для Тимо это чрезвычайно важно. Ибо он неизбежно должен чувствовать свою сопричастность и свою ответственность за отношение родичей к его жене, как бы это ни было по сути абсурдно. При том, что изолированность нашей жизни давно уже обусловлена не сословным позором, который Ээва навлекла на Боков, как это было вначале. Разумеется, для многих это как было, так и остается вечным позором. Когда мы месяц тому назад в День трех волхвов вдвоем с Ээвой пошли в церковь пыльтсамааского замка и сели на скамейки для дворянского сословия, госпожа фон Самсон встала и вышла из церкви. Точно так же, как и десять лет тому назад. Но разница все же была немалая. В тот раз вслед за ней опустела вся скамья. А на этот раз своего Рейнхольда она уже потащить за собой не могла, он несколько лет как покоится в склепе, здесь же на церковном кладбище, а все остальные дворяне остались сидеть на своих местах. И когда мы после окончания службы выходили из церкви, все господа с поклоном приветствовали Ээву. И даже пять или шесть барынь тоже ей кивнули. А две или три из них, проходя мимо, поздоровались за руку и с улыбкой спросили, как идут дела у маленького Георга в Царском… Сейчас нас больше избегают из-за Тимо. Только в первые месяцы и только в отдельных случаях любопытство пересиливало страх. Я имею в виду – страх скомпрометировать себя общением с Тимотеусом фон Боком уступал желанию удовлетворить свое любопытство и выяснить, так что же, безумен он или нет.