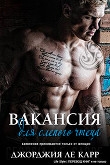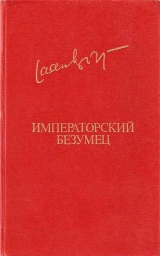
Текст книги "Императорский безумец"
Автор книги: Яан Кросс
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 30 страниц)
– Носите, носите. Нечистоты на церкви давно уже слишком много.
Бабушка потянула меня с собой. Мы шли в направлении «Детского сада», так тогда называли эту площадь, я оглянулся и увидел, как растерянно смотрит нам вслед возчик с мешками голубиного помета. Так что бабушкины шутки иногда ставили людей в тупик. Что же касается деда, то мне казалось, в то время я, конечно, только предполагал, что и он не раз оказывался поставлен в смешное или неловкое положение своей гордой, особенной и ни на кого не похожей женой.
После того рождественского обеда и выпитой с отцом рюмки дед сел в нашей маленькой зале за старое пианино и стал наигрывать «Родилось у нас дитя…». Но на левой руке он владел только двумя пальцами. Остальные ему не повиновались, и мелодия у него не получалась. Дед закрыл инструмент, сунул в рот рождественскую сигару и из своей допотопной машины, состоявшей из керосина, ваты, стальной трубки и кремня, добыл огонь. Я видел, что он убит своей беспомощностью. Я спросил:
– Дедушка, это правда, что ты распрямлял подковы?
Трудно сказать, почему я это спросил. Может быть, случайно, может быть, из желания его утешить. Ибо дед был таким сильным мужчиной, что наверняка должен был это проделывать. Возможно, распрямил бы даже и сейчас. Потому что для этого требовались пальцы не гибкие, а скорее несгибаемые.
Он взглянул на меня сквозь дымное облако:
– Э-эх. Не помню.
– Но кузнецы ведь распрямляют!
– Может, кто и распрямлял. Коли дерьмовое железо и сильный человек.
– И короли распрямляли, – продолжал я настаивать. – Польский король Аугуст. Я читал.
– Короли да императоры распрямляют государства, это конечно. Это мы видывали. А вот чтобы конские подковы – не верю. Может, если какая вертихвостка на них глядела.
– А ты разве не распрямлял?
– Случилось один раз. Мальчишкой.
– Расскажи.
И тут дед рассказал, как карилаская барышня, шестнадцатилетняя Каролина, эдакая букашка с озорными глазенками, по выражению деда, вдруг пришла к нему в кузницу, поглядеть, как куют железо. Известно, из пустого жеманства и любопытства. И ходила там, и глядела, и форсила. Дед предупредил, что может юбку шелковую запачкать. Но это не подействовало.
Вдруг барышня спросила, сможет ли Хинрик распрямить подкову. Деду было двадцать лет, из них уже пять он работал в кузнице, ему и прежде хватало силы развести рогаль у сохи – парень был в самом соку. Он взял из ящика возле наковальни еще не остывшую подкову, плюнул на ладони и разом перед самым носом у барышни ее выпрямил.
– А что сказала барышня?
– Да ничего, только ойкнула.
– А потом? – спросил я. Очевидно, какое-то «а потом» – прозвучало в голосе деда.
– Потом? На следующий день барышня опять была тут как тут. Я подумал: дай напугаю ее чуток. И когда она, глядя в чан с водой для закалки, любовалась собой, я взял с наковальни клещами еще красный болт для дышла и сунул его в чан. Вода зашипела, и барышне в лицо ударил горячий пар. Она отскочила и сквозь парную завесу уставилась на меня выпученными глазами. Я подумал, ну теперь эта чертовка побежит жаловаться папеньке и мне намылят шею. А она громко расхохоталась и крикнула: «Да ты и сам напугался!» На следующий день она принесла ключ: сделай ей еще один такой же. Я сделал. Еще на следующий день она явилась за ним. И так пошло. Я подумал, что эта распрямленная подкова дорого мне обойдется. Потом она прислала горничную: пусть Хинрик придет в барский дом, переставить барышнин сундук с одного места на другое. Тут я решил: хватит. Горничной я сказал, чтобы шла вперед, а сам намазал левую ладонь вместе с пальцами копотью. И пошел за горничной. По пятам за ней прямо в барышнины хоромы. Она горничную отослала, стала кривляться – ну да – и сказала:
– Хинрик, переставь сундук от кровати к столу. – Я переставил. Но при этом оперся левой рукой о стену, обитую белым штофом. Когда сундук стал на место, барышня обернулась и увидела:
– Боже мой! Хинрик, что ты наделал! Будь ты неладен!
От руки остался след, наверно, с фут длиной. Я сказал:
– Дело рабочее!
– А барышня, она что сделала? – спросил отец.
– А она? Она охала: Хинрик, лучше бы своей лапой на мою постель оперся, одеяло выстирать можно. А как теперь штоф вычистить?
В этот момент на пороге возникла бабушка, и на шее у нее красные пятна, что свидетельствовало о сильном негодовании. Она тихо произнесла:
– Отец, опять ты при ребенке рассказываешь про свое непотребное поведение. Вместо того, чтобы читать рождественское евангелие…
Дед ответил:
– Мать, скажи, ну что же тут непотребного?! Ведь вот как раз наоборот…
Так что старые дедовы истории, почти как и прежде, оставались при нем. Но все же перемены в старике произошли. Никаким музыкантом, серьезно говоря, он никогда не был, но неспособность справиться с пианино или со скрипкой после паралича угнетала и сердила его. А когда на пианино или на скрипке играл кто-то другой, он становился теперь неузнаваемо растроганным. Дядя Ханс, муж маминой младшей сестры, тети Эмилии, был когда-то почти профессиональным музыкантом. Теперь он, правда, уже давно работал корабельным механиком, но в молодости несколько лет играл на скрипке в оркестре «Пандорина». В марте его «Ляэнемаа» привел в Таллинский порт ледокол, и я как раз был у деда и бабушки, когда дядя Ханс, как и прежде, явился к ним с бутылкой виски и сигарами и, как, наверно, и прежде, снял со стены скрипку и сыграл своей свояченице и ее мужу несколько восхитительных вещей. Какие-то романсы и, должно быть, Шопена. Все как подобает настоящему скрипачу. И маленькая комната звучала и пела. Дед и бабушка сидели рядом на диване и слушали. На турецком диване, как в то время называли диван с тремя жесткими выпуклыми квадратными подушками вместо спинки и двумя, как дерево твердыми, валиками на концах. В тот момент, когда дядя Ханс сделал паузу, бабушка встала:
– Слушать-то и впрямь приятно. Только на корабле ты, должно быть, вдвое больше зарабатываешь, чем прежде скрипкой… – и пошла в другую комнату к плите, приготовить зятю ужин.
Дед еще долго слушал. Но и он не дослушал до конца. После Шопена он произнес вдруг каким-то дрогнувшим голосом:
– Хватит, Ханс! Больше не надо.
Дядя Ханс с недоумением посмотрел на него и перестал играть. А дед смущенно сморкался в большой голубой платок, а когда Ханс, вешая скрипку, отвернулся, провел им по глазам.
Однако наряду с такой странной чувствительностью дед бывал иногда и неожиданно резок.
Одним воскресным апрельским утром я опять был у них. Бабушка еще не вернулась из церкви, а дед в первой комнате чинил у окна стенные часы. Их у него было трое. Одни большие, в восьмиугольном деревянном футляре, английские, будто бы на каком-то вокзале за негодностью снятые со стены в зале ожидания и купленные дедом, наверно, еще за царские рубли. Они висели над кроватью с выточенными шариками, от одного завода ходили две недели и били – дед говорил – почти так же гулко, как колокол Козеской церкви. Двое других были с гирями. Одни очень старые, медные гири у них совсем потускнели, они висели рядом с окном, прямо напротив тех больших, вокзальных. Дед повесил их там потому, что это были часы его деда. И еще для того, как он говорил, чтобы, сидя на своем месте за обеденным столом, ему не нужно было выворачивать шею, оглядываясь на «англичанина». Третьи, обычные, но все же неплохие часы с гирями-шишками, стоившие четыреста марок, висели в первой комнате над кухонным столом – «чтобы Анна всегда знала, давно ли у нее кипит картошка или тушится мясо».
Вот именно их дед и чинил. Вообще часы он часто чинил и проверял, и говорил о них так, будто это были, ну скажем, три кошки. Часы имели имена: Ангел, Гиря и Шишка, не знаю, окрестил их сам дед или кто-то другой. Гиря и Шишка получили свои имена, разумеется, из-за формы гирь, Ангел, может быть, потому, что сделаны были в Англии. Когда-то позже дядя Ханс рассказывал, что бабушка считала недопустимым называть часы Ангелом. На что дед ответил: «Ежели Ангелом можно назвать девчонку, так часы и подавно. Часы-то могут врать только время, а девица – все, что угодно». Во всяком случае, дед часто возился со своими тремя часами. Потому что ему хотелось, чтобы они не только правильно шли, но чтобы последовательно одни за другими били: начинать должен был Ангел, за ним без промедления продолжала Гиря и сразу за ней – Шишка. Но Шишка в последнее время сбилась не только с боя, но и с хода. Она была извлечена из ее стеклянного домика. Дом покоился на столе, лежа навзничь, а разбросанные внутренности лежали тут же рядом. Белой тряпкой дед протирал зубчатые колесики, дул на составные части тела часов и нужные места поливал маслом из масленки с тоненькой трубочкой от бабушкиной швейной машины. И это было так интересно, что я не требовал от него никаких рассказов.
Дед собрал часы, повесил их обратно на стенку и толкнул маятник. Мы перешли во вторую комнату. Дед сел на диван и закурил папиросу. Сигары разрешались только по большим праздникам. Я сказал:
– Расскажи теперь, как ты ходил призываться. Тогда, давно, когда была жеребьевка.
– Ну, как ходил. Вызвали двадцатилетних парней из прихода в Ярвекюла. Ярвекюльский барон был председателем комиссии. Ну, кому идти пришлось, у того, конечно, кошки на душе скребли. В то время, правда, служили уже не двадцать пять лет, как прежде, а шесть или семь где-нибудь в Северной Польше, а то и вовсе у черта на куличках. Так что у кого душа похлипче, те прежде заходили в трактир, храбрости набираться. Дак ведь так оно и было: будто перед дулом стоял – получишь пулю или пронесет. В доме волостного правления за столом сидели господа в мундирах, а на стене крупно было написано пять или шесть цифр. Будто номера псалмов в церкви. На столе лежали заклеенные конверты. Каждый брал один из них, и баронский письмоводитель его вскрывал…
Дед вынул изо рта папиросу и прислушался. В одновременном тиканье трех пар часов что-то нарушилось. Через некоторое время оно опять стало ровным, но менее густым. Мы заглянули в соседнюю комнату. Шишка остановилась.
Дед положил папиросу в пепельницу и снял упрямицу со стены. Он снова разобрал колесики, снова дул, протирал, смазывал и долго с ними играл. Потом часы опять висели на стене, и тройная нить тиканья троих часов ровно разматывалась в помещении.
Дед сказал:
– Да, тут уж спасения не было. Я стиснул зубы и зажал большой палец левой руки в кулак. Должно быть, я и про Анну подумал. Делает ли она сейчас то же самое или скрестила руки и на устах молитва?
Быстро вытащил жребий откуда-то из-под низу, и письмоводитель распечатал – двадцать шесть. Но этого номера на стене не оказалось, там стояло двадцать семь.
Дед умолк, и мы прислушались. Часы опять стояли.
Когда пришла бабушка, колесики Шишки уже в третий раз лежали на кухонном столе. Бабушка сняла пальто, положила книгу псалмов в ящик и сказала:
– Отец, уходи со своими часами со стола. Я буду обед готовить. Пеэтер уже давно есть хочет, да и ты тоже.
– Потерпи немного, – сказал дед, – я скоро кончу. Мы за эти полчаса с голоду не помрем. Или помрешь? – спросил он меня.
Я отрицательно помахал головой и с большим интересом продолжал следить, как дед в третий раз свинтил колесики, поставил часовой механизм без ящика на край стола, навесил гири и маятник и маятник толкнул. И как его движение сразу внесло жизнь в совершенно неодушевленный предмет, прямо – в тот раз я, должно быть, так и подумал,) – прямо будто божий перст.
Потом часы опять повисли на стене в первой комнате, а мы с дедом сели во второй раз на диван, и я не помню, успел ли дед начать что-то рассказывать. Во всяком случае, сковородка у бабушки на плите уже зашипела. Но слух у деда был все еще острый, так что, несмотря на шипение, он вдруг встал и заглянул в дверь. Предчувствуя что-то недоброе, заглянул и я.
Шишка опять стояла. Дед подошел к часам, снял их с гвоздя, на шаг отступил и швырнул об пол. Осколки стекла, погнутый циферблат, сломанный футляр, механизм, маятник и гири разлетелись во все стороны. Бабушка стояла у плиты с деревянной ложкой в руке, она смотрела на деда испуганно, с сочувствием и вопросительно:
– Господи, что с тобой?
Дед сказал:
– Выбрось этот хлам в помойное ведро!
– Пятьдесят лет ты не делал таких глупостей, – сказала бабушка, подметая пол.
Неповинующимися от волнения руками дед закурил:
– Значит, пришло время…
В конце апреля, когда сошел снег, дед купил участок земли на Рахумяэском кладбище. Четыре на пять саженей. Мама потом рассказывала, когда она сказала деду, что такой огромный участок, должно быть, дорого стоит, дед ответил:
– Жили в тесноте. Так пусть после смерти будет просторнее.
Кладбище меня не интересовало. Но однажды дед взял меня с собой на купленный участок, и мы сидели на скамье из белых брусьев посредине этого песчаного квадрата, который с одной стороны огораживали кусты, а с другой – чужие кресты и железные решетки. Мне было бы дьявольски скучно, если бы дед, вопреки могильному соседству, не дал бы втянуть себя в рассказы про фокусы, которые устраивали конфирманты козескому кистеру. Позже я мимоходом слышал, что по дедову плану на этом месте должны быть похоронены: он сам, бабушка, мама и тетя Эмилия с их мужьями, то есть папа и дядя Ханс, и еще тетя Сандра. Мужа тети Сандры – по требованию бабушки – следовало похоронить там, где бог пошлет, если только их третий зять вообще был еще жив. Фотограф Леопольд Лепп уже столь давно пропал, что его великолепные усы я только на фотографии и видел. По неопровержимому убеждению бабушки, он был – как она говорила – человек недостойный. Дед буркнул:
– Ну да, вертопрах, это верно. А только – здесь его похоронят или в другом месте, то уж не мне решать.
Позавчера, в воскресенье утром дед зашел к нам в Каламая и попросил у отца кисти. У него была быстросохнущая белая краска для железа. И нужна она была ему, чтобы покрасить крест, который он сделал для кладбища. Один общий большой крест без всяких имен, для всех нас. Прежде всего, разумеется, для него самого. И этот крест он мастерил неделю или даже полторы. Теперь он готов. Осталось только покрасить. В кузнице его старого приятеля, кузнеца Карелсона. Там дед его и делал. Я точно не понял, где она помещалась. Где-то за дровяными дворами у Шнеллевского пруда.
И сегодня, сейчас, дед должен был доставить его сюда на станцию, и мы должны были электрическим поездом отвезти его в Рахумаэ. От Карелсона к вокзалу дед привезет его, разумеется, на тележке. Потом шесть километров до станции Рахумяэ крест повезет поезд. Как мы его доставим со станции на кладбище, будет видно. Ну, да там совсем близко. Дед несомненно знает, как это сделать. Наверняка и в Рахумяэ найдется какой-нибудь человек с тележкой. Основание для креста – гранитная глыба уже стояла на могильной площадке. И дыры в ней, чтобы укрепить крест, высверлены. Горсть цемента, нужную для крепления, дед должен в мешочке захватить с собой. Так что все было у него предусмотрено и продумано. И у меня тоже. В то время, когда он будет устанавливать крест и, значит, слишком занят, чтобы рассказывать мне про то, как карилаские мальчишки, завернувшись в белые полотнища, ходили между надгробий, изображая чертей (не знаю, отважился ли бы я слушать эту историю рядом с могилами и крестами, пусть даже среди бела дня), я в это время поброжу по кладбищу… Вернее, не поброжу, а пойду с совершенно определенным намерением, задуманным еще в прошлый раз: я вернусь по третьей дорожке, уводящей налево, и найду могилу военного летчика. На ней вместо креста поставлены крест-накрест два пропеллера, при виде которых возникает странное ощущение от противоречия между полетом в небе и лежанием в земле. Я рассмотрю, как выглядит настоящий пропеллер. Запомню и на всякий случай срисую. Бумага и карандаш у меня с собой. Потому что именно с пропеллера я хочу начать конструирование модели аэроплана. А вдруг получится не модель, а настоящий маленький самолет!
Как раз когда я стал раздумывать, что мне лучше сделать – моноплан или биплан, из-за забора показался дед. Но – господи боже – он идет, не толкая перед собой тележку с лежащим на ней крестом, и не в сопровождении человека, который бы это делал! Он явился без всякой тележки, темные волосы всклокочены, серая бородка торчит, в одном пиджаке, под которым голубая рабочая рубашка наподобие блузы (мне знакомая), и огромный, широкий белый крест косо лежит на его спине. Крест такой большой, что дед, человек почти шести футов роста, кажется под ним совсем маленьким. Несмотря на ношу, он шел быстрым шагом, но из-за непосильного груза ступал осторожно, и не было заметно, что ступня левой ноги становилась все еще вкось – пальцы внутрь, а пятка наружу – и все еще не вполне отрывалась от земли.
– Дедушка! Тебе же тяжело!
– Доброе утро, Пеэтер. Вот и донес… – Дед поставил крест на землю и перевел дух. – Давно ждешь?
– Нет, недавно. Да ты и не опоздал.
Часы на фасаде вокзала показывали без десяти девять.
– Ну, теперь отдохнем немножко, – сказал дед. – Тогда в аккурат поспеем на девятичасовой.
– Ты что, не нашел тележки? Чтобы до вокзала довезти?
– Знаешь, будто заколдовало. У меня было с Карелсоном условлено, что повезу на его тележке. Сегодня утром оказалось, что она в сарае, а жена потеряла ключ. Обыскалась – нет ни на комоде, ни на гвозде, ни в шкафу, ни в кармане фартука. Ищет и причитает: «Ты, Хинрик, только не думай, что мне тележки жалко тебе дать». Я и не думаю. Не так уж я глуп. А ключа никак не найти. Я говорю, спросим у соседа, лавочника Меэритса. У них тоже должна быть тележка. Идем туда. Тележка, конечно, есть. Только на прошлой неделе сломалась. Колесо отлетело. На вот, выкуси! Я говорю: спросим еще у других соседей. Это на Пыллуском дровяном дворе. Там говорят: «Вы же знаете, мы возим дрова на гужевых телегах. Тележка у нас тоже, конечно, есть. С ящиком – мусор и опилки возить. Но вчера ее попросили люди с Технической улицы, возят сегодня навоз на гряды». Просто колдовство какое-то. Я подумал: остается только пойти на вокзал и нанять тележку. Гляди, вон их сколько там загорает. Небось, нечистая сила, пятьдесят центов возьмет за то, что пальцем пошевелит. И самому вместо одного конца три сделать придется. И тут душа моя решительно воспротивилась. Вот так. А теперь мы здесь.
Я, конечно, не представлял себе (и до сих пор, увы, не представляю), каким способом изготовляют или изготовляли такой крест. Однако я стал думать, как бы я его сделал, и решил, что примерно так: я бы сделал крест из доски шириной сантиметров десять или даже больше и толщиной сантиметра четыре. Два метра или немного больше по вертикали. Полтора или чуть меньше поперечина. Приблизительно вдвое больше, чем задуманная мною модель аэроплана. Или – вдвое меньший, чем маленький самолет, который я, может быть, сделаю. Затем я взял бы полоску железа толщиной в сантиметр и шириной в четыре сантиметра и обвел бы ею мой шаблон. Потом выбил бы шаблон из железного контура, и у меня был бы каркас креста.
После чего мне следовало бы взять железный прут круглого сечения в один сантиметр и несколько метров такого прута изогнуть ровными изгибами, поместить его в каркас и припаять к каркасу вершины изгибов, чтобы прут равномерно, но при этом свободно в нем извивался, будто это стебель растения. Потом к изгибам следовало бы припаять из того же прута ответвления, а к ним – на равном расстоянии четырехлепестковую чашечку цветка из жести размером с монету в четыре кроны. И, наконец, все покрасить белой краской. И был бы мой крест готов. Такой же, как у деда.
Крест, очевидно, был очень тяжелый, хотя казался кружевным.
– Сколько он весит?
– Да не знаю. Пудов пять, поди. А может, не больше четырех. Ежели я с прошлого года ослаб.
– А что за цветы у тебя на нем?
– Есть такое растение. Ты что, не узнаешь?
Я покачал головой.
– Ну да, откудова тебе знать. Это же у меня так, просто для примера. На самом деле цветки у него синие.
– А как оно называется?
– В народе «жизни нить» зовут… Я подумал… Ну да, ладно. Пойдем. Не то проговорим и опоздаем на поезд.
Электричка тогда уже не один год ходила между Таллином и Пяэскюла, и я несколько раз на ней ездил. Кстати, первый раз мне больше всего запомнился. Я и до сих пор его не забыл:, накануне, очевидно в субботу, я поймал у нас на дворе в Каламая вороненка. Еще совсем беспомощного, но уже умевшего летать. Птенец сидел у меня в клетке, которую я смастерил из пяти старых рам от подвальных окон, я бросал ему хлебные крошки, но он не желал их замечать. После воскресного утреннего кофе к моей клетке с вороненком подошел отец.
– Пеэтер, хочешь прокатиться на новом электропоезде?
– Так ведь он еще не ходит?
– Для всех еще нет. Но сегодня будет испытание. Мне нужно там быть. И ты можешь пойти со мной.
Я знал, что на заводе, где отец работал, в мастерских, которыми он заведовал, изготовляли какое-то оборудование для электрической железной дороги. Поэтому отец должен был присутствовать во время пробной поездки. И мне было можно…
Какая борьба между двумя диаметрально противоположными мирами: ни с чем несравнимый поезд! Ревущая, гудящая, пронзительно свистящая чудо-машина с бугелями на крыше, рассыпающими искры, которая десять минут мчится от Таллина до Пяэскюла… и птенчик с серыми, торчащими на шее перьями и с огромным клювом, косивший на меня острые черные глазки и встряхивавший тупыми крылышками.
Отец посмотрел на моего вороненка.
– А ты давал ему пить?
– Сейчас дам.
– Если хочешь пойти со мной, отпусти птенца. Да-да. Поездка продлится до обеда. Так что выбирай.
Тем труднее мне было выбрать. Но я выбрал. Мы же всегда, в конце концов, выбираем. И до сих пор меня не оставляет чувство вины перед всем живым; ведь птенец только потому получил свободу, что мертвую машину я предпочел живой птице.
Так что электропоездом я ездил и раньше. Дед взвалил крест на плечи, и мы пошли на платформу, как тогда называли перрон. Поезд уже стоял. Пассажиров явно было немного. Несколько человек на платформе под навесом повернулись в нашу сторону. Какой-то заносчивый верзила с прыщавым лицом выплюнул окурок и, глазея на нас, сквозь зубы свистнул:
– Гляди-ка, в России Лурих[91]91
Георг Лурих (1876–1920) – знаменитый эстонский борец и штангист, мировой рекордсмен, умерший в России.
[Закрыть] воскрес из мертвых, захотелось на родине в могилу залезть.
Какая-то нервная женщина воскликнула:
– От этого старика с его крестом просто ужас берет!
Я шел впереди и толкнул вагонную дверь. В электропоездах в каждом вагоне было только две двери, в начале и в конце. И сами вагоны – выше, чем современные. А возможно, ниже был перрон. Чтобы войти в вагон, следовало подняться на четыре ступеньки. Дверь, как и тамбур, довольно тесная. Я зашел в тамбур и открыл деду внутреннюю дверь. В вагоне, рассчитанном на полсотни сидячих мест, находилось не больше дюжины пассажиров, так что было свободно. Я представил себе, что дед поставит крест боком между скамейками. Проход от этого станет на четыре-пять сантиметров уже, не больше. Если крест сильнее наклонить, то в тамбуре его можно будет развернуть и боком внести в вагон.
Я вышел обратно на перрон, чтобы в дверях не путаться под ногами. Перед вагоном около деда с его крестом стоял незнакомый мужчина. Хорошо откормленный господин в пенсне с маленькими, рыжеватыми усиками, в руке портфель, а на голове котелок.
– Нет-нет, ни в коем случае, – говорил он деду излишне громко и до смешного высоким голосом, – этот ваш груз типа EPW в вагон не войдет!
– Может, все-таки войдет, – сказал дед. – Попробую.
– Нет-нет-нет, – трубил господин. – Это нарушит работу железной дороги. Никаких проб. Я запрещаю вам!
– Послушайте, а кто вы такой? – спросил дед.
– Я вице-директор правления железной дороги, – сказал котелок.
Своим неотесанным языком, к моему испугу и восторгу, дед произнес:
– А, птице-директор. Оно и видно.
Котелок не обратил на это внимания. Он воскликнул:
– Да-да, говорю вам по-хорошему: электропоезд только для пассажиров, это вам не товарный состав.
– Да разве ж крест товар? – спросил дедушка. – Я его не покупал и не продаю. Какой же это товар?
– Не спорьте, – сказал директор, – отправьте свой крест багажом. В электропоезде багажного вагона, конечно, нет. Но вечерний поезд на Палдиски отвезет его до Нымме. Да-да, на Рахумяэ багаж не принимают. А из Нымме донесете обратно до Рахумяэ. Всего-то километр. Подумаешь, дело!
Объясняя, господин оттеснил деда с крестом от двери и стал на ступеньку. Потом он обернулся – и в тот момент, когда поезд тронулся, – усмехнулся, глядя на деда. Сейчас я сказал бы: со злосчастной (потому что достаточно интеллигентной) бюрократической иронией, злобной от сознания собственной неполноценности:
– Багажом, багажом, папаша! Иначе смешно: Христос электропоездом едет на Голгофу…
Неожиданно быстро набрав скорость, состав промчался мимо, и красный круг на последнем вагоне исчез за стрелками и паутиной путей между зданиями цехов.
Дед мгновение помолчал. Потом взвалил крест на спину и сказал со странной решимостью:
– Пошли!
Однако вместо того, чтобы повернуться к вокзалу, он пошел по перрону, т. е. по платформе, в ту сторону, где исчез поезд. В том направлении можно было идти только до конца платформы. Сперва я не стал спрашивать, куда он намерен направиться. До следующего поезда было не меньше полутора или даже двух часов. Когда платформа кончилась, дед не стал останавливаться, чтобы объяснить себе или мне, куда он собирался идти. Платформа заканчивалась несколькими каменными ступенями, дед спустился по ним и зашагал дальше вдоль полотна, между рельсами, по осколкам угля и кокса, по щебню и гальке. И тут я сообразил: в ста метрах впереди и пятидесяти правее находилось вагонное депо, а за ним – дедова кузница. Та самая железнодорожная кузница, в которой он проработал сорок лет. Значит, мы отнесем крест туда и отдадим товарищам деда на хранение. Это самое правильное, а потом выясним, что с ним дальше делать. Сдадим ли мы его на самом деле в багаж – что на деда не похоже, поскольку совет исходил от птице-директора, – или попытаемся доехать следующим поездом, на котором его наверняка среди пассажиров не окажется.
Через две минуты мы дошли до переезда с перекрещивающимися рельсами, которые вели на завод. Но дед прошел его, не взглянув направо, и зашагал дальше: с каждой стороны три-четыре линии путей, на них вагоны, за путями дощатые заборы, а за ними – плитняковые здания заводов, и на заборах черные надписи на белой жести: «Хождение по путям воспрещается! Берегись поезда! Хождение по путям воспрещается! Берегись поезда!»
Дед, разумеется, знал, как остерегаться поезда. Так что тут мне нужно было только не спускать с него глаз. Что касается запрещений ходить по железнодорожным путям, то, очевидно, по крайней мере таким старым железнодорожникам, как он, все-таки это разрешалось. А поскольку я был здесь вместе с дедом, значит, и мне такое хождение не могло быть запрещено. Кроме того, на нашем пути по рельсам и шпалам никто нам не попался, чтобы подобно птице-директору призвать нас к порядку или прогнать. А все же…
– Дедушка, куда ты… куда мы теперь идем?
На этот раз дед не обернулся, чтобы дружески посмотреть на меня, прежде чем ответить, как он всегда поступал, если, идя позади, я о чем-нибудь спрашивал. Только, наверно, это крест мешал ему повернуть голову. Он будто немного выпрямился под своей ношей и посмотрел вперед, и мне показалось, что голос его от тяжести, которую он нес, стал глухим.
– Туда, куда, выходит, поехать поездом нельзя.
– Куда же?.. – спросил я в смятении. Потому что не могло же это быть то единственное, минуту назад названное место! Если только не в каком-то другом, неуловимом, постоянно мелькающем значении, которое на устах у взрослых иной раз приобретали или, казалось, приобретали совсем простые вещи и которое большей частью бесполезно было пытаться понять… в Рахумяэ?
– Ну, до Голгофы небось далековато, как думаешь?
– Так Рахумяэ тоже ведь ужасно далеко…
– Все поближе будет…
– А ты осилишь?
– Увидим.
Я понимал, что деду с его ношей трудно разговаривать, и замолчал. С удивлением и восхищением я следил, как дед шагал между рельсами, будто слегка покачиваясь под своим грузом, а на гальке оставались глубокие следы от его сапог. Но шаг у деда, несмотря на это, был почти что легкий, почти что бодрый и какой-то механически неотступный.
Я резво следовал за ним в нескольких шагах позади, но мысленно я то приближался к нему вплотную, то значительно отдалялся. И я заметил: чем ближе я был к деду – и в моем воображении и в действительности, – тем более своим и надежным он мне казался. Как и его упрямый затылок под развевающимися на ветру волосами, несколько неровные, но широкие плечи – плечи сильного человека, ведь луриховские(!), его напряженная шея, с которой крест стягивал воротник вправо, его черно-серый, вороньего цвета пиджак и такие же, немножко жалкие, пузырившиеся на коленях брюки и голубая рубашка, выглядывавшая из-под сбившегося на сторону пиджака. Кстати, с этой рубашкой дедушка галстука не носил. И, наверно, так было лучше. Потому что, когда на воскресную белую рубашку он повязывал какую-нибудь вязаную полоску или даже настоящий галстук, подаренный зятем на день рождения, мне всегда было чуточку жаль деда, потому что его галстук, обязательно немного мятый, слишком туго затянутый в крошечный узел, чаще всего сидевший чуть вкось, очень отличался от безупречного папиного галстука… Так что в вороте этой голубой рубашки без галстука, чего я сзади, правда, не видел, но хорошо себе представлял, было не только что-то трогательное, но даже гордое. Да, чем ближе я был к дедушке, тем роднее и естественнее он мне казался, несмотря на наше странное путешествие. Однако достаточно мне было на десять шагов отстать и прищурить глаза, как расстояние между нами в десять или в двадцать раз увеличивалось, и мне почему-то становилось не по себе. Дед как-то расплывался, становился почти прозрачным и неправдоподобно большим, а наклоненный крест на его плече – еще огромнее. Колыхаясь над путями, он, казалось, достает от забора до забора по обе стороны полотна. А когда дед свернул с путей налево и пошел по окраинной улице, прилегающей к железной дороге, через двадцать шагов мне стало казаться, что еще больше удлинившийся и расширившийся крест на его спине колыхался уже на уровне крыш невысоких домов. И мое удивление нашим странным путешествием теперь превращалось в отчужденность, перерастало в страх. Чтобы избавиться от страха, я ускорял шаги и держался к деду поближе. Должно быть, на всякий случай даже прикасался к полам его серого пиджака… Ах да… А ведь тот слюнявый парень на станции, хоть и противный, а назвал же в связи с дедом Луриха. И рядом с дедушкой я чувствовал себя под защитой двух сильных мужчин, его и Луриха. И нарочно стал припоминать одну историю, которую рассказал мне отец, это смешное воспоминание наверняка должно было прогнать мой страх.