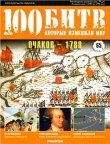Текст книги "Императорский безумец"
Автор книги: Яан Кросс
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 30 страниц)
Итак, кто-то из нас выражал протест.
– Holá-là! Mais pourquoi done?![104]104
О! Но почему же? (франц.)
[Закрыть]
Следовал короткий спор между monsieur Ледуте и возразившим, спор, неравный уже в силу неравного владения языком. По мнению протестующего, Маленький Виппер допустил лишь несущественные ошибки или даже только эстетические погрешности и на этот раз он заслуживает четверки. Обычно на это monsieur Ледуте высоко воздевал свои невероятно волосатые руки, торчавшие из белых манжет, и восклицал: «Non-non-non-non-non! Impossible»[105]105
Нет, нет, нет, нет, нет! Невозможно (франц.).
[Закрыть]. И я скажу вам, почему. Я не знаю, как обстоит у вас в эстонском языке. Но во французском решает не только правильность, но и элегантность. Ибо то, что не элегантно, во всяком случае, минимально элегантно, во французском языке просто неверно. И поэтому неверно все, что Виппер нам только что здесь говорил. И мы будем достаточно великодушны, если скажем ему: Suffisant. Comme toujours.
Большей частью наши протесты этим ограничивались. Но несколько раз случалось, что monsieur Ледуте выслушивал наши аргументы, при этом вытягивал губы трубочкой и таращил глаза, глядя то в пустоту, то на нас, и вдруг начинал лучезарно смеяться: «Eh bien! Si vous trouvez. La voix du peuple e'est la voix de Dieu. Випер, ты слышишь? Они ставят тебе четыре. Aujourd'hui tu es reçu un bon bon bonbon!»[106]106
Хорошо! Если вы так считаете. Глас народа, глас божий. Сегодня ты получил хорошую, очень хорошую конфетку! (франц.).
[Закрыть]
Маленький Виппер резко садился на свое место. Почему-то мне казалось, что он не был нам особенно благодарен.
Мне теперь трудно решить, в какой мере мы были наивны, а в какой подобный демократизм monsieur Ледуте мирил нас с его неблаговидными действиями по отношению к Маленькому Випперу. В какой-то мере – несомненно. И, кроме того, нас мирили с monsieur Ледуте и другие его особенности, которые – как мы компетентно решили – отличали его от остальных наших учителей и, уж во всяком случае, были неожиданны. До какой степени их молено было считать неожиданными, помня о Габонских казармах и Либевильском колледже, этого я до сих пор не знаю. Например:
В один прекрасный день monsieur Ледуте, как всегда бодро, явился на очередной урок французского. Все шло как обычно. Он сел за учительский стол, схватил классный журнал, стал в него записывать и, как всегда, вызвал прочесть традиционное четверостишие.
– Ооа! – Это был Оха. На этот раз один из «негров». Традиционные четыре строки всегда безупречно отвечали и «негры», какими бы темными они ни были. Это был риск, но так уже у нас повелось. Очередные требуемые четыре строки знали всегда все. Можно допустить, что monsieur Ледуте считал наше одинаково отличное знание этих отрывков спортивной предупредительностью с нашей стороны: возьмем на себя этот маленький, пусть смешной труд, но хотя бы этим доставим ему удовольствие. А может быть, он и не делал из этого для себя проблемы. Но мы сделали. Только решили мы ее по-своему. И это стало своего рода спортом.
Мы все считали, что бессмысленно к каждому уроку вызубривать эти четыре строчки, но и не делать этого было тоже невозможно. Решая эту дилемму, мы заметили, что monsieur Ледуте спрашивал это треклятое четверостишие всегда в одной и той же обстановке: сам сидел за учительским столом, уткнувшись в классный журнал, а вызванный отвечал, стоя между партами у среднего прохода, в трех шагах от его стола. Из этого и исходило наше решение. Очередные четыре строчки, скажем из Леконта де Лиля, мы писали крупными, видными за пятнадцать метров буквами на листе бумаги, и прежде чем вызванный успевал выйти вперед, двое, сидевшие в последнем ряду, уже держали лист у противоположной стены низко над полом между партами, будто маленький экран. Сидевший в последнем ряду справа от прохода Валлот Каре, славный, медлительный и необыкновенно корректный юноша, считался у monsieur Ледуте если не совсем «негром», то, во всяком случае, «мулатом», он был эстет и обладал превосходным каллиграфическим почерком. И Каре добровольно взял на себя эту обязанность: к каждому уроку французского он писал заданное четверостишие черной тушью и редисным пером, красивым четырехсантиметровым шрифтом на листе чистой бумаги для рисования. Бумагу мы покупали в школьном кооперативе в складчину, на свои центы. С течением времени в партах у Каре и его соседа набралось так много рулонов со стихами, что их пришлось нумеровать и систематизировать. Выбросить их было нельзя, потому что сумасбродный monsieur Ледуте часто заставлял нас повторять задания прошлых недель.
Наша система работала безупречно. Каждый раз, когда monsieur Ледуте вызывал кого-нибудь ответить заданный к этому дню катрен и вызванный успевал встать, где положено, катрен этот появлялся на стене. И отвечающий безошибочно его прочитывал. Кому хотелось, тот делал это с чувством, размеренно, как бы припоминал, интеллигентно изображая неуверенность, а кому было лень, тот читал как заведенный, без всякого пиетета. До того утра, о котором пойдет речь.
Оха, хороший товарищ, великолепный спринтер и превосходный спортивный гимнаст, не чувствовал себя в александрийском стихе столь уверенно, как на параллельных брусьях, тем не менее он спокойно выполз к столу и, сощурив глаза, продекламировал сонет Эредиа[107]107
Жозе-Марияде Эредиа (1842–1905) – французский поэт, автор единственного поэтического сборника «Трофеи». В него вошло 118 сонетов, отличающихся изысканностью формы.
[Закрыть]. Не знаю, что он в нем понял, но мы все же настолько знали язык, что элементарные фонетические ошибки далее самые слабые из нас делали редко:
Car malgré Scipion, les augures menteurs,
La Trebbia débordée, et qu'il vente et qu'il pleuve,
Sempronius Consul, fier de sa gloire neuve,
A fait lever la hache[108]108
Напрасно убеждал спокойный Сципион,
И вздулась Треббия, и ветер дул суровый;
Семпроний консул, горд своей победой новой,
Дал знак сражаться.
(Из «Треббии» Эредиа в переводе В. Брюсова.)
[Закрыть].
Вдруг monsieur Ледуте ни с того ни с сего с такой быстротой вскочил, что его желтый стул мебельной фабрики Лютера с грохотом опрокинулся, а сам он, как тигр, рванулся вдоль среднего прохода. Криминальная шпаргалка – три четверти метра в длину и двадцать сантиметров в ширину – конечно же, исчезла в тот миг, когда он вскочил, ни в воздухе, ни на стене не было никаких следов. Но это не спасло. Потому что monsieur Ледуте тут же сунул голову и, нам показалось, даже плечи в парту Каре и промаршировал к своему столу со всеми сорока рулонами стихов под мышкой. Кто-то из нас, «французов», громко охнул:
– О, les bijoux de la poésie française qui périssent![109]109
Ох, гибнут сокровища французской поэзии! (франц.)
[Закрыть]
Monsieur Ледуте, сверкая зубами, с издевкой объявил классу:
– Каждый возьмет чистую тетрадь в 20 линеек. И к завтрашнему уроку всю ее испишет нормальным почерком от обложки до обложки. Все двадцать две страницы. Фразой:
– Seul un idiot trompe son professeur[110]110
Только идиот обманывает своего учителя! (франц.)
[Закрыть].
Наказание было идиотское. Но какого-то наказания мы, несомненно, заслуживали. И если выше была речь о неких примиряющих нас с monsieur Ледуте чертах, то суверенность такого наказания нам наверняка импонировала. Monsieur Ледуте не нажаловался на нас директору Лепнеру, как наверняка поступила бы большая часть учителей. А директор, как теперь начинаешь понимать, человек незаурядный и к тому же сильный математик, но от природы педант и по призванию криминалист, раздул бы дело невероятно. Прежде всего он целую неделю подряд каждый день оставлял бы нас на два часа после уроков. Вполне вероятно, что созвал бы родительское собрание. И замучил бы наших родителей, нас и себя самого. А главное, он просто не мог бы не установить виновных. И поскольку он слышал, что за день до того monsieur Ледуте обнаружил такую же проделку в последнем классе Французского лицея, то господин Лепнер несомненно усмотрел бы в этом не что иное, как сверхопасный общегородской заговор учащихся. Без малейшей искорки юмора. А если бы даже он был, то из педагогических соображений настолько глубоко запрятан, что никому от этого не было бы ни малейшей пользы. Да. Господин Лепнер стал бы искать виноватых и дифференцировать степень их виновности. Чья идея? Чье внушение? Чье осуществление? И бедный Каре, единственный настоящий идеалист, предстал бы в самом дурацком свете.
Вскоре выяснилось, что действительно на день раньше, чем у нас, в гимназии Гранберга monsieur Ледуте напал на след нашего приема со шпаргалками во Французском лицее, в руки к нему попала огромная охапка, и он наказал класс точно так же, как и нас. А еще через день он понес наши каллиграфические шпаргалки в лицей, показал их выпускному классу и выбранил их: какие постыдные жалкие каракули были у вас по сравнению с гранбергскими! – и в виде штрафа велел им исписать еще тридцать две страницы. Фраза, которую каждый должен был повторить шестьсот сорок раз, теперь гласила: «En trompant tout de même il faut avoir au moins de style»[111]111
Если уж пускаться на обман, так по крайней мере чтобы был стиль (франц.).
[Закрыть]. И эта реакция monsieur Ледуте по сравнению со средней реакцией наших учителей была уже просто восхитительной.
Прямая нашей абитуры шла к финишу. У многих были гораздо более серьезные заботы, чем у Маленького Виппера с его cum laude или без. Так что в водовороте выпускных экзаменов последних недель мы, наверно, не обращали особенного внимания на междоусобную борьбу monsieur Ледуте и Маленького Виппера.
Наступил день окончания гимназии. Прохладный день начала июня. Но такой солнечный и светлый, что во время выпускного акта отсвет желтых гардин как-то особенно золотил наши лица. Что отметил директор Лепнер в своей, слава богу, совсем не патетической речи.
Педагогический совет, на котором обсуждались выпускные отметки, в том числе и окончание cum laude, состоялся на два дня раньше, и результаты были нам в общих чертах известны. Как и то, что Маленький Виппер cum laude не получил.
Об этом заседании много потом говорили, даже спустя годы шли всяческие разговоры, подробности которых могли не соответствовать истине, но в их общей достоверности сомневаться не приходилось. Было ясно, что Маленького Виппера провалил monsieur Ледуте. На заседании раздавались настойчивые голоса в пользу Маленького Виппера. И не только преподавателей математики, физики и космографии. Господин Мэнник, рыхлый и нервный человек, но в душе истинный гуманист, которому Маленький Виппер, как известно, своими вызубренными ответами уже давно действовал на нервы, – да, и господин Мэнник требовал для него cum laude. Сам директор, в присущей ему сухой манере, тоже поддержал. Мисс Найт – рыжие старые девы бывают вне добра и зла, – мисс Найт сказала, что ставит Випперу в последней четверти пять, и поэтому – пятерку за второе полугодие, а следовательно, за весь учебный год. Чтобы гарантировать достижение поставленной им перед собой цели – получить cum laude. Лицом похожий на лягушку господин Шварц сказал: он тоже не хочет помешать и ставит Випперу четверку. Тем более что Strebsamkeit[112]112
Усердие (нем.).
[Закрыть] Виппера заслуживает признания. И суетливый и вечно недовольный господин Каури в своих больших очках протрещал: «Пствить му пть не мгу. Однко вдадим му cmld…» Но смеющийся всеми зубами monsieur Ледуте через находившуюся там мадемуазель Ниймяэ, переводом которой он пользовался для участия в педсовете, сообщил: Випперу в аттестате он выставляет удовлетворительно. Что поставило крест на випперовском cum laude. Говорят, коллеги обратили внимание monsieur Ледуте на то, что Виппер хороший ученик, его четверки и пятерки позволяют ему получить аттестат cum laude, к чему он так сильно стремился, но он его не получит, если monsieur Ледуте не найдет возможным выставить ему четыре, а не три. Monsieur Ледуте улыбнулся и энергично покачал головой. И воскликнул: «Impossible!» Говорят, у него спросили, почему он так поступил. В самом ли деле Виппер так скверно знает французский язык, что monsieur Ледуте в такой ситуации считает недопустимым пойти, скажем, на уступку или сделать снисхождение? Если у Виппера по точным предметам в среднем очень хорошо, а по некоторым – безукоризненно? И если, помимо того, он – как бы сказать – просто трогателен в своем усердии.
Говорили, будто monsieur Ледуте заявил: даже suffisant за его французский язык он может поставить только из доброжелательного отношения.
Говорили – но я думаю, что это стали говорить много позже, что якобы monsieur Ледуте, между прочим, сказал: «Этот ваш Випер абсолютно посредственный юноша. Во всяком случае, во французском языке. С какой стати я должен ставить ему «хорошо»? Не поставлю! Потому что вообще все ваши безмерные старания посредственности – кхм, – то есть безмерные старания посредственности среди ваших учеников, – я имею в виду некоторых учащихся и кое-кого из своих учеников, – так ведь, они же… смехотворны, чтобы не сказать раболепны… Нет-нет-нет-нет-нет-нет! Моя задача оценивать не характеры, порядочность, старательность, а французский язык. И Випер знает его suffisant.
Очевидно, кое-кто понимал, что над Маленьким Виппером совершается несправедливость. Но как педагоги они считали, что учитель имеет право оставаться на своей точке зрения. Когда дело касается его предмета. Потому что в оценке знаний по своему предмету он компетентнее других. И раз monsieur Ледуте не может, значит, нельзя, и ничего тут не поделаешь.
И наше отношение к тому, что мы узнали, было точно таким же. Раз нельзя, так ничего не поделаешь. Это было удобно, тем более что в эти два дня Маленький Виппер в школе не появлялся. И нам не нужно было с ним общаться и, избегая того, что его волнует, притворяться, проходить мимо или выражать сочувствие по поводу допущенной несправедливости и говорить ничего не значащее: «Monsieur Ледуте хорек…»
Но Маленький Виппер не явился в школу и за получением аттестата. В день окончания мы выслушали короткую проповедь пробста Тоодера, спели пятьюстами голосов «Хвала тебе, господи!», после чего прозвучала прощальная торжественная речь самого директора. В заключение директор прочел список абитуриентов этого года по алфавиту. После трех фамилий он сделал коротенькую паузу и звучно произнес: cum laude. Назвав фамилию Виппера, он сглотнул и быстро перешел к Воорингу. Потом мы разошлись но своим классам, и наш классный наставник, господин Каури, вручил нам аттестаты. Вот и все. И мы могли уйти. Тем, кого пришли поздравить близкие, осталось получить цветы и поцелуи, а вообще можно было отправиться уже не на летние каникулы, а на все четыре стороны.
Помню, я стоял наверху в желтом зале и разглядывал своеобразную живопись Кайгородова «Святой Франциск», картину, которую покойный директор Гранберг купил за полторы тысячи крон и перед смертью подарил гимназии и о которой говорили, что настоящие знатоки не считают ее искусством. Я разглядывал и пытался понять, искусство это или не искусство, но подумал, что меня это уже не касается. И тут снизу взбежал по лестнице десятиклассник, то есть теперь уже, с сегодняшнего дня, одиннадцатиклассник и крикнул мне:
– Мирк! К директору!
Директор Лепнер сидел за гранбергским письменным столом черного дерева на фоне книжных шкафов тоже черного дерева (все «Калевипоэги», Большой Ларусс и тому подобное) в кабинете, украшенном известными и неизвестными картинами Кристиана и Пауля Раудов, где я вообще за все время был два или три раза. Директор велел мне сесть, но я не успел даже удивиться этому необычному предложению. Потому что он тут же спросил своим беззвучным и каким-то настойчивым голосом.
– Мирк, скажите, у Виппера были в классе близкие друзья?
(Но почему он говорит были? Тень дурацкой мысли промелькнула у меня в голове, но тут же я понял: разумеется, были, если они были. Потому что все уже стало вчерашним днем. Ведь нашего класса больше нет.) Я сказал:
– Ммм… я не знаю. Пожалуй, не было…
– А с вами, мне думается, с вами у него было хотя бы взаимное понимание.
– И я так думаю.
– М-да. Вы ведь знаете, мы не выдали ему cum laude. Monsieur Ледуте не изменил своей точки зрения и поставил ему за французский три. Виппер принял это очень близко к сердцу. Его мать приходила сегодня утром и взяла его аттестат. М-да. Знаете, Мирк, у меня к вам просьба. Сходите к Випперу домой и посмотрите, что он делает. Утешьте его. На всякий случай. Скажите ему, что на педагогический совет, то есть на решение педагогического совета он может наплевать. Что cum laude, которого он не получил, в сущности, не имеет никакого значения. Что это труха. Я пошел бы сам, но я ведь не могу этого ему сказать. Я же по долгу службы все время утверждал обратное. Если это скажете ему вы, то есть надежда, что он поверит. Понимаете? А вы знаете, где он живет?
– Где-то в Мэривэлья.
– Улица Куслапуу, шестнадцать. Деньги на автобус у вас найдутся?
Деньги у меня были.
Я помню недостроенный одноквартирный дом в Мэривэлья, в той части, где теперь густые лиственные заросли и несколько саженей высокой живой изгороди из елок, а тогда дом стоял на совершенно голом склоне, на непрестанно дующем морском ветру. В городе я даже не заметил, что есть ветер. Здесь кроны невысоких, как кусты, ив от вывернутых наизнанку листьев были пестро-серые. Я прошел по маленькому, только что разбитому палисаднику и постучал в еще, кажется, не покрашенную дверь, госпожа Виппер мгновенно мне открыла.
– Ах, это вы…
Она узнала меня. Она была очень бледна и явно чрезвычайно взволнованна. Я сразу подумал: ну, здесь мне, видно, придется не столько сыну, сколько матери разъяснять, что cum laude не имеет никакого значения.
– Директор Лепнер просил меня зайти к вам. Он хотел узнать, не заболел ли Тийт опять. Поскольку в последние дни его не было в гимназии. И сегодня тоже.
– Да-да. Так и есть, – сказала госпожа Виппер как-то торопливо. – У Тийта опять ангина. От этих весенних ветров. Входите.
Я вошел в переднюю, и госпожа Виппер, будто в сомнении, остановилась напротив и смотрела на меня своими испуганными карими глазами.
– Вы хотите с ним поговорить? По желанию директора? Я… я спрошу, хочет ли он. У него болит горло, понимаете.
Она оставила меня стоять у вешалки и стала подниматься по внутренней, еще без перил лестнице, на полдороге остановилась, посмотрела на меня и произнесла как-то неуверенно:
– Знаете, может быть, лучше, если…
Откуда-то сверху, очевидно, из-за приоткрытой двери послышался глухой голос Маленького Виппера:
– Мама, кто это?
Госпожа Виппер взглянула в ту сторону, откуда прозвучал этот вопрос, потом опять на меня и, пробормотав – хорошо, хорошо… исчезла за поворотом лестницы. Минут через пять она спустилась:
– Да, он хочет с вами говорить… Только, знаете, пожалуйста, не касайтесь того, что они оставили его без cum laude. Это ему слишком больно…
Она стала подниматься впереди меня, и ее шепот затих. Поскольку я пришел сюда именно для этого разговора, я сказал:
– Хорошо. А если он сам об этом заговорит, то… – произнес я тоже шепотом и умолк, потому что мы уже поднялись и вслед за госпожой Виппер я вошел в почти пустую комнату со светлыми дощатыми стенами.
Маленький Виппер лежал на диване с большой подушкой под головой. Белая наволочка оттеняла его до зелени бледное, а вовсе не пылающее от жара лицо. По-видимому, он болен серьезнее, чем я думал. Но он не лежал раздетый под одеялом. На нем были брюки и носки и толстый коричневый с узором вязаный джемпер. А на шее – знакомая синяя повязка.
– Видишь, Тийт, – быстро заговорила госпожа Виппер и почему-то все так же шепотом, – директор прислал Пеэтера тебя проведать и пожелать тебе скорого выздоровления. Я объяснила, что ты из-за ангины… Это же естественно. А теперь все позади, и вы свободные юноши.
Маленький Виппер сказал с дивана – его голос был слабее и в то же время решительнее, чем я ожидал:
– Так дай же теперь свободным юношам свободу – поговорить между собой!
– Хорошо, хорошо, – торопливо сказала госпожа Виппер, нервно и очень тихо, – только долго говорить для твоих гланд… ты же знаешь, врач как раз предупреждал….
– Да-да-а. Иди же! – сказал Маленький Виппер нетерпеливо. Госпожа Виппер бросила на меня беспомощный взгляд заговорщика, вышла и закрыла за собою дверь.
– Садись! – беззвучно сказал Маленький Виппер, но опять же как-то повелительно.
Из-под стола, заваленного книгами, я пододвинул к дивану табурет, потому что больше в комнате не на что было сесть.
– Ну, так что же monsieur Lepner желает мне сказать?
В такой форме заданный вопрос предвещал трудный разговор. Между собой мы называли директора Суховей. Не думаю, чтобы кто-нибудь знал, когда и как возникло это прозвище. Monsieur Lepner означало, что Маленький Виппер демонстративно ставит директора на одну доску с monsieur Ледуте. Но, поскольку я взял на себя это поручение, выхода у меня не было. Я сказал:
– Он просил сказать тебе и при этом добавил – и это при его сухости, по-моему, просто трогательно, – он не может сам прийти к тебе и объяснить. Поскольку, как директор, он все время утверждал обратное. А я должен так тебе сказать, чтобы ты поверил…
– Что же это такое?
– Что ты должен наплевать на весь педагогический совет. Что cum laude при аттестате, он сказал – просто труха.
– А что тебе говорила моя мама?
Маленький Виппер спросил это без всякого перехода, и я понял, что и мнение директора для него труха.
– Мама сказала, что у тебя опять твоя ангина и что ты премерзко себя чувствуешь.
– Мать сказала неправду.
– То есть как?
– Ну, как всегда.
– Какую же неправду она сказала? И почему?
– Что у меня ангина. Почему? Ну, из эстетических соображений. Или моральных, я не знаю.
– Так что же у тебя? Ведь не сифон же?
В его тоне было что-то раздражающее и чрезмерно серьезное. Я пытался своими вопросами вызвать у него усмешку. Но его лицо оставалось совершенно неподвижным. С неподвижным лицом он сорвал с шеи свой синий шарф.
В первый момент я подумал, что шарф намок от какого-то компресса и полинял. На его тощей шее была лилово-синяя полоса. И вдруг до меня дошло.
– Что?! Неужели ты?!.
– Представь себе, да.
Впервые в жизни я видел нечто подобное и слышал такое признание. Я онемел.
Маленький Виппер вспыхнул:
– Ну, скажи же что-нибудь! Скажи, что я идиот. Это же ты думаешь! Что бы ни произошло, но только идиот может…
– Но ты ведь в последний момент передумал! Иначе…
– Не передумал! – воскликнул Маленький Виппер зло. – Я уже висел. Все было кончено. Мать застала.
Я молчал.
– Ну, так что – идиот я, не правда ли? – спросил он придирчиво.
Неужели я должен был ответить: милый мой, по-моему, да! Но я не мог этого сказать после его отчаянного поступка, после попытки покончить с собой и невообразимого шока от возвращения к жизни… Я помолчал. Потом сказал:
– Знаешь, это не так просто. Я думаю, что ну… не всегда это бывает идиотством. Но для этого должна быть достаточная причина. Понимаешь: достаточная. А то, что они не дали тебе cum laude, так это, прости меня… Но, возможно, ты видел все как-то иначе? Если бы ты мне объяснил, я, может, понял бы тебя.
Говоря это, я думал: наверно, Суховей допускал, что Маленький Виппер способен на такое безумие. Он же мне сказал: «Утешьте его на всякий случай». А я вместо того, чтобы утешать, вместо того, чтобы переубеждать, выясняю, почему он такое сотворил… Он пытается как можно убедительнее объяснить мне причины… Боже мой, я должен всеми силами опровергнуть его доводы. Иначе…
– Что там объяснять, – глухо сказал Маленький Виппер и продолжал, очевидно, его душевное состояние вызывало потребность говорить: – Я много об этом думал. У меня было четыре причины. Начну с самой пустой. Во-первых, мое фиаско с cum laude. Я же хотел получить cum laude. То, что я остался без него, это, разумеется, труха. Но то, что я не сумел его получить, меня очень задело. Понимаешь. Во-вторых, monsieur Ледуте. Его человеческое или, скорее, нечеловеческое нежелание оценить мои старания. До сих пор не понимаю, что за этим скрывалось. Ведь этот старый баран увивается за лицейскими девчонками. Да-да, я знаю. Говорит им глупости, дарит флаконы Шанеля и слегка их лапает. Не думаю, чтобы он был способен на большее. Но ведь я не стоял ему поперек дороги. Я ни за кем не ухаживаю. Меня интересует графическое интегрирование, – он чуть-чуть усмехнулся, – так что и тут не было у него причин. А эта стена иронии, на которую я все время натыкался, меня ужасно угнетала. И, в-третьих, все остальные. Весь педагогический совет. Они все ему уступили. А ведь они знали, что за этим стояла только личная неприязнь. Все знали, что кое-кто в классе и похуже меня учился, однако получил у того же самого Ледуте четверку. И все молчали. Они все меня предали!
Я сказал:
– Слушай, они вовсе не молчали! Сам Суховей защищал твой cum laude! И Харальд Синий Зуб защищал, я знаю! (Это был учитель истории Мэнник.) И Ведунья защищала (это была рыжая мисс Найт). Все защищали.
Маленький Виппер приподнялся на локте:
– И от какой же такой силы они меня защищали и так и не защитили! Во имя независимости учителя?! Значит, во имя собственной независимости они все сообща предали ученика. А нам одиннадцать лет твердили: Идеалы! Стремления! Честность! Личность! Per aspera ad astra![113]113
Через тернии к звездам! (лат.)
[Закрыть] Муций Сцевола[114]114
Муций Сцевола – легендарный римский воин. При осаде Рима был схвачен и, приведенный к царю, сжег свою правую руку на огне. Испуганные его терпением и мужеством, этруски сняли осаду.
[Закрыть] и кто там еще… Так скажи, во что же верить и кому доверять?!
В его тусклом голосе вдруг скрипнуло опасное напряжение, чтобы снять его, я сказал:
– Послушай, отправная точка и гвоздь всей твоей проблемы все-таки этот треклятый cum laude! Так ведь? Но ты сам сказал, ты согласен с тем, что это труха, значит, и всё их, как ты говоришь, предательство по отношению к тебе пустое…
– А ты помнишь, – сказал он мрачно, – мы были в третьем классе, когда на уроке краеведения Гранберг сказал: укравший пять центов такой же вор, как и укравший пять миллионов! Так оно и есть!
– Ну, это в идеале. На самом деле нередко бывает и наоборот: укравший пять центов преступник, а пять миллионов – уважаемый делец. А что касается педагогического совета, то они, будучи людьми…
– Ладно! Ладно! – перебил он меня. – Пусть они идут ко всем чертям!
– Ну, видишь, – провозгласил я победоносно, – ты сам признаешь, что не было у тебя достаточных оснований!
Он вдруг умолк. И я немного испугался, что опять слишком близко коснулся его поступка. Спустя некоторое время, рассматривая лоскутную дорожку, он произнес:
– У меня была и четвертая причина.
– Да, ты ведь сказал. А какая?
– Я дал себе слово.
– Какое слово?
– Когда стал добиваться этого cum laude.
– Какое слово? Не понимаю.
– Черт тебя подери, чего ты не понимаешь?! Если не получу, повешусь!
– Ты с ума сошел!!!
– Значит, по-твоему, все-таки идиот! Естественно. Однако подумай. Я, во всяком случае, думал так: cum laude, в сущности, мало что значит. Но если уж начать его добиваться, то всерьез. То есть нужно придумать что-то такое, что будет неотступно подгонять. А что же может быть абсолютнее? Я же не хочу повеситься! Каждая клетка во мне протестует. Следовательно, если я дам себе слово, то оно заставит меня изо всех сил заниматься? Так ведь?
– А видишь, что получилось? – не смог я не разбить его кажущуюся логику.
– Конечно, вижу. Потому что я теперь еще больше попался. Да-да. Когда мать сняла меня с крюка и вернула к жизни – конечно, ей было тяжело. А я совсем расклеился. И не смог сказать «нет», когда она просила дать ей клятву, что я не повторю попытки. И теперь выходит, что я дал две противоположные клятвы. Кто же я теперь? Просто тряпка!
Странный был у него ход мысли. Такой странный, что я не успел углубиться в эту странность. Мне же нужно было любой ценой его опровергнуть, а за это можно было зацепиться. Я сказал:
– Что значит тряпка? Тряпка тот, кто раскисает от беспринципности. У тебя же наоборот – спазм от принципиальности. А вопрос твой весьма прост. Две взаимоисключающие клятвы. Одна дана по глупости, вторая – в крайних обстоятельствах. По существу, обе они недействительны. Ладно. Это в какой-то мере вопрос чувства. Или вкуса, если хочешь. Важна другая сторона дела. Две противоположные клятвы выполнить ты не можешь. Допускаю, что это возможно в каком-то особом случае, при помощи какой-то уловки. Представить себе это сейчас я не умею. А в твоем случае это ни при каких условиях неосуществимо. Потому что ты же не можешь – прости меня – и повеситься и не повеситься. Логически это так. Ладно, пусть данные тобою клятвы существуют и, допустим, тебя связывают. Что же тебе остается делать? Выбрать. Нарушив одну клятву, ты выполнишь вторую. Нарушишь одну, чтобы выполнить вторую. Нарушишь этически менее значительную, чтобы выполнить ту, которая этически важнее. Следовательно, какая же менее значительная и какая более: та, что ты дал себё, или та, что ты дал другому человеку? В данном случае матери?
– Ты хочешь сказать, что клятва, данная матери, важнее?
Я вздрогнул. И от уверенности, что я прав, и от сознания, что я должен на этом настоять:
– Что значит «я хочу»?! Это и без моего желания ясно как день! Только законченный эгоист мог бы считать данную себе клятву важнее. Для каждого нормально думающего и чувствующего человека слово, данное другому, важнее. А данное матери, может быть, еще более.
Я помню, что он поднял глаза от коврика. Он взглянул на меня посветлевшими глазами маленького мальчика:
– Слушай, может быть, в самом деле это так?! Может быть, у меня, как ты говоришь, нет достаточного основания?!.
– Конечно! – воскликнул я. – Для этого – ни малейшего основания. Как раз наоборот: у тебя все основания забыть весь этот собачий бред и жить дальше, будто ничего и не случилось! Ты же хотел поступить в электротехнический в Копли? Ну, отдохни пару недель и выволакивай свою математику и физику. Или не выволакивай. Тебе этого не потребуется. Ты и левой ногой сдашь там экзамены.
Не помню, о чем мы еще говорили. Помню только его лицо, лицо человека, освободившегося от необходимости умереть. Помню, что через некоторое время в дверь заглянула встревоженная госпожа Виппер и почти вскрикнув «Ох…», бросилась в комнату и стала заматывать ему шею синим шарфом, упавшим на пол. Маленький Виппер взял мать за запястья:
– Оставь, мама. К чему. Я все равно все Пеэтеру рассказал. И понял, понимаешь, я понял, что у меня не было достаточной причины вешаться. – Эти последние слова он произнес особенно ясно, продолжая держать худенькие запястья матери в своих крупных, желтоватых руках. – Хорошо, хорошо, если ты хочешь и если это поможет нам забыть… – Он выпустил материнские запястья, взял синий шарф, послушно улыбаясь, обмотал им шею и заколол концы английскими булавками.
Когда я уходил из их дома, госпожа Виппер вышла, чтобы запереть за мною дверь, и сказала:
– Я очень прошу вас, не рассказывайте никому про то, что сделал Тийт. Могу ли я быть уверена, что…
Я ответил, разумеется:
– Можете, вполне.
И я действительно ни одной душе не сказал о поступке Маленького Виппера. Но весть эта все-таки почти на следующий день распространилась, во всяком случае, стала известна в кругах, имевших отношение к гимназии Гранберга. И я узнал, каким путем.
Когда госпожа Виппер вынула сына из петли, она стала искать в телефонной книге по списку врачей адрес ближайшего. Горловой врач, к которому Маленький Виппер ходил на смазывание гланд, жил далеко, в центре города, а в тот момент была дорога каждая секунда. На улице Куслапуу проживал один-единственный врач, доктор Саар. Випперы были в Мэривэлья новые люди, и она этого доктора Саара не знала. Еще меньше она представляла себе его знакомства и связи. Не знала и того, что доктор Саар был старым другом и товарищем по студенческой корпорации нашего школьного врача, доктора Куусклайда, преподававшего у нас гигиену. Да вряд ли в тот момент что-нибудь могло удержать госпожу Виппер от просьбы к доктору Саару тотчас же прийти к ним. Я не знаю, почему доктора нарушили правила профессиональной тайны – под влиянием старой дружбы или какого-то конфликта. Во всяком случае, наш Куусклайд в тот же вечер знал о поступке Маленького Виппера и на следующий день стал говорить об этом в гимназии. Мальчики, правда, были уже распущены, но канцелярия подытоживала учебный год и педагогический состав еще не разъехался. И я думаю, что Куусклайд раззвонил про Маленького Виппера по нескольким причинам. Во-первых, потому, что поведение monsieur Ледуте и позиция педагогического совета были, по его мнению, предосудительны (старый Куусклайд, или Костыль, как мы его называли, на свой упрямый лед был гуманистом). Во-вторых, потому, что он не присутствовал на том решающем заседании педагогического совета и как бы не разделял общей вины.