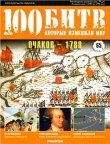Текст книги "Императорский безумец"
Автор книги: Яан Кросс
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 30 страниц)
Не скрою, что у меня мелькало беспокойство и по поводу самого себя. Потому что моя дорогая сестра с ее дьявольской жаждой взлететь неведомо куда и меня привела, того и гляди, на край бездны… У меня не было ни малейшего представления о том, как мы будем жить дальше.
Среда, 22 июня
Итак, с отъездом Ламинга мы остались без управляющего. Господин Латроб будто бы уже нашел другого – старого Тимма из Соосааре. Сейчас приводят в порядок запущенный дом управляющего. Неподалеку отсюда, позади скотного двора. Тимма я знаю, это грубый и простодушный старик. Он-то уж во всяком случае новым ухом у нас не будет.
Вчера рано утром я возвращался с купанья через сад, где белили полотно. Шесть или семь мызных работниц приносили и разматывали на траве рулоны холста. Большей частью это были молодые женщины, раскрасневшиеся от возни с тяжелой тканью. Они, как положено, приветствовали меня. Я ответил на их приветствие и с каким-то чувством неловкости прошел мимо. Пятнадцать лет назад такая соблазнительная перспектива близости с молодыми деревенскими женщинами была бы мне приятна. А теперь я уже больше не чувствовал своего места среди них: женщины и не женщины, чужие и не чужие, свои и не свои… Тут одна из них, раскручивая холст, приблизилась ко мне вплотную, рулон кончился, она выпрямилась… и я воскликнул:
– Ээва?! Что… что за Пенелопу ты здесь изображаешь?..
(В первое мгновение у меня чуть не вырвалось, что за Навсикаю, но мне показалось, что к Ээве больше подходит Пенелопа и далее странным образом очень точно.) Ээва ответила смеясь:
– Пришла помочь девушкам… Что, не подобает? – Она чуть помолчала, перевела дух, потом сказала – А ты – мы с Тимо говорили – приходи сегодня вечером вниз ужинать с нами, – она смотрела на меня. – Так что, по-твоему, не подобает?
– Почему не подобает… – пробормотал я и пошел дальше, размышляя: моя неспособность чувствовать себя в единстве с другими людьми тяготеет надо мною вовсе не только сейчас и относится не только к этим белильщицам или вообще женщинам, в сущности, она преследует меня давно и повсюду. Это относится и к батракам-мужчинам. Когда они сидят где-то на краю поля или у дверей риги, пыльные, потные, выпачканные землей, и едят хлеб, а я, проходя мимо них, по обычаю произношу несколько слов (иногда излишне приятельских, иногда – пустых, иной раз – «высокомерных. И каждый раз неуместных), я знаю, что в глаза они называют меня барином, а за глаза – юнкерским недорослем… (Правда, и просто господином Якобом, только я не знаю, как чаще, так или эдак…) Но еще более неуклюже мое поведение и ощущение себя в дворянском обществе, где обычно меня в большей или меньшей мере просто игнорируют, и в силу этого я уже сам готов заранее всех игнорировать (вернее: качаюсь как маятник между своей непреклонностью и внезапной невольной униженностью, которую пытаюсь скрыть за угловатой развязностью), Только среди литераторов – будь то у пробста Мазинга или у тартуских друзей Тимо – я порой встречал людей, в обществе которых обретал способность освободиться от этой муки – ощущать себя лучше или хуже других, – и я наслаждался, чувствуя себя естественно. Несмотря на то что мне всегда приходилось тщательно следить, чтобы пробелы в моих практических знаниях и в знакомстве с миром не слишком выскакивали наружу. Ибо только доносчик, подобный Ламингу, мог плести мне небылицы, что я, мол, намного умнее людей, учившихся в университете… А Ээва совершенно иной породы. Вот она идет помогать белильщицам, или в молочный амбар, или на маслобойню, или куда угодно, она носит в деревню роженицам лекарства и обменивается с ними шутками, как будто вообще от них не отрывалась, и они рассказывают ей про свои невзгоды, хотя она им о своих не говорит… И отношение к ней дворянства за эти десять лет несколько изменилось. Конечно, натянутость вокруг Ээвы еще очень сильная, а теперь, после возвращения Тимо, она стала еще заметнее. Но сама она среди всей этой натянутости свободна и естественна… Часто она напряжена, как пружина. Но не от судорожности, не от беспомощности, не от неумелости, как я, она просто не может быть другой. Если она на что-то решилась, то умеет в любое мгновение собрать все свои силы, чтобы достичь цели. Черт его знает, и откуда в ней это умение быть именно такой, какая она есть!
Кстати, теперь они наконец устроились здесь удобнее. Они уже не живут в кабинете Тимо с окнами в сад, где они до сих пор даже спали. Теперь у них спальня в комнате за желтой гостиной, и днем они чаще всего в его кабинете или гостиной.
Вчера Тимо выглядел гораздо более здоровым, чем две недели назад. За это время он несколько раз даже ездил верхом на озеро Вырстьярв купаться (я не спросил, с разрешения или без). Это ведь на расстоянии больше двух десятков верст. Часов в семь, когда мы уже поужинали втроем (весьма легко, как это у них принято, – тонкие бутерброды с зеленым амбертамским сыром, салат из сельдерея и чай) и после того, как Тимо заставил маленького Юрика запомнить четыре английских слова (celery, celebrity, purpose, persistence)[31]31
Сельдерей, знаменитость, цель, постоянство (англ.).
[Закрыть] и мальчик ушел в свою комнату дочитывать приключения Телемаха, Тимо позвал меня и Ээву к роялю и устроил для нас получасовой концерт.
Я, конечно, отнюдь не знаток. Но я слышал, что господин Латроб – а он ведь в этом разбирается – по-прежнему считает игру Тимо превосходной. Кстати, и память у него безупречная. Ибо в заключение он стал играть что-то мне знакомое, что я тщетно пытался узнать, оборвал, не закончив, и спросил Ээву:
– Узнаешь, что это?
Ээва кивнула. Как-то многозначительно. И Тимо сказал, обращаясь ко мне:
– Это последняя вещь, которую я играл здесь на этом рояле девять лет тому назад. «Трагическая симфония» Шуберта. Видишь, на какие фокусы способна жизнь.
Мы перешли из гостиной в кабинет. Ээва села за пяльцы. Мы с Тимо закурили трубки. Я спросил:
– Как тебе было там, в Шлиссельбурге?
Я заметил, что Ээва бросила на меня из-за пялец несколько испуганный и укоризненный взгляд. А Тимо взял в руку пенковый чубук, выпустил большое облако дыма, которое заклубилось в вечернем свете, шедшем из сада, и сказала вслед облаку:
– Когда как. Я и там играл Шуберта.
– То есть?., где это там?..
– В каземате.
Я рассмеялся.
– На краешке койки?
– На императорском фортепиано.
Я даже содрогнулся. От отчужденности, которая неизбежно возникает, когда собеседник начинает говорить нечто противоречащее здравому смыслу.
Боже мой, когда летом двадцать первого года Ээва через брата Тимо Георга наконец узнала, что все это время Тимо содержался в Шлиссельбурге, она стала добиваться сведений об условиях жизни заключенных. За эти годы она, правда, получила от Тимо несколько писем. Но где и в каких условиях он находился, в этих письмах, само собой понятно, не говорилось ни слова. Между прочим, весной двадцать первого года мы с Ээвой даже ездили в Шлиссельбург. В надежде (или скорее в тревоге), что вдруг Тимо содержится в тюрьме именно за этими стенами. Но поскольку у нас не было разрешения пройти в крепость, ни один лодочник не решился перевезти нас из города на остров (это было им явно запрещено), и нам не удалось попасть на прием к генерал-майору Плуталову, чтобы спросить о Тимо. Так что от нашей поездки прок был лишь тот, что мы собственными глазами видели этот остров и громадные топорные башни на нем, мы пытались представить себе, каково же могло быть там, в этой огромной каменной чаше, среди льда и воды. Летом, после того как Георг добился для нас ясности, Ээва отыскала в Петербурге конопатого генерала Плуталова, и – в точности как с фонвизинскими героями – сама фамилия свидетельствовала, что он за человек. Но что Ээва могла услышать от него или от его адъютанта?! Что государственные преступники живут в Шлиссельбурге прямо как у Христа за пазухой. Помещения достаточно светлые и просторные, никакой чрезмерной сырости, здание хорошо отапливается, питание более чем достаточное. А что до режима, так: «Режим, милостивая государыня, разумеется, таков, какого они заслужили своими преступлениями». Так что даже по генералу Плуталову до игры на фортепиано было далеко. Но Ээва на этом не успокоилась. Она разыскала одного вышедшего в отставку плуталовского тюремного сторожа, как я понимаю, одеревеневшего на своей должности бесчувственного старика, но обуреваемого жадностью получить деньги на водку и поэтому склонного к откровенности. Этот нарисовал картину совсем иную: фундамент двухсотлетних, саженной толщины стен заложен в грунтовых водах этого плоского острова, и конечно же стены пропитались водой, как губка. Долгой зимой на озерном ветру они настолько промерзают, что все лето изнутри от них веет холодом. А ведь ледяной погреб предохраняет мясо от гниения, ха-ха-ха. Камеры как низкие подвалы для хранения репы. В камере – койка, табурет, стол, параша. Книги – только молитвенник…
Так что вчера вечером в первое мгновение я не знал, как мне следует отозваться на слова Тимо по поводу фортепиано. Я бросил на Ээву беспомощный взгляд и сказал Тимо насмешливо, наугад:
– Значит, император пожаловал бывшему флигель-адъютанту флигель?
– Именно, – кивнул Тимо.
– То есть как?
– Очень просто. В один прекрасный день сторожа внесли его ко мне. Великолепный инструмент Шрёдера, и Плуталов явился сообщить, что прислал его лично государь император.
– Кхм… Фортепиано, наверно, там не часто встречается?
– Плуталов сказал, что это было первое.
– А что заставило императора тебе его послать?
– Откуда бедному императорскому безумцу знать, что именно заставляло его мудрого императора совершать безумные поступки. Мне остается только предполагать.
– И как ты думаешь?
– Должно быть, считал, что от музыки расслабнет мой дух. Мог считать, что там, в каменном мешке… подобная императорская предупредительность уже сама по себе окажет известное воздействие… И ведь оказала. Я не скрываю… Представь себе: все серо, скользко, тяжко, немо. И вдруг среди всего этого черное, блестящее, звонкое существо… Уже одно это… Да еще музыка… Миры, которые ты можешь раскрыть для себя игрой… А ты обрек себя на гниение – в то время, когда твой государь ждет, надеется, просит, чтобы ты все-таки образумился и попросил его…
Все еще не вполне веря и в то же время для того, чтобы как-то выразить признательность за доверие, – возможно, то была с моей стороны просто вежливость, возможно, и некая доля батрацкого виляния хвостом, черт его знает, я спросил:
– Но они тебя не расслабили?
– Я надеюсь.
Наверняка, иначе они бы не выбили ему потом зубы. Не знаю точно когда. И по сию пору не знаю за что. Вообще я ведь решил ничего о прошлом у него не спрашивать (захочет, так скажет сам, его дело), а вот вчера заговорил о Шлиссельбурге и нарушил свое решение.
Я спросил о другом:
– А какие у вас с Ээвой дальнейшие планы?
От волнения Тимо встал:
– Кхм… какие планы можно строить в нашем положении?
Ээва сказала:
– Прежде всего Тимо должен полностью окрепнуть.
– А потом? – спросил я несколько, правда, назойливо, но мне было интересно, и касалось это будущего, а я никому не обещал, что вообще ничего не буду спрашивать.
Тимо подошел к Ээве и, глядя ей в глаза (причем по Ээвиному профилю я видел, что моя сестра сомневается, следует ли мне знать о том, что Тимо намеревается мне сообщить), сказал:
– Ээва каждый день говорит мне то же самое, что и ты сказал недели две назад. За кофе. Помнишь?
– А именно?
– Что для нас единственный выход – бежать.
У меня мелькнула мысль: так, они сбегут, и я освобожусь от них. От них и от доносчиков у них на хвосте. Я уеду из Выйсику, возьму свои несколько сот рублей, которые отложил из жалованья, когда работал у Теннера. Куплю где-нибудь на окраине Пыльтсамаа или Вильянди хижину с участком земли под огород. А если так, почему бы мне не жениться на Риетте? Только я ведь уже принял решение.
Итак, вчера мы вместе обсуждали возможности их бегства. Тимо на всякий случай запер дверь кабинета на ключ и даже затворил окно, хотя было еще светло, и если бы кто-нибудь стал приближаться, мы бы его увидели. Я спросил, известно ли уже, кто станет у нас новым ухом. Тимо сказал:
– Бог его знает. Только в Китти и через нее – в тебе, больше я ни в ком не уверен.
И я почувствовал, что этими словами был неотвратимо втянут в крут их доверия и в их заговорщицкие дела. Что же касается самого плана их побега, то, оказывается, он был у Ээвы в основном уже продуман, и возражать против ее плана не было причин. Если бежать, то в самом деле, как считает Ээва, наименее опасно совершить побег на корабле из Пярну. Чтоб попасть в Пярну, нужно просить разрешения у генерал-губернатора («Ты прав, ты прав, Тимо… Разрешение нужно не от Паулуччи, а от самого императора… Николая Павловича просить об этом можно»), разрешения показаться врачу, ну, скажем, в Вильянди или в Тарту, все равно. И это разрешение необходимо получить. А если нам навяжут провожатого, нужно найти способ от него избавиться. Поехать и в подходящем месте свернуть на Пярну. И успеть в условленное время на условленное судно. Но при этом ясно, что раньше, чем будущим летом, сделать это невозможно. Во-первых, уже потому, что этим летом никак не успеть все устроить. А главное – деньги. Так что придется ждать, пока прояснится экономическое будущее Выйсику… и тем самым наше (или их…). Тимо сказал:
– На само бегство у Китти, оказывается, деньги уже отложены. Из тех трех тысяч, которые она девять лет получала от Выйсику через лифляндского фискала[32]32
Чиновник, наблюдавший за исполнением финансовых законов в Прибалтийских губерниях (ист.).
[Закрыть]. Но Китти говорит, что нам ведь и за границей нужно на что-то жить.
Я спросил, куда они намереваются бежать?
Ээва сказала:
– Это должен решать Тимо. Он объездил полсвета. Прежде всего сойдем там, куда нас доставит корабль. Если только это окажется такая страна, которая не выдаст нас России. А потом мы говорили о Швейцарии. Там должно быть много разных беглецов. И у братьев Тимо там есть какие-то друзья.
Еще мы говорили о том, что хотя в нынешнем году бегство и невозможно, все же было бы хорошо, если бы кто-нибудь из нас побывал до осени в Пярну и ознакомился с обстановкой. Какие корабли курсируют, где и как можно незаметно на них попасть. Причем, разумеется, в расчет идут только иностранные суда. Потому что капитан судна, которое ходит под русским флагом и возвращается обратно, вряд ли решится на такое дело. И Ээва еще добавила:
– Может, удастся с каким-нибудь капитаном условиться на будущее лето.
Когда Тимо пошел отпереть мне дверь, он сказал:
– Наверное, было лишне говорить, что наш сегодняшний разговор должен остаться между нами.
Я ответил: «Разумеется!» Пришел сюда к себе наверх и полночи с удовольствием и в то же время в смущении обдумывал это неожиданное, столь глубокое и безусловно опасное доверие, которое отныне роковым образом связывает меня с ними. И еще я думал о том, что Ээва казалась более захваченной мыслью о бегстве, чем сам Тимо. И о том еще, что Ээва продумала все с удивительной для женщины четкостью.
Хватит. Теперь мне следует еще тщательнее, чем прежде, прятать дневник. Ибо там, где к дому насильственно приставляют уши, не могут не появиться и глаза.
Четверг, 23 июня
Выше я писал, что ночью 19 мая 1818 года я оставил Ээву на диване выспаться и обрести ясную голову после пережитого потрясения.
Сестре моей в самом деле сразу же стала необходима ясная голова. Доктор Робст, Кларфельд и все прочие, не хочу скрывать, что в какой-то мере вместе с ними и я, были просто парализованы арестом Тимо. А объяснить это остальные умели еще меньше, чем я, который все же слышал основные пункты письма императора к Паулуччи. Кстати, именно от этого я был парализован еще сильнее, чем остальные. Ибо, как явствовало из письма, действительно в судьбе Тимо совсем не на что было надеяться. Ни на суд, ни на милость. И возможностью ошибки мы тоже не могли себя тешить. Ибо русские цари в этом отношении одним миром с папой римским мазаны, они тоже никогда не ошибаются.
Если у кого-нибудь из нас уже в первые недели после всего этого голова в самом деле была ясная, так это все-таки у Ээвы, на которую этот удар сильнее всего обрушился. Задним числом я уверен, что ей помогло одно обстоятельство: она все же больше остальных догадывалась, что стояло за арестом Тимо. Может быть, поэтому она и питала какую-то надежду.
Спустя неделю или две, уже не помню откуда – из Петербурга или из Польши, – прибыл в Выйсику господин подполковник Георг фон Бок, старший из двух младших братьев Тимо. Я увидел его впервые. Такого же роста и похожий на Тимо, по натуре, возможно, даже веселый человек, но теперь в силу обстоятельств озабоченный. Его лихие гусарские усы казались в странном противоречии с довольно угрюмым взглядом. Но к Ээве он был даже почтителен, да и со мной в должной мере вежлив, и, как потом выяснилось, вообще он был самым разумным человеком из всей родни Тимо. Похоже, что с детства он испытывал непоколебимое уважение к своему пусть всего на два-три года, но старшему брату. Может быть, в этом сказалась воспитавшая их рука покойного Лерберга. В какой-то мере отсвет этого уважения падал и на Ээву.
Кстати, именно Георг здесь у Валей и повсюду, где он бывал в гостях, вел такой разговор: Тимо послал императору дерзкое письмо? Согласен. Но это письмо, несмотря на все его свободомыслие, было рыцарским по форме и благородным по содержанию. Ибо немыслимо допустить, чтобы господин Тимотеус фон Бок поступил иначе! Забегая вперед, могу сказать, что это мнение сначала среди родственников, а потом среди всего лифляндского дворянства распространялось все шире. Ибо их человек, их кровный или сословный брат не мог поступить не по-рыцарски и неблагородно, каким бы он ни был дурнем со своей женитьбой, – да и в этой дурости он наверняка жертва собственной рыцарственности и благородства…
Господин Бок находился еще в Выйсику, когда из Риги прибыли чиновники главного фискала Лифляндии. И тут под ногами у нас – я имею в виду у Ээвы и в какой-то мере и у меня – произошло второе землетрясение. Менее значительное, чем арест Тимо. Потому что у меня здесь в Выйсику все равно ничего за душой не было (даже тех нескольких сотен рублей, которые лежат сейчас в шкафу, покрываясь паутиной). Да и Ээве тоже нечего было терять, кроме подаренных Тимо украшений, одежды и звеневших в ридикюле нескольких десятков рублей. Своих трех тысяч годовых она еще не получала (и особенно серьезно на них не рассчитывала), хотя в какой-то мере все же надеялась, и уже поэтому новый удар был жестоким. Два младших фискала с обтрепанными рукавами, тощие, пальцы в чернилах, вежливые и неподатливые, разложили свои брезентовые портфели, бумаги и Rechenbretter'ы[33]33
Счеты (нем.).
[Закрыть] на зеленом сукне нашего бильярда и сообщили нам – Ээве, Георгу и почему-то и мне: суммы, взятые в долг господином Тимотеусом фон Боком, подполковником в отставке, при поручительстве или без оного, у различных лиц как дворянского, так и мещанского сословия, намного превышают стоимость Выйсику. Посему получен императорский рескрипт установить размеры собственности и данных под нее долгов. С целью выяснения суммы общего долга объявлена регистрация кредиторов… И кредиторы спешно стали записываться у главного фискала в городе Риге. Поступившие требования на суммы от нескольких десятков до нескольких тысяч рублей составили в самом деле невероятную цифру. По крайней мере для меня. Мое понимание таких вещей как было, так и остается в большой мере тем самым, следуя которому прожил свою жизнь наш отец – от хольстреского крепостного крестьянина и кучера до вольного батрака у кольгеяниского Рюккера. А отец так считал: мужчина в долг не берет, десять копеек просит портной, рубль просит коробейник, а больше рубля – жулик и шельма.
А над нами – или во всяком случае над имением Выйсику – повисли сто тысяч долга… Откуда они взялись и на что были потрачены – что мы с Ээвой могли об этом думать и знать?.. И признаюсь: время от времени меня мучила неподобающая мысль, что в Тимо при всей его почти сверхчеловеческой порядочности (или в ней или за ней) каким-то непонятным образом жил авантюрист… Но Ээве говорить об этом я не спешил. Да она и не спрашивала моего мнения и не говорила мне, что она сама думает о мужниных долгах. И вдруг неожиданно все изменилось.
Помню: Ээва решила сама поехать в Ригу, поговорить с главным фискалом Кубе, и я отправился вместе с ней. Это было уже в августе восемнадцатого. Стояли жаркие дни, на дорогах клубилась густая пыль. Ээва была на седьмом месяце беременности. Благородные барыни в таком положении уже не двигаются и ничем не занимаются. Но когда я стал Ээве об этом говорить, она ответила, что если мы будем ждать, пока она родит, то раньше следующего лета мы к господину Кубе поехать не сможем. И что она не должна быть беспомощнее других деревенских женщин да и нашей собственной матери. Мы выбрали в каретнике двухместную карету с мягкими пружинами и проехали весь путь за три дня.
Помню: когда мы шли от въездных ворот к замку (ибо это было недалеко, и мы считали, что подъехать в карете как-то неловко), мы говорили (чего при кучере делать не хотели), что даже не знаем, куда нам деваться и что с нами будет. Поместье, конечно, продадут в покрытие долгов Тимо, и мы лишимся даже той опоры и того места, которые были у нас до сих пор. Палукаская лачуга, которую с помощью Тимо отдали нашему отцу, нас не прокормит. И единственное, что у нас есть, то есть у Ээвы, это свадебные подарки Тимо – золотые ожерелье, браслет и кольца, которые стоили, правда, несколько сотен рублей… Ээва сказала: «Если все это не придется продать из-за какого-нибудь нетерпеливого кредитора…»
Мы вошли в замок и спросили у дежурного офицера, куда нам пройти. Мы шли прохладными каменными коридорами, и на кирпичной лестнице Ээва сказала: «Обожди немного…» Мы вошли в сводчатый кабинет господина Кубе и там вдруг оказалось очень светло, и я увидел, как побледнела Ээва, и поспешил ее поддержать, а главный фискал с гладко зализанными рыжими волосами вскочил из-за своего стола, чтобы придвинуть стул даме в интересном положении. Ээва стиснула зубы, улыбнулась, садясь, и с поразившей меня плавностью сказала: «Ich bin Frau Katharina von Bock aus Woiseck…»[34]34
Я Катарина фон Бок из Войзека (немецкое название мызы Выйсику) (нем.).
[Закрыть] После чего господин Кубе почему-то снова соизволил вскочить, но Ээва продолжала: «Это мой брат. Мы приехали к вам для того, чтобы полностью выяснить вопрос о долгах моего несчастного мужа. И для того, чтобы узнать, что в этой связи могу сделать я».
Я уже заранее представил себе, что главный фискал разведет в стороны свои холеные руки и с кислым видом начнет объяснять, как безнадежно, увы, обстоит дело с долгами господина Бока. А вместо этого тайный советник вышел с радостной улыбкой из-за своего стола, сел в кожаное кресло напротив Ээвы и сияя сказал:
– Милостивая государыня, для меня несказанно большая радость иметь удовольствие обрадовать вас! Да-да! Самым неожиданным образом. Мы привели долги вашего супруга в равновесие. Теперь уже не сто тысяч. А только сорок. Что составляет немногим больше половины стоимости вашего Выйсику. Если мы причислим сюда движимость, то даже меньше половины. Мы установили: поместье приносит в год все же пять с половиной тысяч дохода. Так что я счастлив, madame, сообщить вам: никакого аукциона не будет. И ваши три тысячи в год вам обеспечены.
– Мне, разумеется, очень радостно это слышать, – сказала Ээва. И я видел, как облегченно она вздохнула. – Но позвольте поинтересоваться, куда исчезли остальные шестьдесят тысяч?
– Ммм… Видите ли, главный кредитор вашего мужа сообщил, что отказывается от своего требования. Он зачеркнул долг господина Бока.
– Шестьдесят тысяч? – переспросила Ээва почти шепотом. Я понял, что, не переспросив, она не могла этому поверить.
– Точно так, – со сладкой улыбкой ответил господин Кубе.
– И кто же этот кредитор? – спросила Ээва.
– …Это… – главный фискал смотрел на свои чуть залоснившиеся на коленях светлые панталоны и вдруг уставился на Ээву (с таким видом, что, мол, интересно, а ты и в самом деле не знаешь, кто это?). – Господин граф Штединк.
– Ах, вот как! – сказала Ээва без особого, как я заметил, удивления, как будто такой поступок со стороны графа Штединка вполне можно было допустить. Она еще добавила – Со стороны графа это поистине гуманный поступок.
Помню, когда мы вышли из замка на раскаленную солнцем улицу и переходили булыжную площадь, я спросил:
– Шестьдесят тысяч?! Сейчас, когда все дворянство от нас шарахается, как от прокаженных… А кто он, этот граф?
– Понятия не имею, – сказала Ээва, – я впервые слышу фамилию Штединк.
Четверг, 30
Всю неделю не было у меня времени вынуть эту тетрадь из тайника. Ибо у нас опять землетрясение. Как будто то, что я писал здесь о потрясениях десятилетней давности, повлекло за собой новые.
В понедельник утром приехал Петер. То есть муж сестры Тимо Петер фон Мантейфель. Часов в десять Ээва позвала меня вниз. Чтобы я присутствовал, когда Петер объявит нам о нашем новом положении. Так она сказала мне на лестнице.
Мы вошли в желтую гостиную. Господин Мантейфель сидел на том самом кресле, на котором десять лет назад сидел Паулуччи, и постукивал перстнем-печаткой по диванному столику. Его темная, коротко остриженная голова сидела несколько вкривь, тяжелый синеватый подбородок прижимал бант шелкового галстука. И Тимо сидел на том же самом кресле, что и десять лет назад. И Ээва подошла к нему сзади, как она в тот раз стояла, и положила руки ему на плечи, как тогда.
Петер сказал:
– Я буду краток, – но прежде чем он успел продолжить, Тимо произнес:
– Подожди! – и обратился к Ээве: – Вели позвать сюда Юрика. Я хочу, чтобы он это слышал.
– Глупости! – буркнул господин Мантейфель. – К чему это!
Но Ээва вышла в бильярдную и кликнула сына из классной комнаты, где мальчик, согласно распорядку дня, зубрил с доктором Робстом французский язык. Юрик сразу пришел в гостиную и по знаку Тимо подошел к нему. Отец положил руку Юрику на плечо и сказал:
– Слушай, дядя Петер окажет, как нам здесь дальше жить. А ты – учись.
– Чему? – спросил мальчик.
– Тому, – ответил Тимо, – кого следует любить и кого не следует.
Господин Мантейфель вскинул черные брови над листом бумаги, который держал перед собой, и смерил нас карающим взглядом:
– Послушайте, зачем этот театр?
Тимо ответил кротко:
– Затем, что в этом наша единственная свобода.
– Эх… Ну, ладно! – господин Мантейфель отмахнулся движением руки от слов Тимо и приступил к делу – Я сказал, что долго не задержу. Опекунский совет (вы знаете – я, Латроб и Лилиенфельд) получил предписание властей. На основании его совет пришел к решению, поскольку в поместье в данное время нет хозяина, совет сдает его в аренду. Арендатором по высочайшему давлению будет Латроб. До тех пор, пока я не приведу в порядок свои дела в Харми и не будет, как предусмотрено, оформлено право собственности Эльси на Выйсику. Тогда я вместе с Эльси и с детьми поселюсь здесь.
– А что говорят по этому поводу Георг и Карл? – спросил Тимо.
Господин Мантейфель ухмыльнулся:
– С ними дело обстоит просто. Они отказываются от своих прав мою пользу, и я перевожу каждому из них по пятнадцать тысяч в Женевский банк.
– И Эльси с этим согласна? – спросил Тимо очень спокойно.
– Разумеется, Эльси согласна с моими решениями.
– С твоими решениями, то есть решениями генерал-губернатора, и генерал-губернаторскими, то есть твоими.
– Да, к счастью, это так.
– А что решено тобою и свыше по поводу нас? – правой рукою Тимо очертил в воздухе небольшую дугу, внутри которой оказались мы вчетвером вокруг его кресла.
– С вами останется все по-старому. Вы будете и дальше жить здесь, как птички божии. Только, разумеется, не в этом доме.
– Где же? – спросил Тимо по-прежнему спокойно. Лицо его казалось мне таким бледным, каким оно было, когда он приехал из Петропавловской крепости, и он похлопывал Юрика по узкому плечику чуть сильнее, чем нужно, но на губах у него, честное слово, мелькала насмешка.
– Вы переселитесь в Кивиялг, – сказал господин Мантейфель как-то чуть торопливо.
– Ой, как замечательно! – крикнул Юрик. – Туда в окна белки приходят я знаю.
– Сперва здесь поселится господин Латроб с женой и сыном. А в дальнейшем – я, Эльси и дети. Это же естественно. А в Кивиялге у вас будет вполне достаточно места. Четыре человека и десять комнат. Доктор Ройст уже научил распоряжение. Он будет жить с Тигма в одной половине дома управляющего, так что Кивиялг целиком предоставляется вам. Сложите за неделю свои пожитки. В следующий понедельник я пришлю вам людей перенести мебель.
– И господин Латроб тоже со всем этим согласен? И готов поселиться здесь вместо нас? – спросила Ээва. Это был, кстати, ее первый вопрос.
– Да-да-да! – воскликнул господин Мантейфель очень нетерпеливо. Так что я не понял, относилась эта нетерпеливость к Ээве или к господину Латробу.
– Значит, ты уверен, что я совершенно здоров? – неожиданно спросил Тимо, но все так же спокойно.
– Хм? В каком смысле?..
– В таком смысле, что ты не боишься, что я могу встать и задушить тебя?
– Мммм… Но-но-но-но…
Я видел, как во время этого несколько обескураженного бормотания господин Мантейфель сунул правую руку в левый внутренний карман на груди. И Тимо сказал с прежней кротостью:
– Слава богу, что ты не вызываешь у нас иллюзий. Ни своими намерениями, ни своей храбростью.
– Как это?..
– Не скрываешь, что носишь за пазухой пистолет.
Это было эффектно замечено и эффектно сказано. Но положения нашего не улучшило. В общем-то нельзя сказать, что с нами происходит что-то особенно скандальное. Для Тимо это, конечно, трагичнее. Но, кстати сказать, даже я чувствую себя униженным. Хотя, с другой стороны, отдаю себе отчет, что это привередливость, когда вспоминаю нашу старую каннукаскую избу или отцовскую комнату для работников в Хольстре и сравниваю их с Кивиялгом.
Кивиялг как-никак господский дом, пусть ему уже полтораста лет, и во всяком случае большая часть лифляндских помещиков победнее живут в домах не лучше. Правда, господский дом под соломенной крышей теперь встречается редко. Большинство мызников обзавелось уже черепичными. А в остальном Кивиялг – дом как дом. Я в нем и раньше бывал, у Кларфельда и у Робста, и теперь во время переселения снова осмотрел его. В длину дом пятнадцать саженей, в ширину пять. Стены из могучих старых гулких сосновых бревен, каменный фундамент высотою почти в этаж. Огромный сводчатый подвал и там же удобная с каменкой баня. Два хода – парадный и черный. И в самом доме десять комнат, и кухня, и разные закутки. В комнатах два камина и белые кафельные печи с каменным кружевом. И все это прямо в парке под старыми ракитами и среди таких зарослей шиповника, что сейчас, в это время года, прямо дух захватывает от запаха роз.