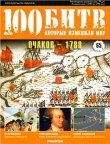Текст книги "Императорский безумец"
Автор книги: Яан Кросс
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 30 страниц)
– Что же с тобой?
Он продолжал, выпуская дым:
– Ты не знаешь, да и никто не знает – какого напряжения мне это стоит. Быть нормальным. Знать меру. Быть молчаливым. Сонными порошками съедать потоки мыслей. До сих пор мне это удавалось. Более или менее. Ради Китти. Она думает, что я здоров. По крайней мере теперь. И если я как-то, ну, сбиваюсь, то, по ее мнению, это игра. В которую мне следует играть. Чтобы меня не отправили туда обратно…
Я сказал:
– Но ведь бывает иногда, что ты играешь…
– Например?
– Ну, хотя бы твоя игра в Александра с этим скользким Ламингом…
Мне показалось, что он хотел улыбнуться. Но он сказал очень серьезно:
– Знаешь, это треклятое противоречие… Перед человеком, который у меня на жалованье и приходит в мой дом за мной шпионить – пусть ему хоть три императора приказали, – перед таким человеком я свободен от любых нравственных норм… Но перед самим собой – все же связан – чувствуя, что самое блаженное было бы – знаешь – все постигать и ничего не понимать… а просто сквозь все проходить – ну, как ребенок… Да-да… я немножко дразнил этого Ламинга… Из озорства. Потому что так ловко это у меня получалось. И потому что Китти ждала от меня таких проделок. От меня, своего мужа, веря, что он здоров и только во имя своего спасения удивительно умело изображает сумасшедшего… И вот теперь мы снова перед моей проблемой… Это Китти сделала меня, так сказать, здоровым. Когда ей наконец разрешили свидание со мной в Петропавловской крепости… Ее приход, самое ее существование – снова как бы подняло меня с глубокого дна. Помню, комендант генерал Сукин и этот штаб-лекарь, как же его фамилия – Элькан… повели меня из камеры… куда-то в кабинет… там было солнечно… это было в конце февраля прошлого года, господи, как раз год назад… и там на солнце… Но при всей моей инертности я был все же начеку перед всякими трюками… Дама – из-за яркого света я ее хорошо не видел – эта дама, несмотря на ее черные волосы, была такая, какой должна была бы быть Китти… Но Китти я не видел девять лет… А дама эта во всяком случае не была той девушкой, которая махала мне в Выйсику с крыльца… и чем это могло бы быть, если не попыткой властей завести меня в ловушку с двойником Китти.
Сукин спросил: «Ну, как, узнаете свою жену?»
Я сказал: «Разрешите, я сравню…»
Помню, я вынул из кармана синий, вышитый бисером кошелек Китти и достал из него ее миниатюрный портрет – не знаю, кем сделанный, но кошелек был вышит ею самой, Китти послала его мне вместе с портретом в двадцатом году, и он шел пять месяцев. Позолоченный ободок металлического медальона был вскрыт, чтобы проверить, нет ли за портретом запрещенного письма. Я вынул портрет, смотрел на него и смотрел на нее и чувствовал, как поднимаюсь со дна моря, как все окружающее становится более четким и все звуки более ясными… Я подошел к Китти и обнял ее. И она шепотом спросила – они ей наговорили уже всякого, – она спросила: «Дорогой, здоров ли ты?..»
Когда я вдохнул ее запах – ты не знаешь, как в тюрьме властны запахи минувшего и будущего, – я ощутил ее девятилетнюю борьбу за меня, через нее я почувствовал нашего сына – из сорока Киттиных писем два за эти годы дошли до меня, и я знал, что у меня сын… Знаешь, в это мгновение я поверил в свое выздоровление… И я сказал тоже шепотом, скосив глазом в сторону доктора и коменданта: «Давно уже здоров…» Якоб, с тех пор прошел год. И я до сих пор не решился сказать ей правду. Я и сам по временам верил в свое выздоровление. И я понял, что значит иметь сына. Я представляю себе, как жила Китти все эти годы. Мне было жаль ее… Да… и просто стыдно… Я сказал ей, что у меня нервы были не в порядке. Но что это случается с каждым человеком, оказавшимся в одиночном заключении. Эта мысль была в самом воздухе, окружающем нас: что я изображал там безумного, чтобы выйти на свободу. И что доктора зажмуривали один глаз. И Николай тоже зажмурил один глаз… Чтобы избежать вонючего наследства Александра… И что теперь я притворяюсь лишь в той степени, чтобы снова не оказаться в заключении. А Китти при этом всеми силами души жаждет, чтобы я в самом деле был здоров! И все вместе становится жалкой ложью… А теперь я хочу, чтобы ты мне помог.
– Каким образом?
– Чтобы ты сказал ей. Не сразу…
– О чем?
– Что на самом деле я вовсе не так здоров, как она думает. Что, возможно, я в самом деле болен. И когда она будет подготовлена, я соберусь с духом и скажу ей правду.
– Какую же правду?
– Ну… что мое выздоровление только видимое… Что она все-таки жена безумного.
Я незаметно для себя встал и начал ходить между стопками книг. Я не сумел ему сразу ничего ответить. А потом я сказал, что это вопрос жизненной важности и я не хочу отвечать на него опрометчиво. Пусть он даст мне время подумать. Что отвечу ему завтра.
Итак, как жё мне поступить? Поддерживать его безумность или его нормальность? Или просто сказать им: «Распутывайте свою петлю сами, а меня оставьте в покое!»?
Полдня я обдумывал этот вопрос. Последнее (распутывайте сами!) было бы, конечно, проще всего. Но боюсь, что это действительно невозможно. Ибо, увы, их петля в слишком большой степени и моя собственная. Даже не знаю почему. Но это так. Как же мне быть: подтверждать, что он безумен или что он нормален?
Очевидно, это зависит и от того, каков же он на самом деле, а этого я не знаю. Я даже не знаю, каким считаю его я сам. В каземате временами он действительно бывал безумен. Не вижу оснований в этом сомневаться. Удается ли при таких обстоятельствах выздороветь? Полагаю (сознаю свое полное невежество, но мне необходимо определить свою позицию) – полагаю, что в таких случаях выздоровление наступает достаточно редко, однако само по себе оно не исключается.
Воскресенье, 25 февраля, 3 часа ночи
Я снова достал его рукопись, положил рядом с дневником и до сих пор все читал. Я по два раза на каждой строке спрашивал себя: а нет ли уже здесь (как утверждал император Александр) признаков безумия? И пришел к странному заключению. Я сделал вывод, что все, что Тимо здесь пишет, чистая правда, и если она известна не всем, то во всяком случае многим. Ложно лишь то, как он с этим поступил. Прямо даже преступно. Что еще раз подтверждает позапрошлогодняя декабрьская история. Но безумным поступок Тимо, очевидно, не был. И по поводу участников декабрьского события, насколько известно, ни слова не говорилось об их безумии. Потому что одного человека можно было объявить безумцем, но сотни – невозможно.
Мне во всяком случае уже ясно, что я ему завтра утром отвечу.
Воскресенье, 25 февраля, вечером
Сегодня утром возможность остаться с Тимо с глазу на глаз не представилась. Ээва вернулась еще до завтрака. Вчера, когда уже совсем стемнело, она доехала до Пыльтсамаа, но дорогу так замело снегом, что ей пришлось заночевать у Валей. Порозовевшая от езды, дышавшая свежестью, Ээва сидела с нами за завтраком, наливала Тимо кофе и рассказывала тартуские и вселенские новости. На четвертом пустом стуле у нашего круглого стола лежали стопки книг, привезенных ею из Тарту для Тимо. Я стал одну из них перелистывать (это оказался изданный в прошлом году в Гамбурге маленький томик стихотворений – иногда трогательных, иногда странных – не помню чьих, на титульном листе стояло «Büch der Lieder»[58]58
«Книга песен» (нем.).
[Закрыть], а Ээва продолжала рассказывать тартуские новости. Госпожа Воейкова больна. Местные доктора считают, что это легкие, весной собирается ехать лечиться в Швейцарию или Италию, и врачи уверены, что это ей поможет. Обращаясь к Тимо, Ээва сказала: «Видишь, они все едут туда выздоравливать…» А профессор Мойер (я сразу представил его себе: макушка, как большое птичье яйцо, блестящее и розовое, будто в гнездышке из венчика рыжих волос) со смехом рассказывал: доктор медицины фон Бэр, бывший тартуский студент, чуть ли не ученик самого Мойера, а теперь новоиспеченный профессор в Кенигсберге, утверждает, что все люди птичьего рода, потому что он якобы открыл яйцеклетку, то есть человечье яйцо… На что я сказал: а почему бы и не птичьего, если – взгляните – есть даже дворянского, – и прочел из этого сборника строчки, попавшие мне на глаза.
Jetzo, da ich ausgewachsen,
Vlel gelesen, viel gereist,
Schwillt mein Herz, und ganz von Herzen
Glaub ich an den Heil'gen Geist.
Dieser tat die grössten Wunder,
Und viel grösste tut er noch;
Er zerbrach die Zwingherrnburgen,
Und zerbrach des Knechtes Joch.
Alte Todeswunden heilt er,
Und erneut das alte Recht:
Alle Menschen, gleichgeboren,
Sind ein adliches Geschlecht…[59]59
Я теперь созрел, начитан,
Видел многие края,
И в святого духа верю
всей душой своею я.
Сотворил чудес он много.
И еще творить готов;
Он разрушил замки гордых,
Сокрушил ярмо рабов.
Лечит старые он раны,
Право древнее дает,
Люди все родились равны,
Есть у всех дворянский род
(стихотворение Г. Гейне из «Путешествия по Гарцу», вошедшее в «Книгу песен»).
[Закрыть]
Приезд Ээвы и ее городские новости и вдобавок еще это красивое и дерзкое стихотворение вызвали у всех нас странное радостное оживление. Однако я помнил о своем решении ответить Тимо. Когда мы вставали из-за стола, я сказал:
– Тимо, у тебя нет желания пойти поразгребать снег?
Он тут же согласился – я и прежде видел, как он по утрам лопатой сгребает снег в сугробы вокруг дома. Он поцеловал Ээву в лоб и отправил ее с книгами в гостиную. Мы набросили на себя какое-то старье и через несколько минут с таким азартом размахивали широкими лопатами, расчищая дорожку от парадной двери Кивиялга к калитке в парк, что только снежная пыль летела… Когда мне стало жарко, а в рукавицы набился снег, я прислонился к каменной верее и, выколачивая рукавицы, подозвал Тимо.
Он подошел ко мне и, опершись на лопату, спросил: «Ну?»
Я все ему объяснил. Все, что выяснил для себя. До конца и честно. Ибо лишь таким образом я мог бы его убедить.
– Тимо, существуют две возможности. Либо ты болен, либо ты здоров и только боишься, что болезнь твоя продолжается. Я не знаю, как обстоит дело в действительности. Да ты и сам не знаешь. С такими болезнями именно так и бывает. Ты можешь только предполагать. А предположение, что ты здоров, накладывает на тебя обязательства и дает тебе силы. Понимаешь: чтобы защищать Ээву, Юрика и самого себя. И с Ээвой, как в зеркале, происходит то же самое. Мысль о том, что ты болен, парализует вас обоих. Так что мой совет – верить в свое здоровье. Лишь в одном случае это может принести вред: если бы ты на самом деле был болен, а из-за этой веры отказался от лечения. Но ведь ради этого тебе не нужно сторониться врачей. Они могут поддерживать в тебе веру, что ты здоров. Как доктор Фельман. Я с ним говорил: он считает, что ты здоров. И во всех других отношениях все равно лучше верить в свое здоровье. Даже если бы ты на самом деле был болен. Понимаешь, это как кантовское доказательство существования бога. Помнишь, оно было в тетрадях Лерберга. Так что я предлагаю тебе: если ты здоров, будем вместе это утверждать… Если ты все же болен – будем вместе из самых лучших побуждений обманывать весь свет и самих себя.
Я замолчал и затаил дыхание. Я слышал, как чирикали воробьи на занесенной снегом изгороди, я ощущал, как через заснеженный двор из открытых ворот большой конюшни шли особенно бодрящие запахи конского навоза и соломы; утренний кофе, сгребание снега и эти стихи – ein adelich Geschlecht[60]60
Дворянский род (нем.).
[Закрыть] будто свербили во мне. Как, наверно, и в Тимо. Он тихо произнес (но это и незачем было говорить громко):
– Хорошо. Если случится, что я больше не смогу выдержать, я скажу тебе.
16 марта 1828 г.
Кажется, я раньше уже упоминал о Рыйкаской зеркальной фабрике, которую здесь называют и Катарининской. Она находится в Выйсикуской волости, верстах в двадцати от мызы. Такие фабрики весьма редко встречаются в прибалтийских провинциях, их только единицы, да и во всей империи их насчитывается совсем немного.
Как говорят, начало ей положил небезызвестный, вроде бы полоумный, но по-своему весьма ловкий пыльтсамааский майор Лау. Лет шестьдесят тому назад, как свидетельствует Хупель[61]61
Хупель Август Вильгельм (1737–1819) – экономист, публицист и лингвист. Автор многих работ, в том числе грамматики и словаря эстонского языка.
[Закрыть] в своей знаменитой книге, неслыханными дотоле предприятиями Лау привел весь этот край в движение: появились мастерские медников, фарфоровые заводы, стекловарни и многое другое – аптеки, типографии и сверх всего еще газета на эстонском языке.
Непосредственно на выйсикуской земле зеркальная фабрика была основана в то время, когда знаменитый господин Лау уже обанкротился и бесславно умер. Спустя восемь лет после смерти Лау его идея снова дала побеги. Ибо другой столь же странный господин решил извлечь из забвения прежние проекты. То был старый господин фон Бок, иными словами, отец Тимо. Вместе со своим тестем, рижским ратманом фон Раутенфельдом, и петербургским купцом Амелунгом-старшим, примерно в то время, когда французы на целую голову укоротили своего короля, они приступили к строительству фабрики в двух десятках верст от пыльтсамааской мызы, у самой реки. В память рано умершей дочери господина Раутенфельда, то есть безвременно скончавшейся супруги господина Бока, матери Тимо, они назвали фабрику Катарининской. Там были построены шлифовальня и полировальня, несколько десятков жилых домов для нанятых на месте рабочих и привезенных из Брауншвейга мастеров и зеркальщиков. И в нескольких верстах в Мелескиском лесу соорудили новую стекловарню. Теперь мыза уже давно не имеет ничего общего с фабриками. Во всяком случае с тех пор, как мы с Ээвой сюда приехали, даже земли, на которых стоят фабричные здания, уже принадлежат не поместью, а, как это в последнее время водится, «Фирме Амелунга». Здания Катарининской фабрики сохранились. Новая полировальня – двухэтажная под черепичной позеленевшей крышей, вверху фахверк, нижний этаж каменный. А старая шлифовальня – деревянное строение, но все же двухэтажное, хотя и крытое соломой. И у обеих со стороны реки над водой стоят громадные будки с лопастными колесами диаметром в несколько саженей, летом неутомимо шлепающие по воде, а зимой поднятые рычагом, стоящие на отдыхе. В двух фабричных зданиях в общей сложности девяносто шесть шлифовальных и полировальных станков и вдобавок еще всевозможные песты для глины, гипса и наждака, всего свыше двадцати. Внутри полировальни рыжие от красной железной пыли и кое-где серые от наждачной и стеклянной, зимой они раскалены пламенем больших кирпичных печей, а летом еще и солнцем, и все в них искрится. Над одними камнями, которые вращаются при помощи трансмиссии от водяных колес, на деревянных чурбаках, согнувшись, сидят шлифовальщики, а над другими – полировальщики, в этой рыжей железной пыли делающие свою сложную ручную работу. Зеркальщик на фабрике обычно среднего возраста. Ибо со времен деда Амелунга вплоть до теперешнего внука Амелунга принято брать на работу во всяком случае людей женатых, а еще лучше, если это отцы семейства. Чтобы поменьше толклись в фабричном трактире (пусть это, с другой стороны, даже в интересах Амелунга) и чтобы не шатались бог знает по каким женщинам, да и вообще чтобы было поменьше случайного и беспокойного люда. Слева от заводских зданий склады, легкие хибары под соломенной крышей, где хранятся привезенные из Мелески ящики с нешлифованным стеклом, мешки с гипсом и наждаком и большие глиняные бутылки с дорогим Меркурием[62]62
Ртуть (устаревшее название).
[Закрыть]. С правой стороны, против соснового леса, – один ряд жилых домов, а у реки – другой. Дома здесь построены в разное время и весьма различны. Одни с шестью или восемью комнатушками и общим очагом, напоминающие жилища мызских батраков, землекопов и других рабочих. Есть дома с четырьмя квартирами, для десятников квартиры двухкомнатные, для мастеров и их помощников – трехкомнатные с кухней, при них клочок земли для грядок и даже несколько жалких яблонь и смородиновых кустов.
Живут в этих домах люди в зависимости от их положения, но случается, что и вперемешку, главным образом рабочие и грузчики на жалованье из сельского люда здешней Выйсикуской волости, шлифовальщики из немцев, эстонцев и русских и полировальщики из брауншвейгских или лифляндских немцев, эти считают себя здесь самыми важными, но и среди них в последнее время стали появляться эстонцы и русские.
Суббота, 14 апреля 1828 г.
Сегодня утром, возвращаясь с Рыйкаской фабрики, возле моста через Рийвлиский ручей я впервые этой весной увидел жирянку. И по дороге в голове у меня вертелись всякие мысли, связанные с этой фабрикой и некоторыми другими в наших краях.
Заводы Лау, Бока, Раутенфельда и Амелунга породили здесь, в центре северной Лифляндии, многочисленный и весьма своеобразный народ. Прежде всего – самих владельцев. О господине Лау я сам немногое знаю. За исключением того, что первоначальный успех его предприимчивости явно ударил ему в голову, он превратил свой пыльтсамааский дворец просто в княжеский и стал жить с соответствующим размахом, пока, как я, наверно, уже писал, не обанкротился. Так что после него, кроме огромных долгов, осталась только огромная коллекция французских гравюр непристойного содержания. Несмотря на его предпринимательские способности буржуа, я вижу его барином в пудреном парике минувшего века. Господина Бока-старшего я представляю себе только отчасти. О господине Раутенфельде знаю не много. И все же одно совершенно очевидно, что чем-то эти господа отличались от обычных лифляндских дворян, как отличались их фабрики от принадлежавших им да и всем остальным поместий. Господа Амелунги – отец, сын и внук – по крайней мере для нашей северной Лифляндии были уже насквозь деятелями нового сорта, из тех, кто ставил необученных или обученных людей работать на станках за жалованье и выколачивал деньги таким способом (в то время как господа помещики и по сей день выколачивают их главным образом с полей) и кто постепенно начинает играть в обществе ту же роль, что до сих пор играло дворянство (а у кого голова варит, так, пожалуй, еще и большую).
Только в одном наверняка это выдумка, а впрочем, может быть, в каком-то общем смысле даже и правда, о чем до сих пор толкуют в выйсикуских избах: будто господин Амелунг, будучи еще совсем молодым, выманил за гроши у старого господина Лау пыльтсамааские фабрики и прочие предприятия, после того как обнаружил безмерные любовные похождения их владельца, и угрожал, что иначе сообщит жене про все его амуры с потаскухами. А Лау полностью зависел от богатого жениного приданого… Если бы я писал не дневник, а был романистом, то, собрав здесь, в окружности нескольких миль, весьма интересные истории нескольких поколений, мог бы насочинить такое…
Деньги, вложенные этими господами, основавшими фабрики, в земли, в строительство и станки, привлекли сюда великое множество подобных им людей, каких в местных деревнях или поселках никогда в таком количестве не бывало: управляющие фабрик, мастера, счетоводы, писари, кладовщики, лавочники, ремесленники и, наконец, сотни фабричного люда трех национальностей… Я пропустил весь этот народ слоями перед своим мысленным взором: первые, ни дать ни взять, настоящие господа, но и вторые, и третьи да и последние, во всяком случае в церкви или за семейным праздничным застольем, в большинстве такие же важные и накрахмаленные, а когда они делают свое дело – за конторкой, за столом или шлифовальным станком, – такие они дельные и исправные, что только держись… И тут я понял, откуда наблюдения Тимо могли породить у него неожиданную мысль, которую я нашел в меморандуме. Он пишет о Русской империи следующее:
К сожалению, у нас нет третьего сословия. От этого и происходит, что после самых больших наших усилий (под этим он понимает, разумеется, победу России над Наполеоном) мы все же снова опускаемся в грязь. Однако что же мешает нам создать третье сословие? При замечательных качествах русского народа для этого достало бы двенадцати разумных лет…
И вот мне пришло в голову: под влиянием местных впечатлений у Тимо, вероятно, должен был возникнуть вопрос, не здесь ли в Лифляндии, при еще пусть даже не установленных свойствах эстонского народа и при содействии немцев и русских, не стало ли уже здесь складываться то самое третье сословие! Складываться и, быть может, уже и расслаиваться (как это, к примеру, давно происходило и происходит во Франции) на господ, разъезжающих в каретах и купающихся в деньгах, и на работяг, кашляющих у пылающих печей от пыли шлифовальных станков и ртутных паров…
О дьявол, – чем я занялся, куда меня занесло – в описание наших фабричных поселков, в национальную экономику и еще невесть куда! Эти страницы, во всяком случае, пока я жив, никто не прочтет. Так что за чрезмерную честность по отношению к самому себе никто не сможет бросить меня в каземат, хотя эта честность, быть может, не менее редкая, чем чрезмерная честность по отношению к государю… Что я тут намудрил?!
Cherchez la femme![63]63
Ищите женщину! (франц.)
[Закрыть] Вот и вся мудрость мудрствования!
Да-а. Эти прибрежные и лесные дома Рыйкаского фабричного поселка, о которых я писал, заинтересовали бы меня, возможно, и не зависимо ни от чего. Однако в первую очередь они интересуют меня потому, что там есть один дом, особенно привлекающий мое внимание: первый с северного конца прямо у самой реки. Именно такой, трехкомнатный. С белыми занавесками и цветами на окнах, с пятнами сейчас уже подтаявшего снега в садике и пятью или шестью молодыми яблонями, которые в этом году впервые обещают дать плоды. Дом Анны Классен.
Четверг, 19 апреля
Эту женщину я впервые заметил в прошлом году на рождестве в Колга-Яаниской церкви, когда богослужение совершал старый Рюккер. Мы были там вчетвером – Ээва, мать, отец и я, – и она сразу бросилась мне в глаза. Истовостью, с которой было обращено ее бледное лицо к Рюккеру и с которой она слушала его нудное брюзжание. И страстностью выражения ее лица, как будто она пыталась следовать за полетом органа. После службы я увидел ее еще раз, она стояла у прилавка в трактире возле церкви. Овечий тулуп был распахнут, виднелось светло-коричневое платье из городской материи, и я обратил внимание на ее непомерно большие груди. Она достала из внутреннего кармана медь и, улыбаясь, положила ее на прилавок за купленные булку и конфеты.
В следующий раз я увидел эту женщину три недели спустя в доме Швальбе, бухгалтера Рыйкаской фабрики. Я уже и раньше иногда заходил туда попить чаю и побеседовать. Швальбе, рыжеусый, пятидесятилетний онемечившийся эстонец родом откуда-то из-под Пярну, вел счетные книги в Риге, в Курляндии и в Петербурге, он повидал белый свет и любит иногда весьма интересно помудрствовать. Говорят (чему я не очень-то склонен верить, поскольку речь идет о каком-то мелком счетном работнике), Швальбе якобы был даже членом рижской масонской ложи, прежде чем Паулуччи лет пять тому назад не запретил их как тайные организации. Госпожа Швальбе со своей седой головой выглядит заметно старше мужа, она вся как будто начерчена по линейке, но вообще-то она – весьма любезная седая старуха. А кто из них готовит приятно горьковатый вишневый ликер, который подают у них к чаю, это мне неизвестно. Но про Анну я уже в первый раз кое-что узнал. Кое-что от нее самой, кое-что от Швальбов, когда она выходила из комнаты.
Анна потом призналась, что давно заприметила меня. Сама она родом из Вильянди, мать ее Маали Вахтер была женой бондаря. Анне, наверно, еще нет тридцати. Семь или восемь лет она была замужем за Петером Классеном, помощником мастера на зеркальной фабрике. В прошлом году весной после долгой грудной болезни ее муж умер. Теперь Анна ходит к директору фабрики Мальму смотреть за детьми, и по просьбе госпожи Мальм директор разрешил ей первое время по-прежнему жить в доме помощника мастера.
Здесь в моем сугубо личном дневнике я могу это сказать: вначале Анна не показалась мне привлекательной. Помню, она сидела со мной рядом за столом, я искоса поглядывал на нее, на ее спереди гладко зачесанные пепельные волосы, круглые темно-серые глаза и некрупный яркий рот. Она передала мне сахарницу и улыбнулась, и я подумал: есть какая-то таинственность в ее улыбке. Но в линии рта что-то от рыбки (не только рифмы ради…), и при невысоком росте ее женские формы слишком бросаются в глаза. И сама она, по-видимому, хорошо осведомлена о своих женских флюидах. В то же время от нее, казалось, исходило какое-то веселое безразличие к украшениям, редко встречающееся у женщин предместий (впрочем, даже и у дворянок). Она не носила и до сих пор не носит никаких других украшений, кроме двух обручальных колец, по вдовьему обычаю. Что касается женских разговоров насчет турнюров, завивок и плиссе, о чем даже госпожа Швальбе способна болтать с увлечением, то тут Анна просто молчит. Так же как и во время моих разговоров со Швальбе о тартуской обсерватории или о газете Розенплентера. Так что я, в сущности, даже не могу сказать, о чем она тогда говорила. Хотя в ушах у меня и сейчас звучит ее довольно низкий, глуховатый, как будто шепчущий голос.
Но с первого взгляда Анна взбудоражила меня. С того самого первого раза у Швальбе. Мы с хозяином сидели за маленьким столиком красного дерева и играли в шахматы, а в соседней комнате госпожа Швальбе вместе с Анной накрывали стол к ужину. Потом Анна подошла к нам. Она стала за моей спиной. Не знаю уж почему. Играть в шахматы она не умела и, следовательно, за нашими ходами не следила. Вдруг я ощутил ноздрями легкий, но острый запах сирени, а телом – ее близость. Всем телом – нашу обоюдную близость в нашем одиночестве. Наш обоюдный голод.
Я дал этому ощущению какое-то время побурлить во мне, потом вместе со стулом повернулся к ней. Помню, что при этом локтем я сбил с доски несколько фигур и, в то время как господин Швальбе собирал их с полу; взглянул на Анну.
– Вы хотите что-то сказать?
Она посмотрела на меня долгим бесстыжим взглядом, потом с едва заметной усмешкой, прямо как будто прочитала в моих мыслях слово голод, сказала:
– Идемте ужинать.
Мы ужинали, мы болтали о зеркалах. Их сортах, об их назначении и о росте цен на них. Анна сидела рядом со мной, и по взглядам, которыми мы обменивались, можно было понять, что дело у нас решенное.
Я должен был заночевать у Швальбов и утром уехать обратно. После ужина мы надели валенки и все вместе прошли с четверть версты по дорожке вдоль реки, мимо трактира и окраинных домов и проводили Анну. Из вежливости и ради моциона. Ее карликовый домик, при котором имелся хлев, сарай и колодец, стоял освещенный луной за невысокой стеной живой изгороди в снегу, спиной к ельнику, лицом к снежной реке. Анна пригласила нас зайти. Мы посидели с полчаса. Она налила нам по рюмке горьковатого швальбеского вишневого ликера из принесенной от них же бутылки. Мне запомнились следы наших валенок на полу, на красной дорожке. И что я, кажется, не обменялся с ней ни одним словом. Через неделю Швальбы опять позвали меня к себе, и снова там была Анна. Приехав, я тут же сказал им, что вечером уеду обратно в Выйсику. Мы пили чай, играли в шахматы, ужинали, вместе проводили Анну и вернулись к Швальбам. Я попрощался и вывел лошадь. Швальбы уговаривали меня остаться. Я сказал, что мне нужно рано утром быть в Пыльтсамаа. Они спросили, не боюсь ли я волков. Я показал, что у меня в кармане пистолет.
Я проскакал с версту по дороге в Выйсику и свернул направо. Окраинные дома скрывались за сугробами. И луна, к счастью, была за тучами. У Анны горел огонь. Я постучал. Она не спросила: «Кто там?» Она тут же открыла дверь. Она стояла на пороге со свечой в руке. Я сказал:
– Простите, я, кажется, забыл у вас перчатки.
Она сказала:
– Ах, вот как, обождите. Я принесу фонарь. Уведите лошадь с мороза.
И все оказалось удивительно просто. Даже слишком просто, как я, наверно, в какое-то мгновение подумал.
Воскресенье, 6 мая 1828 г.
Завтра поеду в Пярну. Чтобы разузнать о капитане Снидере. Через неделю Ээва отправится в Царское, привезти домой Юрика. Чтобы семья была в сборе, если окажется, что дело дошло до того.
Понедельник, 14 мая 1828 г.
Только я, приехав в Пярну, вошел в дом к Розенплентеру, как пастор вернулся из города, плотно закрыл дверь своего кабинета и тут же изложил мне последние новости, полученные торговым домом Якке. Вчера вечером из города Порто пришел в гавань парусник. Капитан Снидер просил сообщить в Пярну, что этой весной в Балтийское море ему идти не придется. Из-за каких-то других, очевидно, более прибыльных рейсов. Но он заверял, что в конце сентября будет в пярнуской гавани, как «клубничка у медведя в заднице», как именно сказал Снидер, я не знаю, но Розенплентер считал, что по-эстонски это наиболее точно. А еще Снидер велел передать: пусть об этом знают все, кто заинтересован в его прибытии. Мне показалось, что последнее прямо относилось к делу, которым я занимался. Все же какое-то мгновение я взвешивал, не следует ли мне попытаться вместо Снидера вовлечь в игру этого капитана португальского парусника. Однако оставил это намерение. И бесповоротно – после того как в тот же день пополудни увидел его в лицо у прилавка в том же Паркманском трактире. Ни дать ни взять – морской разбойник с лиловым подбородком и латунными кольцами в ушах, по сравнению с ним снидеровский медный циферблат и синие глаза были сама благонадежность.
На следующее утро я сел возле пярнуского рынка в почтовую карету и успел вовремя домой, чтобы рассказать об этом Ээве до ее отъезда. Как я и предполагал, она решила этой весной в Царское не ехать. Воспитанников лицея обычно домой не отпускают. Даже на лето. Так что Ээва решила приберечь до сентября резкое ухудшение здоровья отца как повод, чтобы привезти Юрика домой. Во всяком случае, я заметил, как слегка дрогнул у нее голос, когда она добавила: «Ничего не поделаешь… С нашими небольшими деньгами мы могли бы уже рискнуть… Будем надеяться, что осенью…»
Тимо выслушал мои пярнуские новости, не проявив разочарования, и сказал:
– Ну, если мы до сих пор справлялись, справимся и дальше. До сентября и даже дольше.
Значит, около Мадисова дня я снова потащусь в Пярну. Скажем, чтобы предложить господину Розенплентеру новые отрывки народных песен.
Пятница, 8 июня 1828 г.
В сущности, мне следовало иметь с собой дневник там, откуда я приехал. Где на прошлой неделе пытался собраться с мыслями. В палукаской избе при Колга-Яаниской церкви, под кровом у отца и матушки. Там совсем другой воздух и иные условия жизни, там я мог бы записать некоторые размышления той недели.
Эта полугосподская комната в Кивиялге, эти вечерние часы за тщательно запертыми на замок дверьми, мое непременное, наверняка ненужное, но давно ставшее привычным старание вынуть тетрадь как можно неслышнее и как можно меньше шуршать страницами и время от времени оглядываться на окно, плотно ли сдвинуты шторы, – боюсь, что вся эта атмосфера влияет на самый дух моих записей и делает его тайным, заговорщицким. А там напротив… Не знаю.
Не помню, писал ли уже об этом. Должно быть, еще в четырнадцатом году, когда мы уехали из Хольстре, батюшка соорудил там у Рюккера на земле церковной мызы избу. Разумеется, разрешение он получил при участии и посредничестве Тимо. Можно допустить, что Тимо хорошо заплатил старому Рюккеру, чтобы тот отказался от этого кусочка пастбища. Теперь отец уже пятнадцать лет обрабатывает свои четыре-пять лофштелей земли. Свой кусок хлеба он с них получает, а на остальное он до сего дня выколачивает сапожным ремеслом к неудовольствию вильяндиских цеховых подмастерьев. Матушка, наряду с возней по дому, вяжет чулки и носки для обитателей пастората и жителей поселка. Не потому, что старикам это так уж необходимо. Ээва давала родителям последние десять лет каждый год двести – триста рублей. Которых им, по-моему, было вполне достаточно, поэтому во время своей службы я из своего незначительного унтер-офицерского жалованья особенно настойчиво денег родителям не предлагал. Поскольку Ээва с самого начала считала, что от меня этого не требуется. Как-никак госпожа помещица – и нижний чин в отставке…