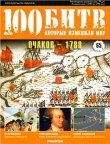Текст книги "Императорский безумец"
Автор книги: Яан Кросс
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 30 страниц)
Ээва решила: мне предоставляются две обособленные комнаты с выходом прямо в парк напротив кустарника. Большая комната три на четыре сажени, в ней два окна, правда, увы, на север. Вторая – почти вдвое меньше, окнами на восток. Эта будет служить мне спальней, так что устроюсь я лучше, чем в эркере господского дома. Хотя бы уже потому, что комнаты у меня больше полутора саженей высоты.
А все-таки нас выгнали из нашего дома… прежде всего – Тимо. В самом деле он теперь живет как бы на задворках своего наследного имения. Разумеется, и Ээву тоже, сколь бы ни был для нее неестествен тот господский дом со всей его роскошью. Она даже намного острее ощущает это изгнание. Ибо ей и без слов ясно: «несчастного полковника» или «безумного полковника» (в зависимости от того, с каким намерением каждый пользуется этими словами) далее надменный муж его сестры Петер не посмел бы выгнать с семьей из господского дома – если бы жена его была, как подобает, какая-нибудь geborene[35]35
Урожденная (нем.).
[Закрыть] фон Шульц, или фон Штакельберг, или фон Шлиппенбах… И когда я думаю о положении моей сестры, я понимаю: ей должно быть даже втройне горько. Потому что она не может не чувствовать, что ее унижение переносится и на ее сына…
Кивиялг, поздно вечером 12 июля
Итак, мы теперь в Кивиялге. Я у себя, а Ээва с Тимо и мальчиком у себя. В их распоряжении семь комнат. В восьмой поставили перегородку, и туда поместили по одну сторону кухарку Лийзо, по другую – слугу Кэспера.
У меня все основания быть довольным моими комнатами. Но настроению моему далеко до умиротворенности. Мои окна, упирающиеся в заросли шиповника, старательно закупорены и завешены толстыми полотняными гардинами. Дверь на замке. Бог его знает, может быть, в этом я уподобился Тимо и склонен преувеличивать? А на столе у меня рядом с дневником в кружке света от двух свечей самая неожиданная и самая волнующая находка в результате нашего переселения.
Позавчера вечером, когда уже смеркалось, я пошел в господский дом, вещи Тимо и Ээвы, не поместившиеся в Кивиялге, были снесены в комнаты позади залы. В галерее на обоях, там, где висели семейные портреты, даже в сумерках темнели пятна. В классной комнате вместо доски зияла штукатурка. Доска висит теперь в комнате Юрика в Кивиялге. Пустота в доме звенела, будто где-то здесь еще звучало фортепиано Тимо. Я поднялся наверх и вошел в свою бывшую комнату. Можно было обойтись без свечи. Мне не хотелось, чтобы меня кто-нибудь увидел сквозь голые окна. Я подошел к эркеру, где до сих пор стоял мой письменный стол, и приподнял потолочную доску. Вынул дневник и сунул его под жилет. Доска над моей головой уже опустилась. Я снова ее приподнял. Даже не знаю, какое побуждение мною руководило. Может быть, сознание, что вот в последний раз ощупываю свой тайник. Так или иначе, но я сунул в него руку и провел ладонью по обшивке. Одна пыль. Но когда я, задрав руки, шарил по доскам, дневник выпал у меня из-под жилета. Я, конечно, почувствовал, что он начал выскальзывать, и выдернул руку, чтобы его придержать, ладонь плотнее прошла по обшивке тайника. Доска вдруг стала вкось, и моя рука оказалась в пустом пространстве между обшивкой и потолком комнаты. Пальцем я нащупал там связку бумаг.
Сейчас они здесь, у меня на столе. Два дня я их читал и перечитывал. Никакого сомнения, в них тайна ареста Тимо! Шестьдесят страниц рукописи на французском языке, очевидно, список с того текста, что он закончил весной восемнадцатого года и послал императору, из-за которого произошло все то, что произошло.
Могу сказать, что читал я тщательно. Я даже побросал прямо на пол в кучу книги из корзины, чтоб скорее найти словарь Легранда и предельно точно понять меморандум Тимо.
Господи, до чего же доверчивы были мы все эти годы!
Мы ведь считали, что арест Тимо и все, что делали с ним в тюрьме, необъяснимая и неслыханная несправедливость! Если нечто подобное и происходило прежде с другими (как иногда можно услышать), то во всяком случае ни над одним из прибалтийцев, по крайней мере при русских царях, такая ужасная, такая открытая несправедливость, как над Тимо, никогда еще не совершалась! Во всяком случае все, кто только по слухам знал или предполагал причину его ареста – в их числе и я, – твердо придерживались этого мнения. Может быть, только в первый момент от ужаса нам показалось, что он в самом деле совершил какое-то государственное преступление, иначе государство столь беззвучно и столь бесшумно не поглотило бы всеми почитаемого дворянина и офицера, кавалера двенадцати орденов и царского друга, будто его вообще никогда и не было, будто все, кому казалось, что он совсем недавно еще существовал, были жертвами галлюцинаций… Однако вскоре, о чем я, наверно, уже упоминал, стали соглашаться с высказанным Георгом убеждением, что роковое письмо императору не могло быть недостойным дворянина и офицера. Кстати, что по этому поводу в душе думала Ээва, этого я, конечно, не знаю. Ибо я не знаю, в какой степени она была посвящена в дела Тимо. Но что она на самом деле знает об этом больше, чем она мне говорила, следовательно – больше, чем я, в этом я был совершенно уверен все эти годы. Мы же, все остальные – я и тартуские знакомые Тимо, его родственники и собратья по сословию – после сомнений первого испуга быстро привыкли к уверенности, что Тимо невиновен. Друзья – во имя дружбы, родственники – во имя родственной и сословной гордости. Я же – черт его знает, очевидно, в силу этого проклятого свойства, которое меня с ним связывает. Очевидно, мне было просто обидно признать умалишенным или преступником чуть ли не единственного для меня (да и для всего эстонского народа) гласно внесенного в церковные книги дворянского родственника… Более приемлемым было считать царя, ну, скажем, мелочным и какого-нибудь его министра – зловредным, и какого-нибудь его тюремщика – скотиной… Нет-нет, боже сохрани, я не собираюсь оправдывать ужас выбивания зубов, сатанинскую проделку царя с фортепиано, посланным в каземат! И всего остального, что с Тимо совершали и о чем я не знаю. Однако что-то неминуемо должно было произойти с человеком, дерзнувшим написать страницы, которые я сейчас, дрожа от волнения, читаю за запертой на ключ дверью…
Я бы, наверное, совсем ничего не понял, не окажись среди груды исписанной бумаги отдельный лист, явно послуживший наброском сопроводительного письма, в нем я прочел:
Ваше величество!
То, что я при сем Вам препровождаю, составлено мною для речи в Лифляндском ландтаге [36] 36
Ландтаг – местное самоуправление в отдельных провинциях (ист.).
[Закрыть] предстоящим летом. Действительно, я приступил к работе, имея в виду текст речи. Однако по мере того, как я писал, горестная правда сгустилась до таких пределов, что я понял: только Вам лично я могу это представить.Все же я до конца придерживался формы выступления в ландтаге. Ибо мне представляется, что таким путем реальность изложенных мыслей становится более очевидной. В силу этой формы Вы острее почувствуете, что для Ваших думающих подданных подобные мысли стали повседневными. Их только пока еще редко высказывают. Я уповаю на то, что моя записка в форме речи для ландтага все же побудит Вас спросить себя: «А что, если подобное выступление в самом деле имело бы место? Если бы я, император, вынужден был признать (ибо я на это способен!), что каждое слово в нем – чистая правда?»
Та самая чистая правда, крупицы которой Вы иногда от меня слышали и которую Вы от меня ожидали.
Т. Б.
Март, 1818
Ну, должен сказать, что за эти годы мне не раз доводилось видеть, каким образом пишут императору, И каждый раз написано было так, что на наш язык того гляди и не переложишь:
«Всемилостивейшему государю императору Александру Павловичу, самодержцу всероссийскому и прочая, и прочая, и прочая… Возлюбленному царю…»
И подписи я видел примерно такие: «Вашего императорского величества всеподданнейший слуга такой-то…»
По сравнению с этой принятой формой письмо Тимо по меньшей мере заносчиво.
Вместе с тем я чувствую: нельзя сказать, чтобы оно было преступно дерзко. Однако такое письмо обязательно вызывает скверные предчувствия по поводу материала, отправленного с ним. И сейчас, когда я в третий раз перелистываю шершавые пожелтевшие страницы меморандума Тимо, я чувствую, что не могу оторваться от его безрассудных строк, и время от времени просто не знаю, куда мне глаза девать…
Господа! Человек сам кует свою судьбу, и я не верю, что окончу свои дни у очага отчего дома. Возможно, что я присутствую на этом собрании в первый и последний раз… Как дворянин, как честный человек прошу я вашего внимания, соблаговолите выслушать некоторые мои рассуждения, в которых во всяком случае не говорит себялюбие… Откажемся от смирения, признаем: когда дело касается отчизны, щадить нельзя никого, даже собственных отца и мать… Мы живем в весьма примечательное столетие. Весь мир в брожении от полюсов до экватора, у берегов Перу и за вечной и неизменной Китайской стеной. Можно допустить, что Господь проверяет свои творения и всему придает новое обличье, начиная от сокровеннейших дум отдельного человека и кончая самыми основными установлениями народов… Как много мы уже видели резких перемен в правительстве, во мнениях и науке! Мы не вправе оставаться лишь сторонними наблюдателями. Перелом свершился и в нас самих. Простым глазом видна непригодность старых форм жизни. Им на смену идут новые, лучшие, но ценою каких жертв и заблуждений – вот вопрос, за который ныне живущее поколение должно держать ответ перед будущими…
Пусть так, я чувствую, как от этих слов по телу у меня бегут мурашки, словно от голоса какого-то могучего проповедника. Однако в этих великолепных раскатах можно отчетливо ощутить сверкание дерзостных идей нашего десятилетия. Я оставляю в стороне его сомнительные исторические отступления и намеки и с ужасом читаю и перечитываю самые страшные места его сочинения:
…Император Павел заплатил жизнью за насилие над дворянскими правами и над человечностью…
Господи Боже, ведь во всех исторических сочинениях написано, что император Павел умер в своей постели от удара… И если говорится, что произошло нечто иное, – то ведь пишущий знает, что произошло это с ведома Александра Павловича, иными словами, с его согласия… Но тогда тот, кто идет ему самому об этом докладывать, должен быть не иначе как безумным – каковой вывод император и сделал! А дальше Тимо пишет:
А если и после того времени все еще наблюдаются тирания и рабство, то мечта о законной и честной жизни ныне, когда народ осознал свое единство и силу, стала еще более властной…
Пусть так! Пусть так! Но ведь это не что иное, как угроза императору в самом что ни на есть прямом смысле слова! И потом, господи боже мой, эти беспощадные пощечины государю:
…Наша армия не нуждается в похвалах. Пусть французы скажут, что они о ней думают. Однако за все, что есть в ней возмутительного, вина ложится на нашего императора. Ибо он подвластен злосчастной иллюзии считать себя воином, как это было с его отцом и дедом. И они возвращались с парадов, разыгрываемых перед иностранными послами и собственными адъютантами, на которых сами были лишь марионетками, делая вид, что вернулись с победного сражения…
Безумец из безумцев!
…излишне добавлять, что все рассыпались в комплиментах по поводу выправки гвардии, а хитрецы заверяли их, что парады – это как дважды два – основа всего общественного порядка и национального благосостояния, и даже христианской веры…
…Что сделал император в 1812 году? Что сделал император в битве под Баутценом? Он попросту все испортил. И когда все было окончательно потеряно, он как можно скорее удалился. В этом самом баутценском сражении великий князь Константин допустил, чтобы собственный адъютант открыто обвинил его в трусости, а отступая, он забрал с собой в качестве эскорта почти весь кавалерийский резерв. И тот же великий князь после битвы явился инспектировать гвардейских гусаров, потерявших двадцать три офицера. Он обругал их и отослал со словами: «Вы быки, только и умеете, что драться!» Господа, грязь должна течь в жилах вместо крови, чтобы стерпеть такое оскорбление…
…Или разве вам, господа, никогда не доводилось слышать, что говорят о Сперанском? Или о Беке? Или об известных профессорах? О тысячах безымянных, убитых нашими так называемыми трибуналами?… Я спрашиваю: кто же мы? Стадо семьи Романовых?
О боже, к чему опять подобные слова о членах царской фамилии, ну для чего?! Оскорбление… Ну да: ты почувствовал, в своих жилах грязь вместо голубой крови от того, что великий князь посмел назвать дворян быками… Мой дорогой господин свояк, ты что же, не знаешь, что на протяжении шестисот лет твой собственный род называет скотом племя твоей дорогой Ээвы? Может быть, и нам следует, в конце концов, считать это оскорблением?.. Да еще Сперанский… просто как красная тряпка, чтобы раздразнить императора! И «наши так называемые трибуналы», будто это и не суды вовсе, а машины для рубки мяса… Хотя, судя по тому, что стали про них шептать, особенно после декабря позапрошлого года… бог его знает…
…Однако, господа, если среди вас найдутся люди, которые сочтут мои вопросы пустым бредом, люди, которым неведомо большее и более надежное счастье, чем слепая преданность неисчислимым милостям благородного дома Романовых, то я прошу дозволения напомнить им указ императрицы Елизаветы Петровны, оглашенный в Сенате 30 августа 1743 года. В нем говорится о дерзких сплетнях, которые несколько придворных дам позволили себе по отношению к этой высоконравственной правительнице, и о людях, которые в конфиденциальных разговорах выразили сомнение по поводу ссылки Миниха, Головкина и Остермана. По их делу не было никаких доказательств или документов. А в указе сказано: ввиду чего судить должно на общем заседании Сената при участии лиц духовного звания и наидостойнейших людей армии и цивильной службы, и всех вышеупомянутых злодеев за их дьявольские и для нашей империи губительные и мерзкие злодеяния присудить к смертной казни нижеуказанным способом: Степану Лопухину, его жене и сыну и Анне Бестужевой вырвать языки, а их самих колесовать, после чего тела их привязать к колесу, Ивана Мошкова и князя Путятина четвертовать, Александру Зыбину отрубить голову и тела всех троих привязать к колесу, а для Софии Лилиенфельд… ограничиться отсечением головы, и хотя все эти люди по закону заслужили сию кару, мы, в силу нашего врожденного милосердия и материнского жалостливого сердца, решили не подвергать их смертной казни, но вместо того: Степана Лопухина, его жену, его сына и Анну Бестужеву сперва выпороть плетьми, после чего вырезать им языки, Ивана Мошкова и князя Путятина наказать плеткой, а Александра Зыбина – розгами и всех отправить в изгнание, и таким же способом, предварительно дав розги, отослать в отдаленные места Софию Лилиенфельд после того, как она родит дитя, которое сейчас носит, и лишить ее всего движимого и недвижимого имущества… Да разве вы не помните, господа, что еще отец нашего императора за эпиграмму приказал отрезать одному офицеру язык. И однажды, когда к нему пришли заступиться за невинного человека, приговоренного к порке, он воскликнул, причем так, чтобы слышал весь двор: «Что же, я не волен дать розог кому и сколько пожелаю?!»
…Это в самом деле ужасно… и все это, возможно, даже правда (конечно же правда, да еще только частичка ее). А только, помилуй Бог, зачем же хоть сколько-нибудь разумному человеку тыкать императора носом в гнусности его предшественников?! Ведь они совершались как-никак членами царской фамилии… Далее если сам он, во всяком случае гласно, осудил мерзости своего отца – слегка, разумеется, без воодушевления, без внутреннего убеждения и без настоящей радости очищения, что, естественно, только и возможно, когда сын ведет счет отцовскому наследию, и неизбежно сыновнее чувство (и чуть ли не грех отцеубийства) охлаждает рвение вести этот счет.
Зачем, зачем – если у него есть хоть крупица разума – он суется в такие дела?! Но у него нет этой крупицы разума! Вот что он пишет:
…Первый практический принцип императора – поддаваться своим страстям и капризам. Величайший скандал, по его мнению, оправдан, если он скажет: «Я так желаю!» или «Я этого не желаю!» Он не признает своего долга перед народом и не терпит над собой никаких авторитетов, перед которыми был бы ответствен. Он считает себя святым, когда с помощью снисходительного духовника вступает, как говорит Тартюф, в сговор с небом…
Император любит произносить красиво звучащие повеления. Ибо он хочет, чтобы его превозносили как христианина и законодателя, как героя, как освободителя, как покровителя искусств и наук, как основателя национального благополучия. Но когда дело доходит до осуществления звонких фраз, тогда начинают придумывать мундиры и создавать комитеты. А осуществление решений доверяется угодникам и авантюристам. Ибо честные и талантливые люди могут затмить его величество! Поскольку министр тупица и шельма, он может быть уверен в милостях монарха. Достаточно обладать характером и талантом, чтобы тебя удалили от двора… В результате начинания Александра только усугубляют абсурды Павла, а мы, в сущности, доведены до полной анархии. Палены, Панины и Ростопчины изгнаны, Кочубеи, Чарторийские и Салтыковы удалились сами, в то время как благородный Аракчеев (который, обладай он гениальностью Сеянна, был бы рад сделать из Александра двуличного кровавого Тиберия), благородный Аракчеев изображает из себя визиря, в то время как сводник Голицын стал министром народного образования и духовных дел. Оберкельнер Волконский – военный министр, бравый Козодавлев – министр внутренних дел, Гурьев, наш Кольбер, – министр финансов, паяц Лобанов – министр юстиции, а Лопухин, продавший собственную дочь, – председатель Государственного совета. Кстати, когда Лобанова назначили рижским генерал-губернатором, он сразу объявил, что двери его открыты для всех угнетенных и все бедняки найдут в нем защитника. На следующий день замок был наводнен крестьянами. Лобанов держал перед ними речь на русском языке. Крестьяне ничего не поняли. Лобанов, разгневанный тем, что за сто лет они не научились русскому языку, показал им язык и велел гнать прочь…
В смятении я листаю эти хрустящие, не раз намокавшие и снова высыхавшие страницы, ставшие от этого жесткими, и мне неловко за Тимо… Господи, невозможно считать человека в здравом уме, если он пишет императору, что все его министры развратники и негодяи… Конечно, всем им могут быть присущи человеческие слабости, человеческие недостатки, и они есть у них. Допускаю, что у многих далее серьезные пороки. За все те годы, которые я провел среди весьма осведомленных людей, мне приходилось кое-что слышать о некоторых государственных мужах, иногда сказанное шепотом, иногда даже оброненное вслух… Хорошо, пусть все это как угодно обосновано, но чтобы об этом объявлять гласно, чтобы в написанном виде швырнуть в лицо императору, для этого действительно нужно быть безумным.
…Господа, три вопроса и ответы на них. Во-первых, еще раз: почему император так страстно любит парады? Потому что парад – это триумф ничтожества, потому что из любого солдата, перед которым во время сражения его величеству следовало опускать глаза, на параде делают манекен. А император там может воображать себя единственным повелевающим божеством…
А ведь правда, даже из уст майора Теннера лет пять тому назад я слышал нечто подобное… Когда вместе с его отрядом месил болота на Гродненщине. Сам Теннер из той породы людей, которые раз и навсегда замкнули рот на замок. Сын управляющего мызой, человек деревенского происхождения… Видимо, он считает, что чем точнее и правильнее он составит карту медвежьих углов империи, тем быстрее вырастет бахрома на его эполетах… И правильно поступает, разумеется. Он не торопится доводить до сведения императора правду, он мысленно видит себя полковником, генералом, академиком, это чувствуется. И вместе со всеми молчит. (Как? Разве это значит, что он вместе со всеми лжет? Ну… не знаю…) Даже он, помню, однажды пробормотал на веранде в доме ксендза, где он с раннего утра сидел над своими картами небритый, с белой щетиной на подбородке и маленькими, быстрыми, как у плотвы, красными от недосыпания глазками. Рядом с картами лежали свежие петербургские газеты. Майор Теннер бросил взгляд на «Пчелу». На первой странице крупными буквами давалось сообщение об императорском параде в Царском. Теннер тыльной стороной руки отодвинул газету в сторону и буркнул; «Ох уж мне эта смехотворная парадомания…»
Во-вторых, господа, как могло случиться, чтобы блудница с помощью императора родила Священный союз?
О Господи. Мы же все знаем, как император молился и лил слезы, стоя на коленях рядом с госпожой Крюденер! Мы же знаем, что в светском обществе вежливо молчали о ее прошлом (ведь дворянка, дама, пишущая романы, супруга посла!), а небось повсюду шептались, что у этой дамы была весьма бурная молодость… Она же духовная сестра государя… А мой одержимый Тимо пишет императору: блудница. А их общий Священный союз – дитя блудницы.
В-третьих, чем император сделал себя предателем отечества? Тем, что идею – отечество как высший принцип – он отвергает. Ибо он желает, чтобы говорили только о провинциях, основу существования которых определяет только он и его «да» или «нет»…
Боже милостивый! Тимо называет императора предателем отечества! А мы десять лет говорили себе, что император несправедливо карает его за несколько незначительных слов…
…Поэтому, господа, мы имеем полное право декларировать его величеству, как бы ни было это опасно и больно (ибо это покушение на краеугольный камень нашего общества): суверен, который полагается на льстецов и предается своим страстям, вынуждает подданных напомнить ему о его долге и обнажить перед ним правду.
Я долго ходил по щербатому полу моей новой комнаты. Мне пришло в голову; а что, если Тимо в самом деле… просто такой глупец, такой ребенок, что написал все это потому, что император действительно взял с него клятву говорить правду?.. Это дурацкое предположение так меня разволновало, что я стал бегать взад и вперед, ожидая, что скрипучие доски как-то ответят на мой вопрос. Но половицы шириной в локоть под ногами у меня молчали, я снова сел за стол и пишу. НУ ЧТО Ж! ДУРАКОВ И В ЦЕРКВИ СЕКУТ, А ВО ДВОРЦЕ УЖ И ПОДАВНО. Вот что он пишет:
…Шесть лет тому назад мы проливали кровь и жертвовали имуществом не для того, чтобы сделать его величество главой Священного союза. Мы дрались потому, что иначе это значило бы отказаться от чувства собственного достоинства и чести. Русский народ спас Россию и Европу вопреки его величеству, ибо народ этого желал, дворянство руководило, и его величество не смог помешать. С мечом в руке мы отвоевывали воздух, которым дышим. Ценою нашей крови, жизней наших братьев, ценой сожженных городов и деревень. Мы не потерпим, чтобы его величество, которому надлежит за все, в том числе и за повседневный хлеб, благодарить великодушие народа, обращался со всем народом так, как его отец имел обыкновение обращаться с отдельными людьми… Итак, дворянство требует созвать всеобщее Учредительное собрание. Оно требует этого для того, чтобы вместе с другими сословиями издать необходимые законы. Ибо законов у нас еще нет. Указы, издаваемые то тираном, то помешанным, то истопником, то фаворитом, то комедианткой, то турецким брадобреем, то курляндским псарем, то Аракчеевым, то Розенкампфом – это не законы Они так же мало похожи на законы, как те, что действуют в Японии или Алжире. Такая система есть не что иное, как анархия. Это право сильного, где нет моральных обязательств и где живут, следуя принципу – лучше убить, чем быть убитым… Поэтому нам необходимы настоящие законы, которые положили бы конец нашему скандальному и нетерпимому положению и в то же время предостерегли бы от непредвиденных грядущих опасностей. Теперь должно стать ясным, кто есть Александр – узурпатор или сын своего отечества, готовый на величайшие жертвы. А законы, издание которых я считаю нужным, таковы…
Довольно. От этого безумного чтения и всей суматохи последних дней я совсем одурел, оставлю его законы. Завтра днем, когда кругом будет звучать жизнь, я буду пилить и стучать, чтобы сделать в комнате тайник для этих бумаг и дневника. Я уже знаю, где и как я его сделаю.
Суббота, 16 июля
Ну вот, теперь тайник уже готов. На эту мысль меня навел эркер в господском доме. Здесь потолки очень высокие, а двери относительно низкие. Я оторвал в спальне наличник над дверью и укрепил его таким образом, что одним движением руки доску можно наполовину сдвинуть влево, как крышку пенала. Я выпилил в этом месте кусок балки длиной в полтора фута, в образовавшемся таким образом пространстве хранятся теперь мои опасные бумаги. Сегодня они там и останутся, потому что мне нужно подробно записать в дневник сегодняшние события. (Подумал, наверно, было бы гораздо умнее не писать о них. Но когда вспомнил, что у меня здесь написано, то решил, что давно уже бессмысленно из осторожности о чем-либо умалчивать.)
Из Пыльтсамаа семейное имущество Латробов на прошлой неделе доставлено сюда. Господин – даже уже не знаю, как и писать – Jean Frederic, или John Frederick, или Johann Friedrich[37]37
Три варианта одного и того же имени – французский, английский и немецкий.
[Закрыть] в среду нанес Тимо и Ээве короткий визит, но я в этот день был в Вильянди, так что с ним не встретился.
Сегодня еще до обеда Латробы прибыли сюда окончательно. Сам monsieur, его жена Альвине и их двухлетний малыш. И о них или по крайней мере о самом господине Латробе я должен сказать несколько слов, особенно если иметь в виду, что последует за их прибытием.
Господин этот родился в один год с Буонапартом, значит, ему пятьдесят восемь лет, но, несмотря на его годы, про него и сейчас можно, как здесь принято, сказать: eine stattliche Figur[38]38
Представительный господин (нем.).
[Закрыть]. По происхождению он будто бы француз из рода лангедокских графов Бонневалей. Но в Лифляндии его считают англичанином, хотя тридцать лет тому назад он приехал сюда из Германии. Его предку, протестанту, видимо, пришлось бежать из Франции в Англию. Отец его стал в Англии суперинтендентом гернгутерских братских общин. А юношу Джона отправили в Германию, на родину братьев, в их знаменитые школы в Ниски и Барби.
Из-за какого-то конфликта он оттуда ушел и даже совсем порвал с этими братскими общинами, а чтобы зарабатывать хлеб насущный, стал изучать медицину в Иенском университете. По слухам, в Иене он вращался в обществе всевозможных Гуфеландов[39]39
Гуфеланд Кристоф Вильгельм (1762–1836) – профессор Иенского университета, врач, лечивший Гёте, Шиллера и др.
[Закрыть] и прочих выдающихся личностей, и якобы сам Гёте был о нем высокого мнения. Однако… я замечаю, сколь предвзято отношение к людям, включая и мое собственное. Так вошедший в историю факт, что Гёте в свое время посвятил нашему Тимо стихотворение, о чем я упоминал здесь, но не рассказал, при каких обстоятельствах это произошло, – просто сам факт и в моих глазах придает Тимо вес. Наверно, несмотря ни на что, подспудно мне все же хотелось бы, чтобы муж моей сестры обладал возможно большим авторитетом. И я думал: как бы там ни было, но кому попало Гёте не стал бы посвящать стихотворение… А сейчас, вспоминая, будто бы Гёте хорошо отозвался о господине Латробе, мне захотелось написать; однако не каждый, о ком Гёте (да еще по слухам) якобы одобрительно отозвался, от этого сразу стал человеком особой породы… Итак, в Иене господин Латроб, чтобы заработать на хлеб, стал давать уроки английского языка. Среди других одному жаждущему знаний тартускому юноше. И это определило судьбу Латроба. Когда он закончил университетский курс, у него не оказалось денег для promotio[40]40
В данном случае – испытание для получения диплома врача.
[Закрыть]. И юноша, а это был Лерберг, вскоре ставший домашним учителем Тимо, посоветовал ему поехать на какое-то время в качестве гофмейстера в Лифляндию и накопить необходимую сумму. Господин Латроб приехал… и остался. Заниматься врачебной практикой разрешения у него не было. Он служил гофмейстером у Сиверса в Хеймтали и у Лилиенфельда в Вана-Пыльтсамаа. Офицером земского войска, вильяндиским нотариусом, пыльтсамааским приходским судьей и, кроме того, был арендатором нескольких мыз. Со временем он даже научился довольно прилично объясняться, правда, все же на ломаном эстонском языке. Ибо все, за что он берется, он делает тщательно и, в общем, успешно. Но только – в общем, потому что прежде всего он композитор. И к тому же еще, как когда-то, я помню, сказал Тимо, – человек славный, общительный, крутой и слабый, по образу мыслей – аристократ, в душе – цинцепдорфианец[41]41
Граф Цинцендорф – основатель религиозных общин.
[Закрыть], по убеждениям – Weltbürger[42]42
Гражданин мира (нем.).
[Закрыть] с судьбой провинциала…
Жениться господин Латроб удосужился всего несколько лет тому назад. После долгой холостяцкой жизни он посватался к Альвине – дочери Софи фон Штакельберг, которая в молодости была его симпатией. Альвине – стройная женщина, у нее прозрачные зеленоватые глаза и пепельные волосы. Она лет на тридцать моложе своего мужа, и иногда кажется, что движением плеч и взглядом она дает понять: хоть мой муж и англичанин или кто он там ни на есть и хоть он в теперешней Лифляндии самый складный компонист – но для geborene von Stackelberg он годится быть мужем только в глазах господа, но, увы, не в глазах общества – однако я превозмогаю это несоответствие в силу покорности воле божьей, внушенной мне как прихожанке братской общины…
Господин Латроб с супругой явился сегодня в Кивиялг к вечернему кофе. Можно думать, что и на прошлой неделе он вошел в дом с теми же словами, что и сегодня. Он сказал:
– Мои милые… Мне крайне неловко, но…
Тимо прервал его, как, очевидно, и в прошлый раз:
– Дорогой господин Латроб, кто-то ведь должен арендовать Выйсику. Если так повелел император. А то обстоятельство, что вы взяли это на себя, и мне, и моей жене, и наверняка и моему шурину даже желательно. Не правда ли? – Тимо посмотрел на нас с Ээвой.
– Это несомненно самое лучшее решение, – искренне сказала Ээва (в то время как я кивнул), и Тимо продолжал:
– Петер Майтейфель сказал нам, возможно, вы останетесь здесь временно. Что в дальнейшем, как мы поняли, вместо вас будет он. Видите ли, поскольку я безумен, мне дозволяется говорить правду. Петер нравился бы мне на этом месте гораздо меньше… – Тимо вдруг улыбнулся с облегчением и по-детски, – хотя бы уже потому, что он умеет только дуть в охотничий рожок, а вы так прекрасно играете на фортепиано. А вы не хотели бы присесть и выпить с нами чашку кофе, а потом помузицировать?
– Что вам было бы угодно? – спросил господин Латроб неожиданно пылко.
– Мне хотелось бы этот ваш старый органный менуэт. Я помню его с семнадцатого года. Органа у нас здесь нет, но вы, наверно, на память знаете его переложение для фортепиано.