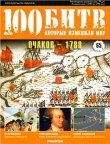Текст книги "Императорский безумец"
Автор книги: Яан Кросс
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 30 страниц)
– Ламинг, уйдите! – сказала Ээва металлическим голосом. – Господин фон Бок сегодня скверно себя чувствует.
Бормоча извинения, Ламинг вышел из комнаты, и Тимо смотрел ему вслед совсем пустыми глазами. Мне показалось, что его скулы при общей все еще сероватой бледности лица покраснели от какого-то внутреннего напряжения. Во всяком случае на лбу у него блестели мелкие капли пота. Ээва вынула из внутреннего кармана его зеленого сюртука белый носовой платок. Тимо зажмурил глаза, и она вытерла ему лоб. Я сказал:
– Я тоже пойду. Спокойной ночи.
Ээва отозвалась:
– Да, наверное, так будет лучше. Спокойной ночи.
Тимо не произнес ни слова.
Понедельник, 6 июня
Так я и не знаю, что думать по поводу позавчерашней истории. Ээва вместе с маленьким Юриком, слугой Кэспером и горничной Лийзо вчера уехала. Мне не представился случай спросить у нее, часто ли с Тимо происходит такое и что она сама об этом думает. Но чем точнее я восстанавливаю в памяти сцену с Ламингом, тем более определенно могу сказать, что так же не уверен в безумии Тимо, как и в его разуме.
Вообще, когда я перелистываю исписанные мною страницы, я понимаю, что вместо вчерашних и завтрашних дел мне следует написать о некоторых давних событиях. Без знания которых непосвященному взгляду со стороны все, что происходит сегодня и произойдет завтра, представляется еще более запутанным, чем мне самому.
Итак, всю осень и начало зимы 1817 года мы прожили втроем в Выйсику или, правильнее будет сказать, в Выйсику и Тарту. Ибо Ээва и Тимо несколько раз за это время ездили в Тарту и оставались там иногда на несколько недель. Случалось, что раза два и я ездил вместе с ними.
Кстати сказать, из моего намерения предложить себя в качестве управляющего выйсикуским имением ничего не вышло. Когда я сказал об этом Тимо, он смеясь ответил, что уже давно замечает, как Кларфельд нас мало-помалу обирает. Однако в Библии же сказано: не заграждай рта волу, когда он молотит. А вообще Кларфельд человек умелый. Я же понадоблюсь Тимо совсем для другого. Он сказал:
– Я увидел, что с помощью Мазинга ты выработал на удивление красивый и четкий почерк. Должно быть, в какой-то мере это зависит и от характера. А кроме того, ты ведь несколько лет учился по моим школьным тетрадям. Так что без запинки читаешь мои каракули, и поэтому более подходящего человека для переписки моих рукописей мне не найти.
Я спросил:
– Что это за рукописи?
Он немного походил взад и вперед. Помню, что происходило это в том самом кабинете, где он позавчера разговаривал с покойным императором. А в то время Тимо только что отказался от чести быть флигель-адъютантом при тогда еще здравствующем монархе. За большими окнами сильно мело, он переходил от одного окна к другому – от одной метели к другой – останавливался у столика для рисования (был он тогда необычайно строен и хорош собою) и пальцем подталкивал глобус, который начинал вращаться. И помню, как я подумал: он, наверно, воображает, что и мир можно перевернуть по собственному усмотрению…
Тимо сказал:
– Ну, например, история жизни моего учителя Лерберга, посмертно, он в какой-то мере и твой учитель. Когда этот труд у меня созреет, я хочу попросить, чтобы ты мне его переписал. Во-первых, мне самому он станет яснее, я сам его лучше увижу. Во-вторых, я это замечал: недостатки в тексте, написанном чужой рукой, я вижу скорее, чем обнаруживаю их в написанном мною самим.
Итак, господин фон Бок, полковник в отставке, перекочевал из militaria в literaria[11]11
От военных дел к литературным (лат.).
[Закрыть]. А из меня намеревался сделать для себя писаря. Но этому его плану еще в меньшей степени суждено было сбыться, чем моему – стать управляющим Выйсику.
В Тарту мы останавливались на Университетской улице, в доме, некогда принадлежавшем отцу Тимо. Не знаю, чьей собственностью был этот дом десять лет назад, очевидно, каких-то их родственников из лифляндских дворян, купивших дом после банкротства и смерти старого господина Георга и любезно предоставлявших нам во время наших приездов четыре-пять комнат на втором этаже. Тимо ходил в университет – новое, напоминающее храм здание – слушать лекции профессора Эверса и с таким усердием их записывал, что за ползимы исписал несколько десятков синих тетрадей. Их я тоже просматривал. То был курс истории средних веков. И мне бросалось в глаза: Эверс очень много говорил о рыцарственности как об идеале эпохи, и Тимо в своих записях тщательно все это подчеркивал. У меня это вызывало усмешку. Тем более что из уст самого Тимо я однажды слышал совсем иное.
По вечерам друзья Тимо собирались иногда в доме на Университетской улице, а иногда и где-нибудь в другом месте. Большей частью это были молодые люди из дворянских или литературных кругов, но случалось, что среди них оказывались и господа постарше, университетские профессора с супругами. Кстати, должен заметить, что все это были люди, которые – во всяком случае – не морщили носа по поводу Ээвы и не делали вида, что они лучше, чем она. Мне казалось, что даже напротив – они старались быть с нею особенно учтивыми, и порой это принимало смешную форму. Например, когда они при появлении Ээвы прерывали разговор на французском языке и обращались к ней на весьма ломаном эстонском. Однажды с едва заметной улыбкой она сказала им: «Mesdames et Messieurs, continuez done en français, pour moi e'est moins difficile que pour vous l'estonien»[12]12
Господа, продолжайте говорить по-французски, мне это менее трудно, чем вам говорить по-эстонски (франц.).
[Закрыть].
Тут одни от удивления забыли даже рот закрыть: «Выходит, красивая коровница, за которую посватался этот помешанный Бок, в самом деле получила образование, кое-кто ведь говорил…», а другие сразу почувствовали себя свободнее, их это заинтересовало. Однако их любопытство по отношению к Ээве оставалось в пределах, приличествующих образованным людям. Хотя, должен сказать, иногда и они становились смешными. Особенно когда видели, что Ээва не единственный курьез, а что рядом с нею в их обществе оказывалась в моем лице еще одна деревенщина, говорившая по-французски. Помню, как некий средних лет господин с раскрасневшимся лицом и вытаращенными глазами, после того как обменялся с нами пятью фразами и это дошло до его сознания, воскликнул:
– Я допускаю, что в любой невежественной толпе может найтись сотворенное господом исключение. Так что же, значит, встретив то, что мы здесь видим, нам следует прийти к заключению: имей наши чухонцы соответствующие условия, они все умели бы говорить по-французски и были бы вольтерьянцами?! Est – се qu'il nous faut conclure?![13]13
Следует ли нам делать такой вывод? (франц.)
[Закрыть]
На что профессор Паррот, это я точно помню, взглянул на нас с Ээвой и со смущенной улыбкой сказал:
– Oui, mon cher Bruininck, c'est оа qu'il faut conclure![14]14
Да, дорогой господин Брюининк, нам следует сделать этот вывод! (франц.)
[Закрыть]
И еще как сквозь сон помню на этих вечерах профессора Эверса и господина Латроба с его развевающейся гривой, он импровизировал то на фортепиано, то на фисгармонии, то на клавесине (его я и раньше встречал в Выйсику, он был в сущности из наших мест и при всех своих музыкальных увлечениях самым неожиданным образом оказался судьей нашего пыльтсамааского прихода). И еще, разумеется, помню профессора Мойера и его красавицу жену.
Дом Мойеров почему-то особенно хорошо сохранился в моей памяти – на углу Карловской дороги и какого-то переулка, идущего к реке, – небольшой деревянный дом, желтоватый, оштукатуренный, под заснеженной черепичной крышей, он стоял среди сугробов. Собственно уже за городом. Внизу было шесть или семь просторных комнат, но с низкими потолками, и еще несколько наверху, в мансарде. Помню, двери были настолько низенькие, что, когда Тимо проходил через них, его волосы цвета оленьей шерсти касались верхней притолоки. В комнатах вокруг хозяина с цветущим лицом и его сибиллоподобной супруги толпились всевозможные люди. Теперь мне кажется даже удивительным, что там нашелся кто-то, шепнувший мне на ухо (ясно помню, как ни глупо держать в памяти подобные разговоры): «Поглядите, хозяйка идет под руку с супругом, а в другой руке у нее книжечка. Видите? А знаете, что это? Разумеется, стихи Жуковского! Сей поэт уже много лет в нее по уши verkracht….»[15]15
Влюблен (нем.).
[Закрыть]
Фамилию Жуковского мне и прежде случалось слышать, и я видел, что среди наших книг были и поэтические томики Жуковского, со священным чувством братства преподнесенные в дар Тимо. Так или иначе, но мне казалось, что это не какой-нибудь из тех третьестепенных стихоплетов, коих бродит по свету куда больше, чем может предположить человек несведущий, а серьезно признанный поэт (в той мере, в коей подобное признанье допустимо принимать всерьез). Во всяком случае там я слышал, что в позапрошлом году Жуковский был даже избран почетным доктором Тартуского университета. А что касается его должности, то он будто бы назначен обучать русскому языку невесту великого князя Николая Павловича. Помню, его однажды понапрасну ждали у Мойеров. Вообще-то он у них в доме не раз бывал и даже порой живал там наверху, под черепичной крышей. И, как я понял, дружба у них с Тимо именно под кровом этого дома и возникла.
Один вечер мне особенно врезался в память. В доме шла обычная светская жизнь. В комнатах, выходивших окнами на улицу, расположились дамы в светлых по тогдашней моде платьях, волосы у них были зачесаны кверху, на висках локоны, они лакомились доставленными из кондитерской пралине[16]16
Пралине – шоколадные конфеты.
[Закрыть], болтая при этом про месмеризм и про оперу, написанную на сюжет «Ундины» Фуке, которая будто бы в прошлом сезоне была поставлена в Германии на сцене. (Видели и слышали эту оперу из присутствовавших дам наверняка только немногие, но «Ундину» они, разумеется, читали.)
Мужчины расположились в комнатах, которые окнами выходили на реку, густой дым от сигар и трубок тянулся через отворенные форточки в засыпанный снегом яблоневый сад. Стаканы с жженкой мужчины держали на курительных столиках, или в руке, или прямо на полу. Время от времени кто-нибудь из них вставал и шел в переднюю, размером с небольшой зал, где, зачерпнув серебряным черпаком из стеклянной чаши, наливал себе добавку. Но если голоса споривших в какие-то минуты начинали модулировать, то виновата тут была не жженка, а волнующая тема. Кстати, что касается жженки, или иначе пунша, то этот английский напиток с позапрошлого года, вместе с другими английскими фокусами, стал входить в моду и у нас, после того как наши лифляндские офицеры вслед за разгромом Буонапарта и взятием Парижа праздновали там совместно с англичанами победу и вообще больше с ними соприкасались.
Темы, в связи с которыми голоса в доме Мойеров время от времени становились громкими, касались крестьянского вопроса в Лифляндии. Таких людей, которые считали бы крестьянскую реформу вообще ненужной, в мойеровском обществе не бывало. Однако и среди сторонников реформы мнения расходились, и картина получалась чертовски пестрая. Что же до средневековых рыцарских идеалов Эверса, так именно там я и слышал, что по этому поводу говорил Тимо самому Эверсу и еще некоторым другим господам.
– Chevalerie[17]17
Рыцарство (франц.).
[Закрыть] несомненно являет собой высшее духовное достижение средних веков. И нашему прибалтийскому дворянству совершенно не за что краснеть. Именно оно в весьма чистом виде представляло этот дух еще долго после того, как в остальной Европе он был вытеснен иными идеалами…
Хорошо помню, что я тогда почувствовал, слушая его: Тимо, человек, принадлежащий к высшему дворянству, не может говорить иначе, а мне это чуждо, в его словах есть что-то до мозга костей ложное… А Тимо между тем продолжал:
– Однако, господа, взглянем однажды правде в глаза: это наше блестящее chevalerie было и остается обращенным только вовнутрь! Оно – лишь для самого себя или для достойных быть равными! А по отношению к стоящим ниже нас мы совершали и продолжаем совершать самые чудовищные мерзости:
Помню, я почувствовал, как пружина протеста во мне, которая от его слов все больше натягивалась, тут выскочила из пазов, и у меня подкосились ноги, мне стало страшно за Ээву, за себя, за него самого… И помню еще, что в эту самую минуту Ээва вошла к нам, на мужскую половину, и все разом замолчали, а я старался подавить в себе желание прыснуть, видя с каким рвением эти господа тщились доказать, что их не следует причислять к тем мерзавцам… Ээве случилось обратиться с какой-то пустой вежливой фразой, не больше, к тому самому Брюининку, о котором я упоминал… Нужно было видеть, как господин вскочил вместе с остальными, и второпях, не найдя пепельницы, этот болван выбросил свою сигару через форточку в снег, лишь бы не показаться невежей, который, разговаривая с дамой, позволяет себе курить. Другие стали размахивать руками, чтобы развеять дым. Ээве сразу предложили три кресла, и семь человек стали говорить ей галантности. Но Тимо не дал себя прервать. (Эта роковая черта была ему всегда присуща.) Он отделился от стоявших мужчин, подошел к Ээве сзади, положил ей на плечи руки и повернул лицом к остальным:
– …До сегодняшнего дня! Самые гнусные мерзости! Христианское учение – это ведь единственное, чем мы могли до сих пор оправдывать наше пребывание в этой стране. Как те или потомки тех, кто это учение сюда принес. Слабое оправдание, несомненно. Ибо мы знаем, что христианство и без наших предков здесь бы распространилось. Однако лучших доводов у нас нет. И тем более приходится задаться вопросом, а что мы сделали здесь с Христом? Те-из нас, у кого нервы послабее, проводят часы в моленьях и стараются смыть с себя грехи потоками слез, а la госпожа Крюденер[18]18
Крюденер Барбара Юлианна (1764–1824) – прибалтийская писательница. Была связана с религиозными общинами. Пользуясь благосклонностью Александра I, оказывала на него влияние, в частности при создании Священного союза.
[Закрыть]. Допустим, на ее душе особые, личные грехи. А остальные святоши среди нашего дворянства – а их день ото дня становится все больше, – бремя каких грехов лежит на них? А я вам скажу: еще не совсем отчетливо, еще не достаточно осознанно, скорее безотчетно, они чувствуют вину всего здешнего образованного сословия, и прежде всего – нашего немецкого дворянства. Ибо все мы здесь in corpore[19]19
В полном составе (лат.).
[Закрыть]каждый день, каждый час, каждую минуту повергаем лик Христа в грязь. Я имею в виду все то, что мы делаем с нашими крестьянами, и то, что сказал Христос: «…так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне». Взгляните на мою жену. Пракситель мог бы изваять с нее свою Афродиту! И – кхм – (я заметил, невольно отдавая ему должное, что Тимо не преминул сдобрить свою проповедь подслащенным уксусом иронии!) – и Канта Китти читала не меньше, чем остальные наши дамы. Но, как вам известно, я выкупил ее несколько лет тому назад. Согласно действующим здесь законам. Заплатил за нее стоимость четырех английских охотничьих собак. Господа, разве я не прав, делая вывод: если слова Евангелия не пустая болтовня, значит, в этой стране цена Христу равна цене тех же четырех охотничьих псов, а если Христос стар, немощен, изранен, то он не стоит и одного! Господа, разве я поступлю неправильно, если задам вопрос: чего же стоит тогда все наше христианство и все наше chevalerie? Не должно ли нам, в сущности, раздеться донага, надеть на себя крестьянские отрепья и отправиться… не знаю уж – на болотные острова, в земляные хижины, – чтобы подумать о чести и о Боге?
Я видел, что Ээве было неприятно все это слушать. Она стояла, потупив глаза, на лице ее была смущенная снисходительная улыбка. И в то же время она с удивительной грацией затылком, шеей, плечом прильнула к Тимо, потом обернула к нему лицо, восхищенно и умиротворяюще посмотрела на него снизу вверх и, как только он умолк, тихо сказала:
– Тимо, в этом ведь твои друзья не виноваты…
Тогда Тимо, как и раньше, за плечи повернул жену лицом к себе и поверх ее головы с присущей ему беспощадностью и последовательностью сказал:
– Непосредственно нет. Но я не был бы другом моим друзьям, если бы не напомнил им, что косвенно это наша общая вина. А теперь это уже и твоя вина.
И тут я был поражен, как изящно сумела Ээва выйти из положения. Она держала Тимо за руку. Она сказала с почти счастливой улыбкой:
– На сегодня ты свой долг выполнил. – И обратилась к присутствующим – Господа, monsieur Латроб хочет исполнить для нас свою новую композицию, но вы ведь знаете, что он не позволит себе помешать вам и прийти самому, чтобы пригласить вас послушать.
И мы все отправились в залу слушать господина Латроба. Может быть, не Тимо, но остальные господа, видимо, были даже благодарны, что критическая тема повисла в воздухе. Как уже долгие годы она повисала в подобных покоях.
Когда мы по сугробам ехали обратно в Выйсику, у меня было достаточно времени подумать над словами Тимо. Тем нескольким десяткам крестьян, которые достались ему после смерти старого господина Бока, он тут же дал вольную. Сразу, когда в тринадцатом году между большими битвами приезжал домой, чтобы уладить дела с наследством. Но по поводу освобождения крестьян у Тимо, как я начал понимать, были опять-таки свои особые взгляды. По его мнению, никакого освобождения со стороны императора последовать не должно. Ибо, окажись император освободителем, то, как полагал Тимо, нравственно это окончательно оторвало бы крестьян от господ. (Наивное представление, будто расселина между господами и крестьянами могла бы стать еще шире, чем она была!) Поэтому императору, как считал Тимо, больше следует думать о том, как ему обходиться со своими крестьянами в России. Хотя бы подумать о том, как возмещать ораниенбаумским крестьянам урон, наносимый ежегодными маневрами, в ходе которых вытаптываются посевы. Тимо был уверен, что освободить лифляндских крестьян должны сами лифляндские помещики. И не только это. Неизменной добротой и непоколебимой справедливостью господам следует привлечь их к себе (что, по моему мнению, совершенно невозможно), привлечь для достижения неких общих целей (только я до сих пор не знаю, каких именно). Я подумал: может, все бароны должны слегка свихнуться и начать свататься к крестьянским девушкам, а всем баронским барышням повыходить замуж за деревенских парней, ибо какие же еще общие цели могли бы быть у них?!
Понедельник, 6 июня 1827, ночью
Мысль об отъезде Тимо за границу возникла у меня позавчера не совсем без основания.
Сегодня после обеда я написал, что всю осень и начало зимы 1817 года мы прожили втроем в Выйсику или, вернее сказать, в Выйсику и Тарту. Так это и было. Все же с одним исключением. Через две недели после возвращения в Выйсику мы предприняли одно путешествие. Предыстории его я до сих пор почти не знаю. Но все, что позже произошло с Тимо и со всеми нами и по сей день происходит, можно, в известном отношении назвать эпилогом той поездки.
Одним октябрьским утром 1817 года Тимо сказал в присутствии доктора Робста, сидевшего с нами за столом, и чем-то занятого тут же слуги Кэспера:
– Друзья мои, мы втроем – Китти, я и Якоб – едем сегодня в Ригу. Мы хотим навестить моих родственников по материнской линии. Многочисленных Раутенфельдов. Их, правда, там много, но мы все же постараемся через неделю вернуться. Кучера и Кэспера не возьмем. Мы с Якобом справимся сами. Если Китти своим присутствием будет радовать наши сердца и взоры.
Я уже писал, что Тимо не терпел никаких проволочек. Через два часа наша маленькая карета с нами троими была на пути в Ригу. Любопытствующим, которые спрашивали нас по дороге, куда мы едем – на почтовых станциях большого тракта такие ведь всегда слоняются, – Тимо отвечал: в Ригу. Навестить родственников.
Мы с Тимо по очереди сидели на облучке. Когда же начался октябрьский дождь, мы опустили переднее окно, втянули вожжи поверх облучка в карету и правили изнутри. Помню, мы были уже где-то между Ренценом и Вольмаром. На полосатые от дождя стекла налипли желтые листья. Спины у лошадей намокли до черноты, а ноги до колен были темно-красные от глины тех мест. Под барабанящий дождь Ээва предложила нам по чашке горячего кофе из кофейника, хранившегося в грелке. И Тимо, одной рукой держа чашку, а другой – вожжи, сказал:
– Друзья мои, да будет вам известно, мы едем не в Ригу, а дальше. В Риге мы даже не остановимся. Может быть, только на обратном пути. Сейчас мы едем в Митаву, которую латыши называют Елгавой. В столицу Курляндии.
Ээва спросила: «А к кому?»
– К графу Петру Палену, – сказал Тимо. – Он был другом моего отца. Я хочу с ним посоветоваться. По поводу весьма для всех нас существенных дел. А знаете, кто он, этот граф Пален? То есть кем он был? Петербургским военным губернатором во времена императора Павла. Членом Высшего государственного совета. По сути – распорядителем всей внешней политики империи. А если упомянуть еще и ту сферу, которой сам помешанный Павел придавал высшее значение, Пален был канцлер русского приорства Мальтийского ордена. Стало быть, по линии ордена – второй после царя человек. И что особенно важно: единственный, кто при полоумном Павле осмеливался принимать в России какие бы то ни было решения. Включая и самые ответственные. Это он убедил Александра согласиться, что его умалишенного отца нужно лишить трона. Именно он! В ту пору, когда все молчали. Или раболепствовали и стонали. Пока Александр не прошептал ему: «…Согласен!» В план Палена не входило убийство Павла. Павла следовало заключить под стражу (почему же нельзя заключить под стражу императора, если он действует недостойно?), но в его распоряжение нужно предоставить апартаменты в Михайловском дворце, манеж, театр и роту солдат для его опереточных парадов… Ну, а чем все кончилось, вы знаете. Потому что Павел не пожелал отказаться от престола и поднял крик. Пален при убийстве не присутствовал, в убийстве не участвовал. Может быть, он предвидел такую возможность. Но в такой же мере эту возможность мог предвидеть и Александр. Тем не менее позже, когда все было кончено, на троне сидел Александр и Россия, облегченно вздохнув, ликовала, тот же Александр сослал Палена в Митаву. И вот уже шестнадцать лет как он там. И можно сказать, что после падения Палена опытному глазу впервые стало очевидно, что для Александра честь – понятие двоякое.
На следующий вечер, когда уже смеркалось, мы въезжали в Митаву. Мне запомнились оштукатуренные дома, редкие освещенные окна. И длинный мост через чернеющую реку Лиелупе. И езда по боковым улицам с низкими каменными домишками. Пока мы не свернули в какой-то парк. Тимо сам правил, и дорога, видимо, была ему знакома. Мы остановились, Тимо привязал вожжи к дереву. Мы брели по грудам мокрых каштановых листьев, потом вошли в невысокий дом, напоминающий мызу на окраине города. Старый слуга попросил нас обождать и через некоторое время провел внутрь.
Граф Пален сидел в своем кабинете за изящным письменным столиком в стиле рококо, горели четыре больших восковых свечи. Когда он увидел, что среди вошедших дама, он вскочил, прихрамывая, и для своего возраста чуточку смешно, быстро пошел нам навстречу. Помню, что на нем был старомодный, но явно с иголочки новый придворный кафтан, штаны ниже колен и белые чулки, левая нога была значительно толще правой.
Казалось, наше появление не было для него неожиданным и явно не было ему неприятно. Тимо представил Ээву и меня. Старик поцеловал Ээве руку, обнял Тимо с легкой снисходительностью большого барина и мимоходом подал мне прохладную, очень гладкую руку в коричневых пятнышках. Потом он театрально на шаг отступил, осмотрел Ээву от волос до подола платья и произнес надтреснутым фальцетом: «Madame, ich muß gestehen: selten sind Gerüchte so absolut begründet wie das Gerücht über Ihren außerordentlichen Zauber!»[20]20
Сударыня, должен признаться, редко слухи бывают столь абсолютно обоснованы, как слух о вашей необыкновенной пленительности (нем).
[Закрыть]
По его знаку мы все сели у горящего камина. Старик велел принести померанцы, орехи и вино. И за весь пятнадцатиминутный разговор о том о сем, во время которого Ээва произнесла несколько фраз в ответ на вопросы Палена, я, кажется, вообще не сказал ни слова, лишь усердно рассматривал этот былой столп империи.
Хорошо помню свое впечатление: мне показалось, что в этом старике было два человека. Один, внешне еще не совсем старый, напоминал сильно потертую куклу Жака Дро[21]21
Французский мастер Жак Дро, прославившийся в XVIII веке своими механическими куклами-автоматами.
[Закрыть], хитрую голову венчал манерно напудренный парик. Другой внутри, меньший, еще довольно крепкий, смотрел из глазниц внешнего, будто сквозь картонные доспехи, удивительно живым взглядом, и были в этом взгляде как бы от всезнания его обладателя и некоторое высокомерие, и грусть.
Вдруг, обращаясь к Тимо, Пален спросил:
– Mais voilá – quels sont tes problèmes?[22]22
Итак, какие у тебя проблемы? (франц.)
[Закрыть]
Они перешли на французский. Очевидно, граф полагал, что мы с Ээвой (или, по крайней мере, я) тем самым выключены из разговора. А Тимо, очевидно, не считал нужным повести разговор с ним с глазу на глаз. Ээвино присутствие он, возможно, считал нормальным или даже необходимым. Не только из-за содержания этого разговора, но, думаю, и из-за тщания Тимо доказать и себе и другим полноценность своей жены. Очевидно, в какой-то мере он перенес это и на ее брата, потому что допустил и мое присутствие. Ну, не знаю. Во всяком случае мое любопытство в соединении, как бы сказать, с моей неловкостью, что ли, наверно и с застенчивостью, помешали мне встать и спросить: «Господа, может быть, мое присутствие здесь неуместно?» Так что я слышал весь разговор.
Тимо в присущей ему манере начал без вступления:
– Граф, мне нужен ваш отеческий совет. И ваша оценка моего более или менее созревшего решения. Я окончательно разочаровался в императоре Александре. Мне жаль, что это произошло столь поздно. Я не буду оправдывать свою наивность перечислением мотивов. И еще того меньше мне требуется обосновывать перед вами мое разочарование. Так или иначе, но теперь я окончательно убежден, что в отечестве я уже не могу делать ничего достойного. Ибо любая субъективная честь тонет здесь в объективном бесчестии. И поэтому я пришел к выводу, что мне лучше предпочесть эмиграцию. Мне следует уехать из России. Мне хотелось бы, чтобы вы одобрили мое решение.
Пален не слишком долго молчал и не слишком быстро ответил. Он играл носовым платком белого шелка и произнес тихо, чуть хрипло и, мне показалось, с легкой иронией, относящейся не к молодости Тимо, а к повторяемости всего в мире.
– Timothée, ты ведь можешь поверить, что мне все это знакомо. Я еще понял бы, находись ты примерно в моем положении. Тебе известно, что император повелел мне не покидать границ Курляндии. Но ты не знаешь, что годами за мною всяческими способами шпионили… за моими гостями, за разговорами, за письмами… Это меня настолько угнетало, что я перестал принимать это к сведению. Так что сейчас я уже не знаю, продолжается это или прекратилось…
(Добавлю от себя: можно сделать вывод, что в то время, когда мы у него были, тайный надзор за ним не велся. Однако императору все же стало известно, что Тимо ездил к Палену. Ибо в прошлом году после смерти Палена гражданский губернатор Будберг говорил своим знакомым – и это дошло до нас, – что вместе с приказом об аресте Тимо император приказал установить тайный надзор за Паленом… то есть, в сущности, возобновить…)
Пален продолжал:
– И все же я не бежал за границу. Практически это было бы легко осуществить. Причиной, я сказал бы, была скорее моя непредприимчивость. Беспомощность, если хочешь… – Он улыбнулся с чудаковатой стариковской кокетливостью. – А может быть, и привязанность вот к этим моим померанцам, которые здесь под стеклом с трудом у меня вызревают. Ты небось и сам чувствуешь, какие они терпкие. Языком и нёбом, даже подушечками пальцев. Насколько мне известно, это одни из самых северных померанцев во всей Европе… – Он вытер шелковым платком померанцевый сок с пальцев и сказал со странной снисходительностью, за которой прозвучала категоричность привыкшего решать барина – А подобный тебе свободный человек всегда найдет – должен найти – умное себе применение хотя бы в писании мемуаров. Я себе этого позволить не мог бы. Мне пришлось бы так далеко прятать рукопись, что я и сам бы ее не нашел. А что препятствует тебе? Вообще – на чужбину уходит лишь тот, кто хочет отомстить за себя. А тот, кто хочет чего-то большего, тот остается дома.
После этого Пален опять перешел на немецкий и заговорил на обычные темы. Вскоре нас пригласили к ужину, кстати сказать, не столь скромному, как у нас в Выйсику, но против ожидания весьма умеренному. Ночью мы спали в каких-то мансардных комнатах для гостей под пуховыми одеялами, – по-немецки легкими, но которые от сырости стали по-лифляндски тяжелыми. На рассвете мы уже ехали по направлению к Риге.
В Риге мы провели один-единственный день и побывали с визитом у каких-то старых дев Раутенфельд, довольно любезных старух, приходившихся Тимо тетушками и скорее похожих на бюргерш, чем на дворянок. Тимо просил нас о нашей митавской поездке не говорить ни тетушкам, ни дома, куда мы прибыли через два или три дня.
И поскольку Тимо и Ээва остались на родине и Тимо никогда больше вплоть до того, как его увезли, не возвращался к мысли об отъезде за границу, я и написал вначале, что все последовавшее явилось результатом этой поездки. Ибо высказанное тогда Паленом мнение оказалось, очевидно, самым важным аргументом для того, чтобы Тимо остался.
Вторник, 7 июня, поздним вечером
Я должен здесь это высказать: не понимаю, то ли Риетта невероятно испорченная молоденькая потаскушка, то ли роковым образом влюбленное в меня несчастное дитя.
Сегодня в пять часов она пришла ко мне, своему репетитору. Погода с утра стояла облачная, и весь день порывами шел дождь, что в июне случается редко. Но ей удалось прийти сухой. Только на рукавчиках-буфах были мокрые пятна от капель, упавших с дерева, и подбивка на подоле ее юбки намокла в траве. Когда мы уселись на плетеном диванчике у стола, она приподняла подол над черными башмачками со шнуровкой на пядь выше тонких щиколоток, чтобы просушить его.
Мы покупали и продавали пшеницу, заполняли и опорожняли точно выкопанные прямоугольные пруды и давали в рост под проценты деньги. Мы едва успели коснуться Петра Великого и Меншикова. Было уже семь часов, и Риетте полагалось уйти. Но пошел проливной дождь. От барского дома до Кивиялга нужно было пробежать все же порядочное расстояние, а на ней было тонкое репсовое платье. Я снял с вешалки свой легкий брезентовый плащ и набросил ей на плечи:
– В субботу принесете.
Я спустился с Риеттой по лестнице и вслед за ней подошел к двери, выходившей в яблоневый сад. Мне показалось, что дождь все еще слишком сильный. Кроме того, мой старый дорожный плащ доходил ей только до середины юбки. Мы остановились на пороге. От дождя шумели все сто двадцать яблонь, их светлеющие кроны на темном небе были яркими, будто лампы. Даже дождевые капли, падавшие мне на лицо, казалось, пахли яблоневым цветом. Я взял Риетту за локоть и потянул ее обратно в укрытие. В сущности, для всего, что затем последовало, было две причины. Первая, что в десяти дюймах от двери, вместо благоухавших снаружи яблонь, от мокрого лица Риетты исходил запах сиреневых духов. И вторая, что она не отстранилась, когда я привлек ее к себе. То есть отстранилась, но лишь в той мере, чтобы все же позволить мне это сделать. И от сиреневого запаха, и от некоторой ее уступчивости родилось мое решение: попробовать, как далеко она позволит мне зайти.