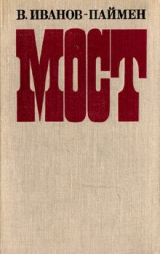
Текст книги "Мост"
Автор книги: Влас Иванов-Паймен
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 32 страниц)
Царя свергли. Мурзабай растерялся. Его удивляло, что почти все друзья и знакомые из Кузьминовки были довольны крушением монархии. Неожиданно для себя он оказался за одно с людьми, которых сам не уважал: это – Хаяр-Магар в Чулзирме и Кари Фальшин в Сухоречке. Даже лавочник Смоляков радовался, что царя не стало.
Основой жизни считал Петр Иванович веками сложившиеся дедовский порядок, законы и традиции. Примирившись со свержением царя, Мурзабай страшился последствий, поэтому не мог решить – как же относиться к новым порядкам. Посоветоваться было не с кем. Старинный знакомец Ятросов в Чулзирму давно не заглядывал. Белянкину, хитрому и скользкому человеку, открыть душу страшно – предаст. Соглашаться стать снова старшиной?! Но кому служить? В Питере безвластие. А он, Мурзабай, готов служить только твердому порядку, закону, а не беззаконию.
Мурзабая удручало, что он никак не может разобраться в этом брожении, понять и принять чью-либо сторону. Из газет ничего не почерпнешь, каждая партия свою ли-нию хвалит и отвергает все другие. Даже солдаты, возвращаясь с фронта, поют разные песни. Потому с таким нетерпением Мурзабай и ждал возвращения племянника Симуна. Судя по письмам, он вот-вот вернется.
Совершенно неожиданно объявился Назар. На нем погоны не какого-нибудь там зауряд-прапорщика, а настоящего офицера, поручика! Ростом Назар невысок, но как и отец – крепок. Любовался Мурзабай военной выправкой сына, его парадным мундиром и упрекал себя за прежнюю холодность. Ему хотелось поговорить с Назаром по душам, он пытался, но откровенной беседы не получается. Сын держит себя замкнуто, как чужой, с умным видом шагает по горнице из угла в угол и о чем-то размышляет.
– Да. Союзники недовольны, – вдруг однажды заговорил он. – Очень недовольны. Если выйдем из войны, покроем себя позором. Нет, никаких уступок. Война до победного конца!
Мурзабай не мог решить: сын собственные соображения высказывает или повторяет слова генерала, у которого состоит адъютантом.
– Говорят, что в армии дисциплина разваливается, – осторожно заметил отец. – Будто какие-то комитеты теперь там у вас… Похоже, солдаты но очень-то хотят воевать? Большевики, что ли, смуту сеют? Кто будет воевать, если не хотят солдаты?
– Ты, отец, живя в этой дыре, ничего не знаешь, – возмутился Назар. – Да, не понимаешь и понять не в состоянии. Наслушался бредней. У бравого генерала и офицеры и солдаты бравые. В нашей дивизии нет никаких комитетов. Разогнали мы их. Знай – Временное правительство – это сборище болтунов. Его тоже разогнать надо. России нужен военный диктатор. Есть у нас такой генерал: Корнилов…
Назар замолчал так же неожиданно, как и заговорил. Плотно сомкнул губы, посмотрел подозрительно, словно спохватившись, что сказал лишнее.
Упоминание о диктаторе заинтересовало Мурзабая, но расспрашивать о нем он не стал: его коробила самоуверенность Назара и даже некоторое высокомерие, которого не замечалось в нем раньше.
Мурзабай размышлял молча. Его раздирали сомнения: а какому генералу можно доверить власть в стране? Почему именно Корнилов, а, скажем, не Брусилов? И Мурзабай разглядывал портреты царских генералов, которыми он еще в начале войны украсил стены горницы. Брусилов в своем малиновом мундире занимал центральное место: Мурзабай купил портрет славного генерала после нашумевшего похода и наклеил его поверх оскандалившегося Сухомлинова. А вот никакого Корнилова нет на стене. Откуда он взялся? А если пойдет грызня между военачальниками? Опять же будет беспорядок. Посоветоваться бы с Назаром, да толку от него, видно, не будет.
Чуть пораньше Назара прибыл на побывку сын дьякона Федотова – прапорщик. Назар, как помнилось Мурзабаю, дружил с Леонидом, когда они учились в Кузьминовке, а затем в городе. Потом Назар поступил в юнкерское училище, а Леонид – в университет. Во время войны Леонид тоже был призван. Надо бы свести их вместе.
Мурзабай поехал в Заречье за молодым Федотовым. Назар выставил на стол две бутылки коньяку, которые он позаимствовал из запасов генерала. Самогон велел не подавать. Одну бутылку, кажется, он успел опорожнить в ожидании гостя.
Друзья не виделись много лет. Назар при появлении Леонида протянул ему руку, щелкнул каблуками.
Леонид заключил друга в объятия, чмокнул в щеку:
– Молодец! Вид у тебя молодцеватый! Ишь как в плечах раздался. Грудь колесом. Мальчишкой ты меня не одолевал, а теперь уложишь на обе лопатки! Эх, сколько воды-то утекло! На целое море хватило бы. Да что там вода… века, эпохи протекают перед глазами. В Россию пришла весна новой эры. Народ, как разбушевавшаяся река, все сметает на своем пути.
Мурзабай внимательно слушал и молчал:
«Весна новой, как он сказал… эры. Надо понимать, новой жизни, наверно. И зачем такие непонятные словечки? Своего такого слова нет, что ль, у русских? А у нас, у чувашей, есть: самана. То-то трудно перевести на русский! В России, значит, наступила весна новой саманы. Ну, таких песен мне еще слыхать не приходилось»…
– Почему без погон? – прервал Назар излияния друга.
– Почему без погон? – повторил машинально Леонид. – Ах да, этот мундир… Да я ведь насквозь штатский. Не люблю военную форму, так же, как и войну.
– Так-так! Понятно!
Мурзабай навострил уши. Не думал он, что друзья сразу заговорят о главном для него. Леонид почему-то упомянул о Брусилове, Назар принялся превозносить Корнилова.
– Но твой Корнилов оскандалился, сдавшись в плен австрийцам, – перебил Леонид Назара.
– Это вранье, клевета врагов! – возмутился Назар. – С ним оставалось всего семь солдат, когда австрийцы окружили штаб. А сам он был ранен, без сознания. А позднее он геройски бежал из плена. Почему ты об этом умалчиваешь?
Леонид пожал плечами.
«Не семь, а семь тысяч солдат было при нем, когда он сдался австрийцам. Брусилов собирался отдать его под суд», – пришло ему на ум, но он благоразумно промолчал. Стоит ли дразнить этого не совсем трезвого солдафона!
Но Назар сам по себе начал что-то выкрикивать о союзниках, о войне до победного конца.
Не хотелось Федотову начинать спор, но все же он не мог молчать дальше:
– Ни нашему, ни немецкому народу война не нужна. Народ устал. И в городе и в селе – разруха. Солдаты мечтают о мире. К войне до победного конца взывают лишь генералы, капиталисты и их приспешники.
– Ты, Леонид… рассуждаешь точ-в-точь как большевик. Уж не большевик ли ты? Прапорам нельзя верить. Что такое прапор? Ни солдат, ни офицер.
– Что верно, то верно, – усмехнулся Леонид. – До офицера я и вправду не дотянул… К сожалению, и до большевика не дорог.
– Твои большевики – немецкие шпионы, – выкрикнул Назар. – Берегись, Федотов! Хорошо, если погибнешь от пули! Как бы не пришлось висеть на фонаре! Скоро наступят дни военной диктатуры. Остерегайся, береги свою дурную голову, жалеючи тебя говорю. Дни большевиков сочтены.
– Не беда, если и пропадет моя голова, – все так же, сдерживаясь, проговорил Леонид. – Надо беречь голову солдата. Мне думается, что близятся не дни военной диктатуры, а народовластия, дни, если уж выражаться твоим языком, диктатуры трудового народа.
Лицо Назара исказилось. Он вскочил было на ноги, по тут решил вмешаться Петр Иванович:
– Ты, Назар, выпил лишнего, а гостя совсем не потчуешь! Беседуйте, спорьте, сколь душе угодно. А вот брани и драки не разрешу! В моем доме ведите себя как гости, уважающие хозяина. Ты ведь тоже мой гость, Назар!
Назар истерически захохотал и, дрожащей рукой наполнив чарку, осушил ее.
– Пью за здоровье генерала Корнилова!
Мурзабай наполнил две чарки, одну поднес гостю, другую поднял сам:
– Назар пьян, не слушай его! Давай-ка мы выпьем не за генералов, а за здоровье друг друга. За твое здоровье, Леонид Петрович!
Отпив глоток, Леонид заторопился домой. Мурзабай не стал его удерживать, опасаясь еще какой-нибудь выходки Назара.
– Прощай, господин поручик, – обратился Федотов с порога к бывшему другу, – желаю здравствовать.
Слова «господин поручик» дошли до сознания Назара. Он, пошатываясь, приблизился к Леониду и довольно миролюбиво пожал ему руку. Потом хлопнул правой рукой о левый погон и медленно произнес:
– Вот!.. Без отца нажил. Ты… не Федотов, а только Анчиков, а я, наоборот, и не Мурзабай, и не Мурзабаев, а Ни-ко-лаев.
Это означало: «Ты только наполовину чуваш, по отцу. Настоящая фамилия твоего отца Анчиков, но он стыдился ее и стал писаться Федотовым, по отчеству. Это ваша семейная тайна, но мне она известна – мы были друзьями. Отец хотел из тебя сделать русского ученого, а ты – вахлак Анчиков. А я вот хотя по рождению и чуваш, а стал настоящим русским офицером. И Николаевым я был записан при рождении».
Если б Назар был в состоянии понять что-либо, Леонид возразил бы ему: «Да. Я Анчиков и есть. И очень сожалению о поступке отца. А тебе, братец, все же не завидую».
Мурзабай тоже кое-что сообразил и почувствовал неловкость… Он проводил Леонида, оставив сына одного – допивать генеральский коньяк.
Уксинэ читала, сидя на завалинке, когда отец привез гостя. Леонид подошел к девушке и сказал несколько любезных слов. Она так и осталась во дворе, и из открытого окна до нее доносился спор брата с приезжим. Ей было неловко за пьяного и развязного брата. Леонид, прощаясь, поцеловал сестре Назара руку – находчивая Уксинэ смутилась. Она надолго оторвалась от книги, следя за облаком пыли, поднятым тарантасом, увозившим гостя.
…Назар вскоре уехал, а через неделю после его отъезда вернулся Симун. Мурзабай встретил его еще более радостно, чем Назара. Жена, заметив это, заворчала: «Тебе всегда племянник был дороже сына». Павел промолчал, вскинув глаза на рассерженную жену: «Да, Назар не в Мурзабаев уродился. Весь в твое хурнварское вздорное племя. Симун, что ни говори, – настоящий Мурзабай».
Мурзабая разрывало от любопытства, но он терпеливо ждал, когда племянник заговорит сам. Время терпит! Но Симун помалкивал, упорнее, чем обычно. Целые дни он проводил у окна, посматривая на улицу, будто кого-то ждал. Мурзабай не вытерпел и, чтобы вызвать племянника на откровенность, рассказал Симуну о ссоре Назара с Леонидом. Попутно Мурзабай спросил, что Симун думает о Керенском, генерале Корнилове и большевиках.
Симун посмеялся над Назаром:
– Значит, и в нашем доме появился маленький диктатор! Много разных ораторов и демагогов пришлось мне слышать. Нет страшнее тех, кто ратует за диктатора. Я тоже сперва поверил в Керенского. Теперь никому и ни в кого не верю. Эсеры считают себя крестьянской партией, но среди них нет согласия: те из них, кто выступает за революцию, меньше всего думают об интересах трудового крестьянина…
Помолчав, Симун продолжал:
– Если ты уж хочешь, я скажу все, что думаю, как бы тебе было ни неприятно, я должен согласиться с прапорщиком Федотовым. И у меня появилось тяготение к большевикам. Одно только меня в них смущает: очень уж круто заворачивают! Скажу понятней: хотят сразу взорвать весь буржуазно-помещичий строй.
Слушая племянника, Мурзабай пришел в ужас:
– Неужели до этого дело дойдет? Если большевики захватят власть, пропадать нам!
– Зря ты уж так боишься большевиков! Коль не уподобишься Назару, они тебя не тронут. Хочешь, скажу тебе самое важное? Ты про Ленина слыхал? Знаешь, какой он человек?
– Слыхать-то слыхал, а какой он человек, кто ж его знает. Он детей моих не крестил.
Симун засмеялся:
– Твое дите, я говорю о Назаре, никто крестить не захочет… А что касается большевиков, они и вправду в народ хотят вселить веру в новое. А вождь их Ленин… Могутный человек. Ни в одной партии нет и не может быть другого такого сильного и крепкого вождя. И не только у нас, но и во всем мире. Скажу так, чтобы ты окончательно понял: отец этого Ленина дружил с Яковлевым, нашим чувашским просветителем, которого ты ценишь. Это отец Ленина помог Яковлеву открыть в Симбирске учительскую школу для чувашей.
– Но то отец, – неуверенно заговорил Мурзабай. – Теперь ученые люди не очень-то почитают своих родителей. А сын наверняка и не знает, что есть на свете чуваши, а если и знает, то их от мордвы и черемисов не отличает.
– Вот и ошибаешься! Ленин хорошо знает чувашский народ… Когда еще сам гимназистом был, помог одному бедняку чувашу подготовиться в университет. И денег не брал, а ведь сам небогатый. Да и с Яковлевым знаком, относится к нему уважительно не только потому, что Яковлев друг отца, но главным образом за его полезную для чувашского народа деятельность.
– Да откуда ты-то все это знаешь? Слухи, наверно!
– Мне рассказал ученый чуваш, с которым я в госпитале лежал. Он хорошо знает и Яковлева и самого Ленина. Да ты поговори с Ятросовым. Он учился в Симбирске, в школе этого самого Яковлева. Должно, слыхал про семью Ульяновых. А Ленин – это Ульянов и есть.
Беседа продолжалась. Но Мурзабаю не все было ясно. Вот и с этим Лениным… Белянкин пугал Мурзабая тем, что Ленин против собственности…
– У большевиков цель такая, – продолжал объяснять Симун. – На фабриках и заводах установить рабочий контроль, землю отобрать у помещиков, отдать крестьянам. Разве это плохо, дядя? Кто трудится на земле, пусть тот ею и владеет.
– Мне интересно не про помещиков. Ты мне скажи, что будет с моим хозяйством. По-твоему выходит – я должен взять в долю своих работников – недотепу Мирского Тимука и не научившегося еще работать сына Сибада-Михали? Или вы хотите ввести батрацкий контроль?
Дотошность дяди и его опасения смешили Симуна, но он не стал дальше распространяться. Симун и сам еще плохо представлял, как все обернется. И чего там гадать: «Еще неизвестно, кто кого одолеет. Буржуи и помещики тоже не дураки»… Симун слышал, что в Петрограде монархисты и кадеты уже начали охотиться за Лениным. Но об этом Симун умолчал.
– А разве Тражук у тебя работает? – вдруг спросил он. – О, тогда я его возьму к себе после раздела.
– Бери, пожалуйста, – буркнул Мурзабай и, помолчав, стал было подробно перечислять долю умершего старшего брата в хозяйстве.
– Не надо мне доли отца, – прервал Симун дядю. – Выдели мне необходимое: лошадь, корову, несколько овец, кое-какие постройки, ну и землицы на три души по мирской мере… Остальное я должен наживать своим трудом.
– А, ты хочешь ославить дядю на все село, на всю волость! – рассердился Павел Иванович. – Чтоб люди называли меня куштаном, обобравшим племянника? Нет. шалишь! Все получай, что положено… Да рано об этом говорить! Может, и делить-то будет нечего. Разные там партии не выходят у меня из головы. Весной Белянкин нарочно приехал, тянул меня в эсеровскую. А у меня ум за разум заходит. Умным человеком меня считают, предлагают снова думать за всю волость, а я для себя решить ничего не могу!
– Да, дядя, – сдерживая улыбку, сказал Симун. – Нет для тебя подходящей партии. Ты прежде Столыпина уважал, даже детям давал читать о нем книгу. Но его застрелили, Столыпина. А он, бедный, даже партию свою не успел создать.
– А ты насмешки не строй! Дядя я тебе и Мурзабай, а не какой-нибудь голодранец Чахрун.
– Да я серьезно говорю, дядя. Вот сижу и хочу выяснить, какая у тебя политическая линия, в какую партию тебе следует податься. Вроде ты не монархист, да и не кадет. А может, ты националист? Чувашский националист, а? Но такой партии пока нет. Придется тебе самому ее создавать. А если хлопотно, дуй в мусульманскую партию, такая партия, я слыхал, есть. Ты ведь и мурза и бай. Без очереди примут.
Мурзабай шутки не принял:
– Нет уж. Сам знаешь, хотя и пекусь о своих чувашах, но сам тянусь к русским. Должно, судьба мне держаться за Белянкина. Все-таки его партия – партия крестьянская. Вот если б и ты был со мной заодно, утешил бы дядю!
– Говорю ж тебе, пи одна партия так не тянет меня, как большевистская…
– Тогда зачем тебе Тражук? Я так понимаю: большевикам нельзя держать батраков, – разрешил себе пошутить и Мурзабай.
– Тражук и не будет у меня батраком. Мы просто объединимся. Он мне поможет переселиться и устроиться, а потом я ему помогу построить домишко, выбраться из землянки. Ты же выделишь мне какие-то строения…
«Неужели и Симун станет для меня чужим? – печально спросил себя Мурзабай. – Ну и самана! Да, смутное настало времечко, и некуда от него деться!»
17В семик чувашские свадьбы играли семь дней: начинались церемонии с четверга, заканчивались в среду. В ночь на четверг девушка становилась женщиной. Утром она наматывала на голову длинный, как дорога жизни, узкий, как лесная тропа, белый, как первый снег, сурбан и, распрощавшись навсегда с девичьим нарядом, выходила из своего нового дома провожать гостей-родичей. Она подносила каждому ковш браги, ложку впервые сваренной ею здесь каши, приговаривая:
Ах, родные, прощевайте,
Молодых не обессудьте.
Угощенье не расхайте,
К нам дороги не забудьте.
Гости, родичи невесты, принимая угощение из ее рук, громко кричали: «Тавсья» [15]15
Тавсья – спасибо за угощение.
[Закрыть]. А потом, покидая новый для молодой хозяйки двор, запевали:
Обо всем этом Румаш рассказал Оле, прощаясь с ней утром на берегу Ольховки. А Оля, поцеловав любимого в последний раз перед разлукой, старалась казаться веселой:
– Той, говоришь, свадьба, той, говоришь, и всякое шумное веселье всем миром. А наш той, если не считать вчерашнего праздника на лугу, был тихим, и на нем никого, кроме нас с тобой, не было. Наш семик продолжался всего пять дней, хотя и начался в среду. И я, русская девушка, стала женой чувашского парня но в среду вечером, а в воскресенье утром и окутываю теперь голову длинным, как жизнь, чувашским невидимым сурбаном…
Но получилось так, что Оля соблюла полный срок – еще два дня она была веселой, опьяненной счастьем. А в среду вечером вернулась домой мать, и для Оли наступило похмелье.
Варвара, мать Ольги, в свои тридцать семь лет выглядела старухой. Она замкнулась в себе с тех пор, как вместо письма с фронта получила казенную бумажку. Варвара затаила свое горе, а все-таки надеялась и все еще подавала в церкви поминальник, где имя мужа было записано «за здравие». Всю неделю тоя своей дочери Варвара провела в Таллах, ходила пешком в прославленный женский монастырь – вымаливать у бога и его святых вести о пропавшем на войне муже, поклониться нетленным мощам великомучениц, извела там последние гроши на свечи, просвирки и на милостыню каликам и калекам, старицам и старцам, коих летом собирается там великое множество.
И вот в Таллах, кладя земные поклоны на холодном каменном полу монастырского храма, вдруг поняла Варвара, что напрасны все ее надежды, тщетны мольбы о воскрешении убиенного. Вернулась она домой еще более тихой, скорбящей, по умиротворенной сознанием неотвратимости «воли божьей».
Мать понимала, что юность не может долго горевать, и не обижалась на детей за их беспечность. Да и два года – немалый срок. Варвара, привыкшая к тяготам одинокой вдовьей жизни, решила не грешить больше перед богом, поминая «за здравие» покойника. Достав с божницы поминальник, она позвала Олю и велела записать имя отца «за упокой». Широко открытые застывшие глаза Оли встревожили мать. Она провела рукой по голове дочери. Оля вдруг припала к груди матери и расплакалась.
И тут Варвара почуяла вещим материнским сердцем, что с Олей приключилось неладное. Мать отяжелевшей рукой медленно гладила дочку но голове, ни о чем не расспрашивала…
А Оля выплакалась на груди матери, затихла: «Ах, матушка, родимая моя матушка! Девичество мое кончилось, и… может, сама я скоро стану матерью. Погоди, матушка, сама все тебе скажу. Скажу и в тот же час уйду из дома. Вверх по Ольховке до самой Базарной Ивановки пойду пешком. Ты не знаешь его, не поверишь, осудишь. А я знаю его, верю ему. Единственный, нареченный он мой, счастье мое или… горе. Ты добрая, умная, терпеливая. Ты поймешь меня, поймешь и простишь».
…Прошло две недели. Мать не расспрашивала Олю, молча наблюдала и ждала. Однажды, когда младших не было дома, заметила мимоходом:
– Что-то Васька перестал ходить в наш проулок.
Оля промолчала. Можно ничего не отвечать, нет теперь в этом нужды. Все поняла Варвара, а чего не увидела, досказали люди…
Оля наконец получила письмо, а ответила только через неделю. Она повеселела. С матерью стала ласковей. С братишкой и сестренкой играла чаще. И в работе снова стала прилежной и проворной. Хороводов с девушками не водила, но дома тоже не сидела, исчезала куда-то и возвращалась поздно. Может, ходит в Церковный конец, опять встречается с Васькой? Да нет же, всегда шла к реке. Одна. «Значит, крепко засел у нее в голове тот приезжий», – думала Варвара, не зная, – радоваться или огорчаться.
Да, Оля каждый вечер ходила на берег Ольховки, садилась напротив омута, где поймали они золотую рыбу. Сидела, вздыхала. Только иногда три слова шептала вслух: «Ах, Рома-Румаш!»
В один из таких вечеров Оля почувствовала, что у нее за спиной кто-то стоит, но не оглянулась.
– Олька, слышь, Оль. И чего ты сидишь тут одна, перестала бывать на людях? Нехорошо так. На селе про тебя разное болтают… – Оля узнала Васькин голос, но не шелохнулась, а Фальшин, помолчав немного, продолжал: – Забыл тебя чувашленок. Попомни мое слово: не напишет и не приедет! Нужна ты ему! Есть у него другие матани, купецкие дочки. Рази можно верить приказчику, холую. Был бы он, как я, самостоятельный человек! Наплюй! Забудь, и я забуду! Давай снова ходить вместе. Осенью свадьбу сыграем.
– Нет, Василь Карпыч, отрезанный ломоть к буханке не прирастет! Тебе же Илюша сказывал: не ходи в бедняцкий курмыш. Ищи себе ровню, – ответила Оля и вскочила на ноги.
Парень загородил ей дорогу.
– Ах, ты так, шлюха! – переменил он обращение. – К ней добром, а она хвостом! Ты, сучка, шлялась по всем ночам с чувашленком, опозорила все село. Смотри, как бы тебе дегтем ворота не вымазали!
Оля вплотную подступила к своему бывшему кавалеру, внезапно и крепко схватила за ворот.
– Ты, подлый человек, – гневно зашептала она, – так и знай: если подойдешь к моему дому, Илюша свернет тебе шею. А то и сама тебя придушу. Вот пока – на, получи задаток! – и Оля ударила его по щеке.
Васька, наглый, но трусливый, решил, что Оля может и теперь позвать Илюшу на помощь.
– Я ж пошутил, Олька! Я ж с добром к тебе пришел, а ты… – И не договорив, отскочил от девушки, злобно выкрикивая уже издали: – Ну и черт с тобой! Кто возьмет тебя такую… Сама прибегешь ко мне. Попомни мои слова, шлюха!
Началась уборка хлеба, прекратились игрища молодежи. Оля не могла выбраться к реке: приходилось ночевать прямо в поле. Сначала она была спокойная, работала за двоих, других увлекала за собой. А потом… Потом все стало валиться из рук. Неужели прав Васька? Неужели забыл свою Ульгу Румаш?! Второй месяц не было от него весточки.
После молотьбы опять вечерами улица оживала, звенела веселыми девичьими голосами. Только Оля всех сторонилась, снова вечерами ходила к реке по проторенной ею дорожке. И там все выглядело по-иному. Камыш сухо шуршал, навевал тоску. Печально шелестел лес за Ольховкой. Пожелтевшие листья перелетали реку и, кружась, падали к ногам девушки. Дегтярный перелесок одаривал ее теперь не цветами, а сухими листьями. Веселая Ольховка загрустила и сморщилась.
…Оля, печально глядя на реку, тихонько запела:
Глаза вы карме, большие,
Зачем я полюбила вас!
А вы – изменчивые, злые…
Зачем страдаю я по вас!
Опять, как тогда, ранним летом, кто-то подкрался сзади. Оля вздрогнула: «Неужель опять Васька!»
– Шел бы ты, Илюша, на село, – устало проговорила Оля, узнав брата. – А я только тоску нагоню…
– Обожди, дурочка! – грубовато пожалел ее Илюша. – Напрасно ты изводишься. Не мог тебя Рома забыть. Тут что-то не так. Не хотел сказывать тебе… Один наш из села ездил в Базарную Ивановку. Знает он купца Блинова и лавку его знает. Да закрыта она, лавка-то, заколочена. Вот тут какая петрушка! Может, уехал Рома куда-нибудь?
Встрепенулась было Оля, но тут же снова поникла головой:
– Уехал? Ну, уехал. А письмо-то мог написать? А што и тебе не пишет, это же понятно. Зачем писать, ежели он всех забыл?!
– Знаешь, Оля, есть хорошая весточка от дяди Коли, – решил парень отвлечь девушку от невеселых дум. – Поди, скоро приедет насовсем.
В другое время обрадовалась бы Оля, запрыгала, затормошила бы Илюшку. Ведь дядя Коля им обоим – родной дядя, любимый дядя.
– Ты говорил, что дядя Коля большевик, – отвлеклась от грустных мыслей девушка. – Румаш тоже называл своего дядю Авандеева большевиком. Разыскать его мечтал, чтоб и самому стать таким. Верю Румашу, что это хорошо… А может статься, что теперь он писать но может… Он ведь не всем сказал о своей мечте – только тебе да мне, да, может, еще Тражуку. – Это имя Оля назвала, не подумав. Но тотчас же вскочила. – Вот дура-дуреха! О Тражуке не вспомнила. Да и ты хорош, тоже забыл. Пойдем к нему, пойдем сейчас же. Тут близко, вброд! Тражуку-то он, наверно, пишет…
– Не забыл я про Трошу, – отмахнулся Илья. – Да сейчас нет его в селе. Он – в Камышле. Обожди денек. Я тут удумал одно… Хочу проверить. Не надо тебе пока в Чулзирму!..
– Это уж мое дело, – рассердилась было Оля, но вдруг улыбнулась и попросила ласково: – Обожди, Илюшенька. Я побываю у матери Тражука, и если ничего не узнаю, делай тогда что хочешь!








