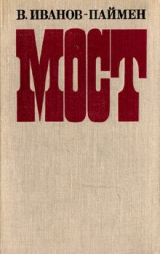
Текст книги "Мост"
Автор книги: Влас Иванов-Паймен
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 32 страниц)
Чулзирмы не узнать: во многих домах – праздник. Мужья, сыновья, отцы вернулись с фронта! Правда, возвращается народу вполовину меньше, чем ждут… А на улицах стало люднее, шумнее, чем до войны. Мужчины, провоевавшие больше трех лет, напрочь переменились. Тихие и смирные стали шумными и отчаянными, прежде озорные – степенными. Жены, опомнившись от первых приступов радости, присматривались к мужьям, не узнавали. Праски, не успевшая привыкнуть к мужу после свадьбы, не заметила в Киргури ничего нового. Да и не до того ей было! Она ужасалась, вспоминая о своем несостоявшемся грехе, и теперь неистово радовалась. Она зацеловывала невестку и Кидери, которым была обязана своей верностью мужу. Вдовы еще больше горевали, заново испытывая невозвратимость утраты кормильца.
Анук, дочка учителя Ятросова, особенно не печалилась. К одиночеству она привыкла давно. Мать ее умерла рано. Растил Анук и воспитывал вдовый отец = учитель и вольнодумец. А потом Анук совсем одна осталась: отец уехал за тридцать верст от села в Вязовку. Вначале навещал частенько, потом – все реже и реже. Анук сама пахала, сеяла, косила и убирала хлеб наравне с мужиками. Одна из немногих женщин в Чулзирме знала грамоту. Умение читать и писать – это все, что оставил ей неприверженный к хозяйству отец. Перед самой войной взяла в примаки одного парня. Как и Праски, проводила мужа, не успев родить. В первый же год получила похоронную. Жила бобылкой, но не ощущала себя ни одинокой, ни заброшенной. В ее доме всегда было людно: заходили к ней женщины, кто по делу, написать письмо, узнать, что нового в газетах про войну, а кто просто поболтать.
С осени в доме Анук собирались девушки с улиц Сирмабусь и Твайкки. Но в этом году, после сурхури и крещения, женщин вытеснили бывалые фронтовики. Укромнее местечка во всем селе не отыщешь: улица Сирмабусь, самая короткая в Чулзирме, тянулась от верхнего моста вдоль правого берега Каменки и упиралась в излучину с крутым откосом. Над этим откосом стоял двор Ятросова. Зимой сюда из-за сугробов подойти было затруднительно. В шутку прозвали домик Анук улахом фронтовиков, а хозяйку начальником улаха.
– Начальник так начальник, – согласилась Анук. – Только тогда уж слушайте меня. Надоели мне пересуды. Давайте пригласим Шатра Микки. Говорят, его новым сказкам научил Салдак-Мишши.
Киргури – муж Плаги, младший сын Элим-Челима, поддержал:
– Позовем! Микки пичче – мой сосед. Я его сам приведу завтра.
Микки не заставил себя долго упрашивать. Солдаты слушали его новогоднюю сказку разинув рты: даже перестали дымить самосадом. Вот те Микки! Особенно поразили слушателей подробности из жизни Ленина, дружба его отца с чувашами, рассказ о старшем брате Ильича – Сандре…
Микки наотрез отказывался повторять свои старые сказки.
– Ну давай тогда новую! – просили его.
– Время сказок отошло, – возразил Микки, – а быль только еще складывается. Складывать ее будете вы, а я потом передам вашим детям. Поделитесь лучше вы сами тем, что видели, что узнали.
Посетители улаха смущенно молчали.
– Дождешься от них! – вмешалась Анук. – Так тебе и признаются эти молодчики, как бежали с фронта, побросав ружья.
– А вот и врешь! – возразил простоватый Басюк. – Ружья у нас отобрали в Сызрани.
– Дурак, что отдал! – буркнул Сар-Стяпан, браг Вись-Ягура.
– А ты домой притащил? – взвился Васюк. – Сам-то ты тихий, да брат у тебя дикий. Смотри, отберет он и у тебя ружье, а упрешься – гранату в тебя метнет.
– Я хочу знать, – настаивала Анук, – сбежали вы из окопов или кто-то вас отпустил?
– Сами понять не можем, – объяснил, смеясь, Васюк. – Все идут, и мы пошли.
– Да что ты знаешь? – возмутился чернявый молодой солдат Ахтем-Магар. – Мы ушли по решению полкового комитета… Не самовольно…
– Керенский не пускал? – опять вмешалась Анук. – А Ленин? Ленин распорядился или вы никого не признаете?
Солдаты растерянно переглядывались.
– Э, да что вас спрашивать! – возмутилась Анук. – Ни о чем вы не думаете, ничего не ведаете. Мы с Микки пичче и впрямь больше вас разумеем. Сам Ленин подписал Декрет о мире, потому что трудовые люди хотели мира. Но я вот о чем хочу вас спросить: готовы ли вы, как Симун пичче или Салдак-Мишши, защищать Советскую власть от врагов? Или попрячетесь за бабьи юбки?
– Ай и вредная ты, Анук, – криво ухмыльнулся Киргури. – Мы тоже кое-что знаем. Симун и Мишши ушли в Красную гвардию, а нынче для защиты Советской власти создается Красная Армия. Но в нее тоже пока записывают только добровольцев. И ко мне на румынский фронт дошла весточка из России о Советской власти – мы всем полком подались домой. А на одной большой станции, уже здесь неподалеку, вдруг видим: в одну минуту осталось солдат только полвагона, и меня со всеми вынесло наружу. И гляжу я: огромная толпа собралась, а посреди один стоит на голову выше всех. Слышу, этот Улып что-то говорит, размахивая руками. Зашел я с подветренной стороны и услышал последние слова. И навсегда их запомнил: «И если все мы будем удирать до дому, то кто же тогда станет защищать землю и мир от бар и богатеев, а нашу власть Советов от кровных ее врагов – буржуев и помещиков? Слушай, солдат, сын земли русской! – заговорил он еще громче. – Тебя опять хотят закабалить. Но ведь ты теперь не бессильный – у тебя в руках ружье! Ты не одинок – мы все заодно – вон какая мощь! Ты прозрел: знаешь, куда идти! И у нас теперь есть надежный поводырь – большевистская партия! Есть у нас великий Ленин, вождь рабочих, солдат и крестьян! Так поверни, солдат, свое ружье против вековечных своих врагов, встань грудью на защиту Советской власти, записывайся добровольцем в Красную Армию трудового народа…» – Кургури умолк.
Анук, повернувшись к нему, нетерпеливо спросила:
– Ну и как? Что было дальше?
– Больше половины солдат записалось в Красную Армию, – ответил Киргури упавшим голосом.
– А ты? Какими глазами смотрел ты вслед уходящим? Ты, значит, Киргури, сын бедняка – деда Ермишкэ, бежал без оглядки с остальными домой!
– Ну, тогда не записался, – упрямо сказал Киргури. – А надо будет, и запишусь.
Солдаты один за другим опускали глаза под вопросительным взглядом Анук. Лишь чернобровый сосед Анук – Ахем-Магар, вместо того чтоб смутиться, улыбнулся ей: здорово, мол, просветил тебя твой Салдак-Мишши…
У лавочника Смелякова собрался другой мужской улах. Хаяр Магар, Пуян-Танюш, Мирской Тимук были его постоянными посетителями. Сюда захаживал и Замана Тимрук, затаивший обиду на Михаила, забывшего дом отца; за две недели, пока жил в родном селе, ни разу не навестил Микки старшего брата. Бывал у Смолякова и Летчик-Кирюк…
В этом кулацком улахе шли другие разговоры. Недавно Смоляков в Кузьминовке встретился с Белянкиным. Тот обещал приехать в Каменку и провести новые выборы в Совет, приказал подготовить четырех кандидатов из Чулзирмы. Смоляков обнадежил вожака эсеров. Однако в его улахе не было полного ладу. Хаяр Магар возмутился от одного упоминания о Павле Мурзабае.
– Но он же друг Белянкина, – Смоляков разгорячился. – Фаддей Панфилович уважает его. Не ко мне и не к тебе заезжает в Чулзирме, а только – к нему, Мурзабаю.
Танюш поддакнул Смолякову, и было решено пригласить Павла Ивановича. Мирской Тимук, на которого было возложено уговорить родственника, вернулся сконфуженный:
– Шуйтан! Захохотал, как сумасшедший, и пустил в меня без слов пустой бутылкой!
– Что я говорил! – торжествующе выкрикнул Хаяр Магар. – Конченый он человек. Пьяница. А племянник его – большевик, воевал против Дутова.
– Мурзабай о Назаре тоскует, – заступился Смоляков. – А может быть, ты прав – с изменой племянника смириться не может.
– А я, может, о царе тоскую! – вскипел Магар. – Еще неизвестно, кем стал его сын. Может, тоже большевиком…
– Господь с тобой! – вскричал Смоляков. – Чтоб Назар стал большевиком! Да скорей Ольховка вспять потечет!
Но Магара нельзя было унять. Он возгордился: сын его Митти – теперь гвардеец Самарского эсеро-максималистского губисполкома. Не одобряемый большевиками губисполком опасался самарских рабочих, и была создана охрана из кулацких и купеческих сынков – от каждой волости по пять добровольцев. Чее Митти был зачислен Белянкиным в пятерку от Кузьминовской.
Смоляков посмеивался про себя над Магаром. Он не пустил бы своего сына в Самару, пока там верховодят большевики. Да и сам Саиька не такой дурак, чтоб идти на рожон!
О том, кого выбирать в Совет, в кулацком улахе условились довольно быстро.
– Представляем все слои населения, – смеялся Смоляков, оставшись вдвоем с Магаром. – Я, стал-быть, от самостоятельных хозяев, Замана-Тимрук – середняк, брат у него – большевик, а Летчик и Мирской – от бедноты и батрачества.
– Не хвались, едучи на рать, – пробормотал чем-то недовольный Магар. – Посмотрим, как оно на деле выйдет.
«Ты сам не прочь заправлять селом, – размышлял Смоляков, провожая своего закадычного дружка, – да вот беда: бодливой корове бог рога не дает!»
…В улахе фронтовиков сложился штаб: Анук, Киргури, Ахтем-Магар и Шатра Микки. Анук узнала у Надали об улахе Смолякова – выболтал легкомысленный супруг – Летчик.
Бывшие фронтовики решили на собрании в Сухоречке выдвинуть кандидатами в Совет Вись-Ягура, Шатра Микки, Киргури и хозяйственного мужичка Кирилэ. Долго спорили о Вись-Ягуре: надежный ли, с анархистским душком, якшался с куштанами. Киргури хвалил Вись-Ягура, Анук поддержала:
– Молодых могут призвать на фронт, а Вись-Ягур не очень-то молод. Зато он пригодится тут. На кулаков Ягур в обиде: обманули они его. А Радаев с лаской к нему подошел, Симун иичче – веселостью расположил, а Осокин Мишши вел с Ягуром серьезные беседы. И ты, Киргури, подобрей будь с ним, подготовь заранее, скажи, мол, доверяем тебе…
Тражук, получив от Семена письмо из госпиталя, решил зайти к Анук. Она доводилась двоюродной сестрой Семену и, встречая Тражука, часто спрашивала, нет ли от брата писем, вскользь упоминала и о Салдаке-Мишши. А тут и Михаил написал Тражуку из отряда, преследующего Дутова.
У Анук он застал солдатское сборище и намеревался незаметно улизнуть. Анук выскочила за Тражуком в сени, затащила обратно в избу, заставила оба письма прочитать вслух. Тражук с этого дня стал постоянным гостем в улахе фронтовиков.
Чулзирминские бедняки пришли на собрание дружно.
Анук смело прошла вперед.
– Глядите, баба заявилась на сходку! – перешептывались старики.
До слуха Анук дошли слова неодобрительного удивления, и она выкрикнула:
– Мужа моего убили на войне! Стал-быть, я сама и должна голосовать за Советскую власть. И другим вдовам не мешало бы прийти на собрание.
Белянкин, узнав, что боевая бабенка – дочь учителя Ятросова, поклонился ей и подал руку, удивив бородачей.
Ах, не знал Белянкин, что за штучка дочка «надежного эсера Ятросова»!
– Неимущий, да к тому же еще – фронтовик, – сказал Смоляков, рекомендуя в сельский Совет Летчика.
– Бедная Надали! – перебила лавочника Анук. – И надо же ей было брать в дом такого невезучего. Что это ты, Кирюк, позарился в именье Киселева на трюмо. А правда ли, что жена разбила зеркало о твою голову? Говорят еще, что ты матросскую форму купил на базаре? Может, врут?
Собравшиеся громко выражали одобрение словам Анук. Белянкин, размахивая школьным звонком, исподтишка поглядывал на Смолякова, а тот недоуменно пожимал плечами… Одного за другим проваливала Анук кандидатов, называемых Смоляковым.
9Тражук после сурхури вернулся жить к матери (бабушка осенью тихо умерла на печке). Неудобно было парню оставаться у одинокой молодой женщины. В первое время днем он к Плаги еще захаживал: помогал справляться со скотиной, играл с трехлетним Василием. Вскоре к Плаги приехала погостить до весны родственница из Хурнвара. Тражук перестал ходить в дом Семена.
С далеких времен существовал у чувашей обычай: зимой посылать девушку на выданье гостить к родственникам в соседнее, а иногда и в дальнее село. Присматривайтесь, мол, люди добрые, может, и сватов зашлете. Но в годы войны женихов не хватало, девушки старели и дома и в гостях.
Незадолго до масленицы Тражука позвали в дом к Мурзабаю. Павел Иваныч сидел за столом, подогретый утренней рюмкой.
– Проходи, Тражук. – Хозяин наполнил вторую чарку. – Ну, садись! Чего молчишь, айван [27]27
Айван – простак.
[Закрыть]… И ты такой же молчун, как Тимук. Но ты – добрый. А Тимук мне – враг. Прогнать бы его надо, да все некогда. Вру я, есть время, Тражук: просто лень. Нет, ты выпей, будешь гостем, а пока тверезый, ты – только батрак, батрак Симуна, большевика, ха-ха-ха… Но родня теперь мы, Тражук! Бывший мой амбар возле твоей землянки будет тебе домом. А будет ли? Конечно, Симун начал, а я закончу. Переходи снова ко мне жить. Л кем ты у меня будешь, зависит от тебя. Не вороти рыла!
И как когда-то екнуло сердце у парня. В зятья все-таки прочит его Мурзабай, но Тражук молча вышел, тихонько притворив дверь.
…Оля, вытирая слезы, перечитывала письмо из Стерлибаша от своего «занятого революцией» жениха. В дом ввалился занесенный снегом Тражук.
– Ты! Молодец! – девушка бросилась навстречу Тражуку. – Деверь ты мой косолапый. Не знала я, Тражук, что ты доводишься троюродным братом Румашу. Родной ты и ему, и мне. На вот, читай, что он пишет.
Тражук помедлил: неудобно читать письмо парня к невесте.
– Вот, бери в руки! – настаивала Оля. – Это письмо можно читать даже вслух на сходке, – она поняла смущение парня.
«…Плохо у нас на хлебном фронте, – писал Румаш. – По уезду то там, то здесь – кулацкие мятежи. Приходится отряду скакать из одного конца уезда в другой. Завтра опять отправляемся в верховья Белой, – больше ста верст отсюда. Но ты не волнуйся, жди меня на троицу. День этот памятный… Года еще не прошло, а кажется, что не виделись целую вечность…»
– Ох, не сносить ему головы, – вздохнула Оля. – Мы-то как-нибудь протянем эти пятнадцать недель. А ему – жить в седле, под пулями. Если даже жив останется, неведомо куда поведут его пути-дороженьки дальше. Вон Илюша тоже пошел, как Румаш, за революцию воевать. Как медленно идет время! Да что это я на тебя, Трошенька, тоску нагоняю. Расскажи-ка что-нибудь веселое.
Не знал Тражук ничего веселого. Достал он из кармана письмо от Семена из Оренбурга. Оля медленно разбирала незнакомый почерк. Семен в письме советовал другу организовать нимэ и перевезти мачеху Румаша Лизук с детьми в Чулзирму к ее братьям.
– Ой, Тражук, что же ты молчишь! – оживилась она. – Оказывается, отец Румаша нашелся. Поедем, Тражук, в Ивановку и быстро перевезем, – затормошила она медлительного парня. – Ты уже говорил с ее родными? Что они тебе сказали?
Что сказали? Да не говорил он еще ни с кем…
Тражук обещал Оле сегодня же все разузнать.
В избу вбежали Спирька и Филька. Спирька после отъезда Илюши стал коноводом «гвардии» Чугунова. Филька рассказывал Оле, как на собрании бойкая Анук провалила кандидатов в Совет…
Оля не проявила интереса к рассказам Фильки и степенным замечаниям Спирьки, хотя сама посылала ребят на сходку. Она загорелась другим:
– Ребята, Румаш занят революцией, сейчас он в Стерлибаше, его отец – тоже воюет. А в Базарной Ивановке, в пятидесяти верстах от нас, бедствует их семья. Может, организуем русско-чувашское… как это, Тражук, называется у вас, неме, что ли?
– Иимэ.
– Гвардейцы Ильи Чугунова обязаны помочь семье двух революционеров, – выспренне объявил Филька. – Я первый записываюсь в нимэ.
– А как мы будем перевозить? – одернул его Спирька. – Где у нас лошадь?
– Не твоя забота, – отрезал Филька. – Расшибусь, а лошадь достану.
– А куда мы перевезем переселенцев? – уточнял обстоятельный Спирька.
– Куда, куда? Да хоть бы и к нам, если некуда, – горячилась Оля.
– Так к братьям тетки Лизук и перевезем. Я же сказал: поговорю, – нерешительный Тражук наконец понял, что ему придется действовать. – А лошадь попрошу у Павла Иваныча.
– А кто ее братья: богачи или бедняки? – осведомился Филька.
– Да как сказать… – развел руками Тражук. – Старший, Кирилэ, по прозвищу «Картавый», – мужик самостоятельный.
– Постой! Да его же в Совет нынче выбрали, – напомнил Филька. – Валяй, Тражук, поговори с ним нынче! Примет он сестру, а не примет, заставим!
…В чувашском конце Базарной Ивановки мужчин в эту зиму тоже стало побольше, как и везде, возвращались домой уцелевшие на войне. Но они не собирались по вечерам, как в Чулзирме. Бывало, что две бабы-соседки вытопят баню. Запарившиеся и разомлевшие мужики тут только и поговорят, да и то если нет с ними третьего лишнего.
– Ты о Ленине слыхал? – спросит один.
– Слыхал. Если б не он, не париться бы нам на этой полке, – ответит другой.
– А где теперь Керенский?
– Говорят, убежал, переодевшись в бабу.
– Да, дела! В тридцати верстах от нас Советская власть, а у нас тут и не поймешь какая.
– Буржуйская и атаманская…
Захар в свое время оставил дома шесть душ: троих детей от первой жены, двоих – от Лизук, да и ее – на сносях. Но от тяжелой болезни у Лизук почти в одни сутки, умерли два мальчика-погодка. Неотступная мысль заглушала горе Лизук. «А ну как Сахгар совсем не вернется? Что делать с тремя малыми детьми?»
Румаш уехал из Ивановки, Лизук некоторое время продолжала получать от Гурьянова вместо денег – продукты, как было договорено. Но однажды братишка Румаша Тарас вернулся от купца с порожней тележкой.
– Не будет вам ничего – ни муки, ни чаю, ни сахару. Румаш обманул меня, к большевикам ушел, – заявил управляющий Белобородова, выпроваживая мальчика.
Лизук кое-как перебивалась. Падчерицу Верук отравила на зиму гостить в Ягаль, к родным по бабушке. Запретила Тарасу держать щенка – самим, мол, есть нечего. Продала шорные и сапожные инструменты мужа. И, наконец, пришлось расстаться с коровой. Без молока умер последыш Лизук. Когда его хоронили, Тарас впервые заплакал. А мачеха не плакала: смотрела на все невидящими глазами. Тарас знал, что у ребят бывают мамы и бывают мачехи, мамы – добрые, а мачехи злые. Но его мать-мачеха была доброй.
Теперь мачеха, совсем переставшая разговаривать с Тарасом, молча куда-то уходила, возвращалась поздно, часами стояла неподвижно. Мальчик не знал, что она ходит на далекое кладбище за Базарным концом, где в земле лежали ее кровные дети.
Шла неделя масленицы. Тарас почти весь день просидел дома один, к вечеру решил истопить печку. Ни дров, пи кизяка у них в помине не было: топили ржаной соломой. Тарас сжег несколько охапок, лег грудью на подоконник и при свете луны принялся читать книжку.
Вскоре вернулась Лизук и, к радости мальчика, спросила, как прежде, спокойно и ласково:
– Ты трубу уже закрыл, Тарас? А не рано, не угарно ли будет?
– Какой там угар от соломенной золы, – усмехнулся Тарас, как взрослый.
– Да-да, я и забыла про это. Почему не вздуешь лампу? Смотри, глаза испортишь.
– Керосину мало. Может быть, гости приедут… Последние дни масленицы.
– Нет, Тарас. Не приедут. Все нас забыли.
– А мне, мама, почему-то сдается, что приедет Кирилэ кукка, – Тарас сознательно назвал старшего брата мачехи, чтоб развлечь ее.
– И он забыл сюда дорогу. Выходит, раньше ездил не к сестре, а к зятю, чтоб погулять с ним. Приехал бы сейчас кто, все равно покормить с дороги нечем. Продавать больше нечего.
– А изба? Можно еще продать избу или отцову мастерскую, – деловито предложил Тарас.
– Только и осталось продать избу да пойти по миру с сумой, – всхлипнула Лизук.
«Ну слава богу, хоть заплакала, а то молчит и молчит, аж страшно», – подумал умудренный тяжелой жизнью мальчик. Читать ему больше не пришлось: послышался скрип снега под санями. Тарас подул на стекло, заглянул в глазок. Со стороны Базарного конца приближался целый обоз. Вот передние сани остановились прямо против дома, неуклюже спустился на снег возчик, сбросил тулуп, постоял, озираясь кругом. С остальных саней спрыгивали порезвее. «Видать, помоложе», – решил Тарас.
– Доехали мы или нет? – крикнул кто-то из приезжих. – Десять верст все по одной улице плетемся!
– Доехать-то доехали, – определил старший – он говорил по-чувашски, – да вот во двор не попасть. Ишь, как занесло ворота снегом!
– Хозяева, видать, спят уже! – отозвался кто-то молодой по-чувашски. – Постучи-ка в окно, Кирилэ мучи.
– Мама, к нам Кирилэ кукка и еще какие-то гости! – Тарас, раздетый, выбежал из избы.
У Лизук от волнения так дрожали руки, что она разбила ламповое стекло.
– Иди домой, Тарас! – подала голос молодая майра. – Нельзя на улицу раздетым! Мужики пусть распрягают!
Лизук рассмотрела в окно: майра распахнула тулуп, обняла Тараса и протиснулась с ним в калитку.
– Ты, оказывается, уже большой, Тараска. Ростом начал брата догонять, – сказала майра уже в избе.
Смышленый Тарас понял: это Оля. О ней Румаш как-то рассказывал.
Оля сбросила тулуп, вошла в полуосвещенную переднюю половину избы, перекрестилась у порога и сказала приветливо:
– Здравствуйте, тетка Лизавета.
– Здравствуй, пади-ка, – смущенная хозяйка исчерпала весь запас русских слов.
– Мама, засвети отцовскую лампу-«молнию», – потребовал Тарас. – Праздник у нас сегодня. Вот и к нам пришла масленица, – он взялся за тулупчик.
– Ты куда, Тараска? – спросила Оля. – Без тебя там управятся.
– Мы с дядей Кирилэ на лошадях съездим за соломой. Надо истопить печку и в той половине.
– Ай да Тараска! – рассмеялась Оля. – Да ты совсем как взрослый, обо всем успел подумать. А мы на гумно с тобой вдвоем съездим. Ты хорошо говоришь по-русски, не хуже брата, – продолжала она. В школу ходишь?
– В четвертый класс ходил…
– Ох ты! У вас даже четвертый класс есть. А почему говоришь «ходил»?
– Убили нашего учителя буржуи с Базарного конца. Большевиком он был. Его жена, Ксения Степановна, занимается с младшими, а с нами некому.
Во дворе Тарас отозвал дядю Кирилэ:
– А ты иди скорее в избу. Мы ведь похоронили и последнего братишку. Мама все время молчала, нынче в первый раз заплакала. Иди, а то еще разобьет стекло и от лампы-«молнии».
Тражук и Яхруш и два русских – Спирька и Филька шумно распрягали лошадей, устраивали их на ночь во дворе Захара. Дом ожил, снова засветился окнами, зазвучал веселым смехом, удивляя соседей. Догадливый Кирилэ привез с собой хлеба, снеди. На столе празднично пел самовар.
Утром Спирька, Тражук и Яхруш участвовали в совете старших.
– Продавать дом не стоит, – объявил Кирилэ. – Вернется Захар, сам решит. Пока увезем что сможем, а окна и двери заколотим…
Тарас показывал Фильке и Оле картинки, принесенные когда-то Румашем с Базарного конца.
Была у меня вся царская семья, – объяснял Тарас. – И отдельно царь, и отдельно царица были. Но я эти картинки все сжег.
– А генералов зачем оставил? – наседал на него Филька. – У тебя, может, еще и Дутов есть. Да я тебя за это запру в холодную мастерскую.
– Дутова нет, он не генерал, а только еще атаман, – серьезно отвечал Тарас. – Одного только выбросил, фон Рененкампфа. А этих подождем. Посмотрим, за кого они будут. Так и учитель нам говорил. Это вот Брусилов, это Алексеев, Иванов… А вот казак – Кузьма Крючков. Герой. Он наколол на пику двенадцать немцев. Солдат дядя Алюш, наш сосед, эту картинку велел порвать. Вранье, говорит, все. А вдруг не вранье?
– Генералов у тебя много, – сказала Оля задумчиво. – Вот если б были портреты отца и брата…
– Есть! – сверкнул глазами Тарас. – Отца-то у матери спрятан в сундуке, а братнин – вот он. Только он тут с еликовским черкесом.
Оля долго любовалась снимком, потом робко попросила:
– Отдай мне, Тарас? Я сберегу.
– Ладно уж. А мне будешь показывать?
– Обязательно, Тараска. Ты будешь ходить из Чулзирмы к нам в Сухоречку почаще.
Гости и хозяева погрузили на сани домашний скарб, заколотили дом и двинулись в Чулзирму. Сердце Лизук разрывалось: здесь в земле, на чужой стороне, оставались ее родные дети. «Ах, Сахгар. Зачем ты привез меня сюда и спокинул. Лучше бы мне и не выходить за тебя».








