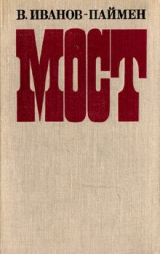
Текст книги "Мост"
Автор книги: Влас Иванов-Паймен
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 32 страниц)
И неожиданно, сменив ритм, – запели:
Тетя Лиза, Лизавета,
Я люблю тебя за это,
И за это и за то…
Во – и больше ничего.
– И тебя вспомнили, Лизук. И ты спляши, – попросил Захар. – Поплыви по-лебяжьи, тряхни стариной!
В воскресенье затрезвонили колокола, а «свадебная свита» раздобыла лодки – праздник продолжался на воде.
И снова гремела песня, вызывая дальнее эхо:
Из-за острова на стрежень,
На простор речной волны
Выплывают расписные
Стеньки Разина челны.
Гуляли два дня – понедельник и вторник, качались на качелях. Румаш и Оля, держась за веревки, не раз взлетали в небеса. Вокруг молодой пары целые дни топтался народ – и друзья из села, и однополчане при шпорах и с саблями. Филька пытался ласково отвадить молодежь. Сам он никогда не играл своей свадьбы, но своего командира понимал, как и всегда, безошибочно.
В среду, еще до выхода полка из села, чулзирминцы начали в поле работы. Но не всюду: в сторону Верблюд-горы красноармейцы никого не пускали, там должны были начаться вскоре бои.
Утром Тарас запряг пегашку и приготовился выехать в поле вместе с артелью дяди Кирилэ. Мальчуган, уже держа вожжи, устроился на мешках с семенным зерном. Из дома Анук, где все они так и жили, выбежал Румаш.
– Постой, Тараска, погоди, – крикнул он. – Возьми поесть – яиц тебе наварили да сомятины нажарили. Тетя Ингэ тебе все своими руками приготовила и принесла чуть свет.
Брат обнял Тараса и крепко поцеловал.
Тарас растерялся – до этого утра брат его ни разу не целовал. Сабля рукояткой ткнула Тараса в бедро – легкий удар острой болью отозвался в сердце мальчика.
Румаш и его друзья готовятся в бой. Вот брат повесил саблю. Для чего она нужна? Рубить головы врагам. И Румашу может враг снести голову с плеч. Мальчика так взволновали мысли о тяжелом пути, что предстоит Румашу, – он еле сдержался, чтобы не зареветь.
И, не глядя на Румаша, Тарас натянул вожжи, лошадь тронулась.
Когда поднялись на холм и доехали до Кивзюрта, откуда-то со стороны Лысой горы долетел треск первого залпа.
Сигнал! Тарас оглянулся на соло: отсюда, издали, оно казалось растревоженным муравейником – по улицам и переулкам туда-сюда сновали люди. Всадники собрались на дороге у склона горы, один выдвинулся вперед. Тарас решил – это его брат, командир первого эскадрона. Мальчику показалось, что он даже отсюда видит Румаша» ею чуть искривленные при улыбке губы.
Румаш, обнажив саблю, что-то выкрикнул и пустил коня рысью. За ним поскакал эскадрон, за эскадроном – полк. Красноармейцы по косогору быстро мчались в сторону Верблюд-горы. Остановив пегашку, Тарас смотрел вслед…
Тараса сегодня отправили на дальнее поле, чтобы он пробыл там неделю, не возвращался домой.
Дядя Кирилэ, поди, уж там!
Тарас добрался скоро, но на пашню по пошел. Он лежал под распряженной телегой и горько плакал, прислушиваясь к далеким раскатам пушек за Верблюд-горой. Кирилэ хотел было унять мальчика, позвал его работать, но вмешалась Кидери, засевавшая поле вместо своего мужа – лентяя.
– Не трогай, пускай успокоится, – сказала она тихо. – Ведь там, за горой, его родной брат.
Кирилэ, глава артели, встал у межи лицом к востоку и трижды перекрестился. В час, когда там начались бои, здесь приступили к посеву.
…Оля целый день, не поднимая головы, пролежала в постели, прислушиваясь к грохоту сражения. К вечеру Захар переправил ее на лодке в Заречье. Весь путь они промолчали. Да и дорога успела сократиться: весенние воды спадали, Ольховка постепенно входила в русло…
В дни половодья полное счастье испытала Оля. Войдет ли в берега река ее счастья и будет спокойно нести свои воды? Не пересохнет ли летом до самого дна?
Кто знает?..
7В двухэтажном красном доме, что на окраине города, разговаривали только по-чувашски. Иногда можно было здесь послушать и чувашские песни.
Улица напоминала деревенскую: не вымощена камнем, под ногами поскрипывал деревянный тротуар… Вдоль улицы выстроились дома, тоже деревянные… Дворы, огороженные дощатым забором, крашеные ворота. Между домами под железной крышей встречаются и крытые тесом, соломенных крыш не видать. По утрам, как и в селе, из ворот выгоняют коров, коз. И после того как пройдет стадо, над улицей надолго повиснет облако пыли.
Что ни говорите, а городского облика у этой улицы не было. Лишь двухэтажный кирпичный дом купца Мочалова несколько напоминал о городе. Прежде эта улица называлась Выгонная, а теперь Пролетарская. Семен Мурзабай не согласен с этим названием:
– Не Пролетарской ее надо было назвать, а Мещанской… Здесь ютятся закоренелые мещане.
В этом красном доме поселились втроем: Симун, Тражук и Анук Ятросова. Так их кликали в Чулзирме. В городе и они друг друга называли иначе. Они приехали сюда после окончания политшколы в Самаре.
Старика Ятросова не сразу освободили от его работы: наконец человек на пост заведующего отделом просвещения нашелся. Нужен был инспектор по чувашским школам, Ятросов временно исполнял эти обязанности. Старый учитель все ждал, когда окончат учебу и вернутся из Самары Николаев и Петров.
Они приехали только к началу лета. Но старик никак не предполагал, что вместе с двумя «самарцами» прибудет и его дочь.
– Партия меня направила работать в уком женоргом, – объяснила Анук свой приезд. – Буду сеять революционные идеи среди чувашских женщин.
Ятросов не удивился: кто-то и эту работу должен начать и возглавить. И все же старик не удержался, чтобы не проворчать:
– А не велела тебе партия ехать домой и сеять хлеб? Может, пользы было бы больше. Потребителей хлеба в городе и без нас много.
Анук не растерялась, весело захохотала, совсем как отец.
– Ты, кажется, говорил, что Захар Тайманов вернулся в село? Если запряг мою пегашку, пусть и работает в поле. Пусть выращивает хлеб. Осенью все к нему двинем за горячей буханкой. Вот тогда будет коммуна. Он состарится – мы примемся крестьянствовать.
Отец погрозил пальцем и ничего не возразил, махнул рукой.
Однако, обождав несколько, снова не стерпел:
– Валяйте! Но у вас, похоже, коммуна не получится. Хорошо, если ты не захотела в город, как Арланов… чтоб стать делопроизводителем.
Ятросов чрезвычайно удивил этими словами дочь, которая обычно ничему не удивлялась.
– Какой такой Арланов? – растерялась она. – Что за делопро… чем ты меня пугаешь? – Анук так и не выговорила длинное слово «делопроизводитель».
Отец и дочь долго не виделись, да и прежде особенной близости между ними не было, – дружеской и родственной беседы между ними и на этот раз не завязалось.
Ятросов ознакомил учителя Семена Николаева с делами просвещения, а сам поспешил возвратиться в Вязовку.
Маленькую комнату в красном доме, которую занимал Ятросов, он передал Анук. Мужчины разместились в одной из больших комнат. Хозяин не возражал, а даже сам предложил кров приезжим. Купец Мочалов был не такой человек, чтобы бестолково ссориться с Советской властью.
«Если меняться будет – сами убегут, – рассуждал он, – если ничего не изменится – не худо и то, что в моем доме коммунисты».
Односельчане, встретив Тражука, никогда его не признали бы, а если б даже и так – ни за что не решились бы назвать Тражуком. Зато он оправдал прозвище, данное ему когда-то Уксинэ: «Тражук мучи».
Пока жил в Самаре, оброс роскошной густой русой бородой. Вначале, может быть, ему и некогда и негде было бриться. А потом – просто махнул рукой.
Однажды в общежитие, где жили курсанты, пришел Воробьев. В момент его прихода обитатели комнат как раз обсуждали бороду Петрова. У кого-то из ребят оказалась бритва, и он готовился побрить Тражука. Семен Николаев никак не позволял губить чудесную бороду друга. Тридцать человек, населявших огромную комнату, разделились на две группы: одни требовали – «Долой бороду-лопату!», другие возражали – «Да здравствует золотая борода!».
При появлении Воробьева все стихли, а он, задержавшись у двери, молчал, а глаза его смеялись. Воробьева Семен узнал поближе. Прежде он побаивался этого маленького, серьезного человека. Всегда погруженный в мысли о работе, всегда серьезный, ради дела он не жалел ни себя, ни других. «Ничего у него нет, кроме работы», – думал Семен. Однако Иван Васильевич, оказывается, любил и посмеяться, и пошутить, и порадоваться. Вот и сейчас он глядел на молодежь, а в глазах его теплился смех, готовый вырваться наружу.
Далеко еще из коридора он услышал хохот, шум, нестройные крики: «Долой!», «Да здравствует!».
– Что у вас тут? Вы совершаете всемирную революцию? Или, наоборот – выступаете против? – спросил он весело.
– Нет, Иван Васильевич. Сегодня на повестке дня совсем другой вопрос, – заговорил чуваш из Девлезеркина, державший в руке бритву. – Кое-кто заинтересован в том, чтобы молодой и красивый парень выглядел стариком, хотят превратить товарища Петрова в церковного старосту или старшину. Сторонники старого режима!
Смутившегося Тражука Воробьев осмотрел так, словно видел впервые.
– Сколько тебе лет, товарищ Петров? – спросил он без тени озорства в голосе.
Тражук ответил.
– Выходит, ровесник века. Ладно…
Сказал Воробьев это «ладно» и тут же, словно забыв о Тражуке, заговорил с курсантами о другом.
Тражук задумался: а что бы значило это его «ладно»? Встревожился. Но все-таки был рад: обсуждение достоинств его бороды закончилось.
Но товарищ Воробьев снова вернулся к этому вопросу.
– О бороде решим так: сбривать не станем, – он откровенно веселился. – Пусть растит ее. А при окончании школы мы проэкзаменуем Петрова и на этот счет. Но и сами выскажем свое мнение: понравится борода – оставим, не понравится – сбреем. Хорошо? – спросил он перед уходом.
– Хорошо, согласны! – с хохотом кричали курсанты вразнобой.
И вот скромный, несмелый Тражук стал бородатым солидным человеком – инструктором укома товарищем Петровым. Незнакомые люди не поверили бы ему, назовись он хоть двадцатипятилетним, он выглядел на все тридцать пять.
…Когда большой отряд партизан из местных направился к Чапаеву, Тражук с маленькой группой оставался в Самлейском лесу. Вскоре число партизан снова значительно выросло. Авандеев, проводив добровольцев в армию, возвратился под Самлей. Он объединил партизан Вязовки с партизанами соснового бора. И они несколько дней задерживали белых, не давая им переправиться через реку Самару.
Стойко и храбро сражались партизаны, не отступая до прибытия частей Красной Армии.
Этот отряд до зимы считался отдельным отрядом. Лишь перед новым годом он тоже слился с Красной Армией.
Авандеев, Воробьев и Алексей Самарии тщательно проверяли здоровье, возраст и грамотность партизан. Стариков отправили по домам, молодые и здоровые перешли в Красную Армию, а грамотных отобрали для поездки в Самару учиться – там открылась военно-политическая школа.
Тогда под Новый год среди других вернулись в Чулзирму Палли и Шатра Микки.
Анук, Семен и Тражук поохали в Самару, в школу сначала попала только Анук. Семена и Тражука забраковала комиссия. Первому помешали старые ранения, а у Тражука нашли плоскостопие.
Воробьев добился: он доказал, что обученные люди требуются не только на фронте, но и в тылу. И обоих друзей все-таки в школу приняли.
Тражук был счастлив, что попал в школу, да еще и учится с людьми старше себя по возрасту. В его голове всегда возникало множество вопросов, теперь на все находил понемногу ответы, все размещалось по порядку, находило свое место. Что знал, слышал, читал до школы – как-то оформлялось в отчетливые представления. Он сам понимал, что мужает, набирается ума, сам говорил себе, что уголки его в общем-то темного сознания как бы пронизываются светом солнца.
И как понял Тражук, у этого солнечного света было вполне реальное имя: марксизм. Марксистско-ленинская паука увлекла Тражука.
– Как только кончится война, тебя, Петров, пошлем учиться в Москву, – пообещал Воробьев. – Думаю, из тебя получится философ. Сейчас, когда окончишь школу, поработаешь, приобретешь опыт, внимательно читай Маркса, Энгельса, Ленина, но кроме того – изучай жизнь.
Симун Мурзабай – Семен Николаев давно стал взрослым человеком. Школа, однако, оказалась полезной и для него. Семен был здесь не только курсантом.
Однажды Семен, вслушиваясь и стараясь понять путаное объяснение учительницы, во время урока поднял руку и коротко уточнил:
– Звезда с хвостом – это не планета, а комета.
Учительницу оскорбило вмешательство рядового курсанта, и она отчитала его при всех.
Узнав о происшествии, Иван Васильевич Воробьев пробрал руководителя школы Самарина за плохое преподавание. У этой учительницы документов об образовании но оказалось. Она просто обманула Самарина, подсунув ему поддельные бумаги. Ей важно было получать паек…
Воробьев проверил знания Николаева и предложил ему преподавать курсантам в пределах его возможностей космографию. Чтение ученых книг из сундука дядюшки Павла пошло Семену на пользу. Он давно мечтал быть учителем и здесь оказался на высоте. По окончании школы он получил от Воробьева документ, выданный отделом народного образования, подтверждающий, что Семен Николаев может работать учителем в школе.
В родном городе Семена назначили инспектором чувашских школ.
Анук постепенно забывала свое деревенское имя. Теперь она – товарищ Ятросова. Когда ее спрашивали, почему она, бывшая партизанка и боец дивизии Чапаева, вдруг оказалась в школе, она коротко отвечала:
– Была против увольнения Чапаева из армии.
В политотделе Анук сказала несколько иначе:
– Чапая послали на учебу, отправьте учиться и меня.
Анук, бывшую в армии санитаркой, послали на курсы медицинских сестер. В губкоме с ней столкнулся Воробьев. Она пожаловалась ему. И вот Ятросова оказалась единственной женщиной, обучающейся в политшколе.
Однако в стремлении Анук попасть в Самару виновен был не Чапай.
Осокина, работавшего в политотделе, штаб фронта отозвал в Самару. Обратно в дивизию он не вернулся. Но и в Самаре не нашла Михаила Анук. Удалось узнать, что его назначили куда-то комиссаром бригады.
Но Анук давно пришла к мысли: в военное время надо быть независимой от мужчины. Надо заняться делом, успокоиться и терпеливо ждать конца войны.
И все же на месте Анук не сиделось. Обосновалась она в городе, но много времени проводила в разъездах по деревням и селам. Там, как только собирался народ, Анук выступала с докладами.
Полученные в политшколе знания помогали немало. Но всего запомнить невозможно – так считала Ятросова. Ей больше, чем другие, запали в сердце лекции старика Малинина.
В своих докладах Анук упоминала о многом: о вселенной, о революционных событиях…
А уж о наступлении белочехов, о создании учредиловки она говорила с таким знанием, что удивляла слушателей. Никогда не забывала Анук рассказать о славных делах Чапая: тут уж ей карты в руки, ведь она сама была в его дивизии!
Анук радовалась, что ей суждено работать в Пестром доме с тремя богатырями на фронтоне. Здесь раньше размещался штаб Чапаева.
Анук теперь могла говорить в докладах:
– Без Чапая так и не смогли одолеть врага. Отозвали его из Москвы и снова назначили командовать дивизией. Такого героического командира, как наш Чапай, нет на целом свете!
И Семен и Тражук – каждый по своему делу – часто выезжали в деревни, однако в родном селе никто из них не бывал. Мечтали поехать все вместе.
8С весны Чулзирма как-то вылиняла. И цвет потеряла и голос. Актив, собранный Захаром, весь призван в Красную Армию. В Заречье в партию вступили женщины – Оля и Антонина Павловна. А в Чулзирме осталось два коммуниста – Захар и Микки.
Захар Тайманов теперь как бы взял отпуск от больших дел. Занимался хозяйством. Лишь только просохли дороги, он, собрав сельчан на помощь, перевез из Базарной Ивановки свой сруб и строил дом, расчищал двор.
Не только Захар, можно сказать, и все село взяло отпуск от забот саманы. Сельские дела помаленьку Шатра Микки выполнял один, некому ему было помочь, некому и помешать. Изредка он заходил к Захару Тайманову посоветоваться по какому-нибудь вопросу.
Однажды Шатра Микки попытался представиться обиженным.
– Наше село вдруг утихло, как старый мерин, – пожаловался Захару. – Ни один непутевый горлопан не приходит в Совет ругаться. Даже скучно.
– Из-за этого печалиться не будем, – усмехнулся Захар. – Горевать у нас и без того есть причины. Партию, например, мы своими людьми не пополняем – отстали от заречинцев. Райком не погладит нас за это по голове.
– Ты печешься только о революции, а мне приходится беспокоиться и по поводу контрреволюции. В селе ни одного куштана не осталось. Девятеро исчезло враз. Ведь от тех, кого увели тогда озоруя красноармейцы, пи слуху ни духу.
– Нашел о ком горевать, – засмеялся Захар. – Можно подумать – от того, что богачи бросили все и ушли, село много потеряло?
– То-то же горе, – Микки покрутил головой. – Сами кулаки ушли, а семьи-то остались. Вот они меня и одолевают.
Захар уже больше не смеялся, призадумался.
– И верно. Тоже, брат, забота для тебя, – сказал он после некоторого молчания. – Я сам, по правде говоря, совсем и забыл о них. А надо помнить. Что ни говори, а бабы их и дети – из нашего села, граждане Чулзирмы. Ладно, вот осмотрюсь немного и съезжу в город, узнаю, куда подевались куштаны.
– Не обязательно ехать самому. Хорошо будет, если напишешь бумагу, – вздохнул Микки.
Захар не успел послать бумагу.
Перед тем как перевезти сруб, Захар ходил по селу – выбирал место. За амбарами на пригорке начннались гумна. Между гумнами и обрывистым берегом реки Каменки рос мелкий кустарник. Прежде никто и не думал селиться здесь. В позапрошлом году показал пример Семен. В прошлом году неподалеку выросли еще три избы.
Рядом с Семеном поселился Летчик-Кирюк. Красавица Падали словно канатом привязала к себе самлейского чуваша. Легкомысленный, непривычный к труду человек начал было в поте лица работать…
Теперь Надали опять осталась одна с двумя ребятишками – дочкой от первого брака и с недавно родившимся сыном. Скрывавшийся от мобилизации на царскую военную службу Кирюк в Красную Армию пошел служить охотно.
По соседству с двором Семена, ближе к селу, на берегу Каменки, пустовал довольно обширный клок земли. Не очень-то удобный участок браковали все. Высокий берег круто спускался к реке, за водой надо было бы ходить в обход более пологой дорогой.
Захар, высматривая место, где бы устроиться, остановился у пустыря, задумался.
– Атте! – вдруг услышал он голос, несомненно принадлежащий молодой женщине.
Удивленный Захар оглянулся, всмотрелся и узнал – это ведь красавица Надали! На первую ее свадьбу он был приглашен как посаженый отец. «Погляди-ка на нее, – окликает, как родная дочь».
– Твоего второго мужа – Летчика мне довелось увидеть мимоходом дважды, – сказал Захар, не зная, с чего начать разговор. – Ну как, сбросил он свои крылья? – пошутил он.
– Заставила, – засмеялась в ответ на шутку Надали. – Друг другу очень мы пришлись по душе, – сказала она уже серьезно. – Как только вернется из армии, я уж оттреплю его за волосы… Однажды как-то ему попало за трюмо.
Узнав о том, за какое «трюмо» всыпала Кирюку молодая супруга, Захар долго хохотал.
– А теперь почему ты им недовольна? – спросил он после нового взрыва смеха.
Захар невольно любовался стройной и привлекательной молодой женщиной. Недаром на свадьбе он тогда сказал, что в Чулзирме нет девушки красивей Надали. Так подумал он и сейчас.
– Обманул меня чертов Летчик, – притворно сердясь, проговорила Надали. – Сына не тем именем нарек. Я хотела, чтобы звали его Хведером. А он обманул, записал его Львом. Полгода, качая младенца, все называла Хведером да Хведером. А в прошлый раз услышал Шатра Микки – и говорит: «Надали, да он же у тебя не Хведер, а Лев»… Да провались ты сквозь землю.
Захара снова разобрал хохот.
– За это не ругать мужа надо, а благодарить да расцеловать, – смеясь, вымолвил он. – Очень хорошее имя. У русских знаменитый человек носил имя Лев. Лев Толстой. Писатель. После его смерти горевал весь народ.
– Русским, может, это и подходит, а нам такое имя ни к чему. Если бы фамилия была хоть другая, может, и ругаться не стоило. А то ведь получается Лев Мамонтов, будто детеныш мамонта – лев…
«Лев Мамонтов! Славно звучит. Для меня красиво, а для нее – непривычно. Пока еще для нее непривычно, но уже разбудила революция темное чувашское селение в заброшенном медвежьем углу. Даже «летчики» приносят новые веяния, сами того не понимая. Новые люди в селе. Это ведь тоже дух времени, дух саманы. Надали говорит – «оттреплю за волосы», однако сама почти уж свыклась с непривычным именем, ворчит любовно. Нарочно надулась, а сама готова расплыться в улыбке».
– То, что русскому идет, подойдет и чувашу, Надали, – сказал Захар. – Пока будет подрастать твой сын, имя Лев и среди чувашей станет обычным. Кирюк, наверное, хотел, чтобы он рос сильным и смелым, как лев. Не брани мужа! Ои скоро сам вернется из Красной Армии героем.
Надали, всегда готовая пошутить и посмеяться, вдруг прослезилась.
– Спасибо тебе, атте, за добрые слова, – проговорила она, вытирая глаза фартуком. – Ни от кого до этого не слышала о Кирюке доброго слова. Все ругали меня, что приняла в дом Летчика. Только из-за одинокой жизни связалась с бродягой. Сам знаешь, родного отца у меня нет, муж пропал, дочку растить надо – ей уж седьмой год пошел… Некогда было выбирать мужа, да и не из кого… Ты теперь для меня вместо родного. Люди тебя остерегаются, «камуном» называют. А я сказала себе: «Если атте – камун, то нечего бояться камунов». Хорошо бы вы поселились рядом, поставили здесь свой дом, двор бы разбили…
Новые соседи скоро перестали бояться «камунов». В каждом доме нашлась чисто мужская работа. Захар одной солдатке помог сложить печь, другой – вставил стекло, третьей заменил доску на крылечке.
Еще до поездки в Базарную Ивановку за срубом, Захар обнес свой будущий двор оградой из жердей. У самого берега вырыл яму и сколотил над ней крышу, как для скворечника, назвал его по-русски: «нужник». Таких строений до сих пор в селе не возводили.
Лизук и Тарас трудились дни и ночи на откосе обрыва: копали неглубокий ров. Тарас вначале даже и не понял, почему здесь надо рыть, но не перечил. А когда удлинили ров в стороны, он решил все-таки обратиться за объяснением к мачехе.
– Что же это будет, айне [43]43
Анне – мать.
[Закрыть], зачем это мы копаем? – спросил он недоуменно.
– Папа велел, пусть, говорит, сигсак [44]44
Игра слов: сиг сак по-чувашски – семь скамеек.
[Закрыть]будет. Искривлеппую туда-сюда дорогу так называют. По такой дорожке подниматься будет легче.
«Ага, зигзаг», – догадался Тарас, но поправлять мать не стал.
Эту извилистую дорожку так все и называли – «сигсак». Отец говорил сыну: «Тарас, сбегай-ка по сигсаку да принеси побыстрей воды!» Ходить за водой с участка Тайманова можно было тремя путями: один – по перерытому Семеном и Тражуком откосу – далековато; второй путь вел к колодцу в Малдыгасе, до него – еще дальше. Ближе всего – сбежать по «сигсаку». Но как он ни изгибался, все же был крутоват. Зато близехонько, начинался, можно сказать, у самой печки.
Это потому, что над самым обрывом Захар сложил небольшую печку. В высоту не было аршина, с трубой, с подгнездами для чугунков. Разумеется, печь топилась не для обогрева улицы. На ней в теплое время готовили пищу. «Плита» – назвал Захар.
К приезду друзей в Чулзирму у Захара между домом и амбаром был готов сарай. И в избе уже потрескивала печка. Три «комиссара» – Тражук, Анук и Семен и один учитель – Арланов проверили работу Захара. Его подворье плохим не назвали, но и хвалить не спешили.
Анук, увидев плитку во дворе, пришла в восторг.
– Захар пичче, ты это хорошо придумал! Как есть натуральная печка. Здесь можно и суп сварить, и картошку поджарить, и блины испечь, – очень кстати вставила она новое для нее городское слово – «натуральная».
– Ты, Захар Матвеевич, вьешь свое гнездо и не по-русски, и не по-чувашски. И не по-башкирски тоже, – уклончиво выразился Семен.
– По-немецки! – выкрикнула Анук, обрадованная тем, что опять нашла нужное слово. – И если еще вокруг дома посадить кусты, а весной они зацветут – тогда и вовсе будет по-немецки. Это у них – строения сплошные, во дворе летняя плитка, рядом – гумно.
– У Захара пичче гумно даже и не рядом, а прямо во дворе, – вставил слово Тражук.
И верно, тут же, шагах в двадцати от дома, Захар укатал ток.
Крыша дома и печь в избе привлекли внимание «комиссии». Тесу у Захара не было, а о железной крыше по тем временам никто и не мечтал. И все же не соломой покрыл избу Захар, а мелкими снопиками из камыша и сверху обмазал глиной.
– Подобной крыши во всем мире больше нет, – определил Арланов, стараясь не отстать в суждениях от других.
После плиты на улице больше всего обрадовала Анук печь в избе.
– Ведь из кирпича сложена, – весело определила она, – но бока у печи какие гладенькие. Я слышала, что Захар Тайманов – отменный шорник, но он, оказывается, еще и замечательный печник.
– Все-то ты умеешь, Захар Матвеевич! – похвалил глава «комиссии» Семен. – Шорник, сапожник, плотник, столяр, печник… еще кто?
– И еще музыкант! – Арланов снял с гвоздя на стене балалайку и неумело потренькал.
– Люди в перерыве на обед курят, а я играю на балалайке, – объяснил Захар. – Тараса учу плясать. Хочет быть героем, как Румаш, а сам плясать, как он, не может, – отец заставил покраснеть мальчика. Сам тут же взял балалайку из рук Арланова и, настроив ее, зазвенел плясовой мелодией.
– Эх, как говорит Тимрук пичче, замана! Без мужа могу жить, а вот как услышу плясовую, не могу, чтобы не плясать. – Анук тут же затопотала по-мужски.
Смотрел-смотрел на нее Арланов и женской выходкой заскользил вокруг.
– Люди работают, камуны пляшут, – негодующе пробормотала старуха, плетясь мимо избы на гумно.
Дня через два «камуны» не только пляской, по и работой удивили. К приехавшим из города присоединились еще и зареченские – Оля и Тоня.
Захар весной засеял по осьминнику и для своей семьи и для Анук. В поле весной вместе с Кирилэ больше всех работал Тарас. Сейчас, во время уборки урожая, Тарасу оставалось только вязать снопы. В артели «камунов» собралось десять жнецов и жниц. За педелю хлеб был убран и обмолочен.
И люди, любуясь дружной работой, назвали те дни «неделей камуны». Теперь уж, слыша балалайку Захара, никто не посмел бы ворчать и посмеиваться.
И Захар и Плаги, жена Семена, немного посеяли хлеба. Артель «камунов» проработала еще и у деда Сабана, и у матери Тражука, а еще и в Сухоречке и русских заставила заговорить о «неделе камуны».
А Арланов, пляшущий по-женски, равняться на поле с Тарасом и женщинами так и не мог. Беззлобно подшучивая над учителем, Оля и Тоня учили его вязать снопы.
Кирилэ нисколько не был удивлен дружной работой артели.
– Камунами лишь пугают народ, – рассудительно сказал дядя Тараса. – Ничего в этом нет и смешного. Чуваши издавна любили сообща трудиться и сеять хлеба, мы, жители нашего края, всегда выходим вместе, помогаем женщинам, когда нужны в работе мужские руки. Нимэ – ведь это и есть работа камуной.
– А ведь правильно сказал шурии! – поддержал его Захар. – Чуваши и в самом деле частенько работают артелью. Разве нимэ не похожи на субботники?
Захар рассказал об опыте Ключевки. Он ездил туда за окопным стеклом для своего дома и для избы Самани – матери Тражука, куда ее наконец переселили из землянки.
Гости помогли Тражуку перевезти мать, а также подсобили перетащить дом просвирни из Заречья под школу. Антонина Павловна радовалась – с осени она начнет учить ребятишек в новом здании.
Евграф Архипович тоже начнет с осени первый учебный год в Чулзирме.
Городские гости стали на десятый день готовиться к отъезду. Анук пригласила Арланова пожить в ее доме. Семья Захара уже справила новоселье.
– Ухаживать за конем ты не умеешь. За пегашкой будет присматривать Тарас, – тоном, не допускающим возражений, сказала Оля Арланову.
Корову Ятросовой к радости Лизук перегнали на новый двор Таймановых.
А Семен готовился снова оставить семью и уехать. Плаги в позапрошлом году провожала мужа в город на неделю, а он пропадал там в сто раз больше. Домой хотя и вернулся, но побыл-то всего десять дней. Сынишка толком и привыкнуть-то к отцу не успел, даже дичился немножко.
Семен сначала огорчился. Только на третий день после приезда отца пятилетний Вася впервые крикнул:
– Атте!
Семен был в восторге, ему казалось, что сын только что появился на белом свете. С этого дня сердце Семена! настежь распахнулось и для сына и для его обездоленной матери.
Плаги почувствовала, что Семен заметно к ней изменился, но почему-то не радовалась. Накануне отъезда мужа в город она поплакала в одиночестве. Лишь насухо вытерев лицо передником, вошла в избу. Семен вырезал ножом игрушечное ружье для сына.
– Семен, послушай, – начала Плаги, – до сих пор я ревности не показывала. Ни одного слова не говорила против. И сейчас не скажу. Хочу тебя попросить об одном…
Семен отложил незаконченную игрушку. «Очень добрая душа Плаги, мать моего сына. Сама душою как ребенок. А я ведь всегда был холоден к ней… Из-за Шоры… Никогда не хотел согреться ее теплом».
Семену вдруг захотелось обнять и приласкать жену.
Плаги замолчала, будто надеясь услышать от мужа какие-то необходимые ей сейчас слова. Она не почуяла, что внезапно нахлынувшая нежность мешает ему говорить. Плаги решила высказать все, что задумала.
– Я давно знаю, что ты любишь майру. Теперь в городе, поди, будете жить вместе. Живите. Если ты до сих пор не любил меня, то я уж не смогу теперь привлечь тебя, заставить полюбить. Об одном прошу – ради бога, не показывайтесь на глаза нашим сельским вместе с майрой, чтоб здесь, на селе, не ходили о пашей семье плохие слухи. Сама не знаю, куда мне теперь деваться? Ваську надо вырастить и вывести в люди. Лишь бы не получилось так, что услышит сынишка злые толки и скажет: «Нету у меня атте!»
– Зря говоришь, Плаги. Никакой майры у меня нет, – возразил Семен, подавив нежданную грусть.
Плаги молча положила перед мужем на стол гребенку. Она хотела сказать: «Нюрину расческу нашла в твоем кармане, когда взяла зашить», но не могла произнести слова.
Семен понял все, опустил голову и, посидев какое-то время молча, печально произнес:
– Да, это Нюрина гребенка. Но я говорю правду. Нюры нет больше на свете. Только эта гребенка осталась на память. Да и она сохранилась потому, что случайно в тот день, когда Нюра погибла, эту гребенку воткнула себе в волосы Анук.
Стараясь быть понятым Плаги, а может, и потому, что до сих пор ни с кем не делился своим горем, Семен начал говорить и не мог остановиться. Подробно и по порядку рассказал он бедной Плаги историю своей любви, вспомнил и о том, как провожать его на войну Нюра приходила в Кузьминовку. Когда он передал, что сказала ему Нюра в лесу, сочувствуя Плаги и Васе, жена Семена не могла сдержать слезы: одна за другой текли они у нее по щекам.








