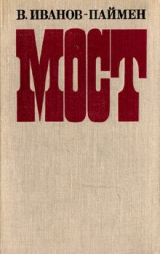
Текст книги "Мост"
Автор книги: Влас Иванов-Паймен
сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 32 страниц)
Мурзабай давно убедился: живое существо рождается на землю только для мучений. Если взять человека, то он, преодолевая страдания, утверждает справедливость, к чему-то дельному стремится… Исходя из этого, Мурзабай одобрял когда-то христианскую религию.
«Есть бог или нет, а законы веры для рода человеческого благотворны», – думал он частенько.
После гибели Назара он не мог рассуждать спокойно. Даже и месяц спустя его перепутавшиеся мысли не пришли в порядок. Мурзабай и свою Угахви напугал, и людей удивил.
А приход Уксинэ совсем потряс его.
Уксинэ, его родная дочь, не захотела нести долг жены!
И не с матерью, а с ним советовалась, с самым когда-то близким ей человеком в родном доме. Уксинэ хотела бросить мужа и вернуться к отцу.
– Рядом с собой Саньку видеть не могу, брезгую, – объяснила она.
Тогда-то Мурзабай и прогнал навсегда любимую дочь. Сам от жалости к ней едва не плакал, а словно взбесился:
– Брат твой из-за своей дурости головы не сносил, теперь ты снова из-за дурости своей хочешь и себя и отца осрамить. Я не неволил тебя: сама согласилась. Терпи теперь! Роди ребенка! Не смей отказываться от женской доли. Коли не слушаешь меня, то и защиты возле меня не ищи. Хоть из села уходи, хоть прыгай в омут!
Ушла тогда, убежала Уксинэ и с тех пор забыла дорогу в отчий дом. Лишь оставшись один, Мурзабай заплакал, и все-таки не раскаивался.
Раскаянье пришло потом…
В тяжкое раздумье впала молодая женщина. Отчий дом стал чужим, а дом мужа как был чужим, так и остался. А муж хуже чужого! Куда деваться?! Только в омут и броситься!
«Отец велит терпеть. И Кидери терпит, а мужа тоже ненавидит, – успокаивала себя Уксинэ. – Скорее всего, прав отец. Он сказал – роди ребенка! Может, будет родное дитя, все по-другому покажется. И муж станет другим…»
Когда Саньку и Зар-Ехима призвали в Красную Армию, у Кидери уже был ребенок, а Уксинэ только его ждала. Они не провожали своих мужей через мост, не обливались слезами вместе с другими женами. Санька и Зар-Ехим, как и в прошлом году, неожиданно исчезли. Кидери, взяв ребенка на руки, разыскивая дурного мужа, пришла к Уксинэ. Смоляков все сделал, чтобы не оставить подруг наедине.
– Санька уехал в город пораньше, – обратился он к Кидери. – И твой муж от товарища не отстал, не бойся.
– Ваш Санька хитрый, – смело отрезала Кидери. – А мой муж глупый. Оттого что они отправились вместе, ничего доброго не будет, – добавила она.
Скоро по селу поползло позорное слово «беглец».
В прошлом году вся молодежь села скрылась в лесу, и никто не говорил такого стыдного слова. Люди не признавали власти белочехов и учредиловки, на мобилизацию отвечали тем, что селами прятались по лесам. Советская власть народу – своя, и потому тех, кто скрывался от мобилизации, прямо называли «беглецами», а от их жен отворачивались, ругали «дезертирками».
Кидери не приняла на свой счет этого жалкого и горького прозвища.
– Весь позор падет на рыжую голову Ехима, я за него не в ответе, – сказала дерзкая Кидери намекнувшей на ее несчастье соседке. – Только пусть теперь ко мне не заявляется, колотушкой голову размозжу, – пригрозила она.
Уксинэ сторонилась людей, мучила себя, ни на минуту не забывая: «Жена беглеца. Дезертирка».
«Пусть будет врагом, яростным офицером, как Назар, но нельзя быть беглецом, трусом», – мысленно обращалась она к исчезнувшему мужу.
Иногда Уксинэ начинала себя успокаивать:
«А может, впустую болтают? И народная молва не всегда оказывается верной. Может, что-то с ним произошло такое, чего никто не знает. И все разъяснится».
Человек широкой души, если он силен духом, борется за доброе дело. Слабый это доброе дело творит лишь в мечтах, – представляет осуществленным то, чего и не было, и тем обманывает себя. Жизнь не щадит наивных мечтателей, со временем раскрывает им глаза. И тогда правда убивает слабых.
Не было от мужа вестей, поэтому надежды Уксинэ на хороший исход еще продолжали таиться в сердце, она утешала себя. Очень уж не хотелось видеть мужа «беглецом», трусом.
Первую весть принесла Праски. Вернувшись из Самлея в Чулзирму, она, запыхавшись, прежде всего побежала к Кидери.
– Из-за твоего мужа к моей племяннице пристала падучая, – крикнула она еще с порога, а потом начала рассказывать по порядку: – Семья моей сестры живет в конце деревни, у самого леса. Сестра и муж с утра пошли за дровами в лес на зиму. Семилетнюю дочку оставили дома с соседской девочкой. И к ним во двор из леса ворвались три беглеца. Один из них велел племяннице показать погреб, а двое пытались изнасиловать дочь соседей. Вдруг откуда-то объявились… партизаны, что ли. Двух беглецов расстреляли прямо на дворе, а дочь сестры с перепугу тут же повалилась без сознания. Теперь вот падучая болезнь привязалась…
Кидери не сразу поверила словам Праски.
Посмотрев ей в глаза, спросила:
– А не заливаешь, Праски? С тобой это бывает…
– Ей-богу, не вру, – перекрестилась Праски, – не по слухам говорю, сама видела. Как раз прибыла в Самлей во время похорон: Саньку признала. Другой, должно быть, русский из Заречья. Сказали, что выследил их тоже зареченский, Чугунов по фамилии. А того третьего, кто лазил за племянницей в погреб, никто не заметил, невесть в какое время сбежал. Соседская девочка тоже вначале язык потеряла, слова вымолвить не могла. Потом, когда заговорила, я поняла, что третий был Зар-Ехим. И Ульга запомнила его рыжую голову…
– Кому еще быть, как не ему, – подтвердила, подумав, Кидери слова Праски. – В прошлом году в подполе от смерти спасался, сейчас в погребе. Если б его расстреляли, я бы даже не вздохнула. А то останется в лесу один и совсем человечий облик потеряет. Один и ни на что не способный. Рождаются же на свет такие дураки, да еще их женят…
Кидери побежала к Уксинэ. Сразу, как только вошла во двор, столкнулась с хозяином.
– Небось к сношеньке пришла. Она сейчас побаливает. – Смоляков загородил путь Кидери.
Она ничуть не струсила.
– Конечно, не к тебе! Уйди с дороги, эсремет. Сына своего на смерть послал. И моего мужа погубил. Теперь над Уксинэ измываетесь, – глядя торговцу прямо в глаза, резала правду Кидери.
Когда нужно, безрукий лавочник понимал по-чувашски. И почему-то озлобленной Кидери он тут же уступил дорогу. Сам затревожился:
«Уж не о Саньке ли с его друзьями что знает? Надо было расспросить…»
И Смоляков решил дожидаться во дворе, пока Кидери выйдет из дому.
– Пожалуйста, скажи, Кидери, что слышала. Что, весточку какую получила? – сладким голосом спросил он, остановив бежавшую было прочь жену Зар-Ехима.
Та хотела было промолчать, уйти, но у самых ворот остановилась:
– За весточкой езжай в Самлей. Я своими глазами не видела. Люди говорят, что дезертиров всех поймали и расстреляли.
Смоляков сразу не поверил.
«И чего это она на меня злится? – недоумевал он, глядя вслед Кидери. – Зачем так наврала. И все же надо проверить, спросить Уксинэ, что ли?»
Постоял у двери в комнату Уксинэ, прислушался – тишина. Так бы не было, если что случилось.
Смоляков сам не уговаривал сына бежать в лес, однако задумка его была отцу известна. Знал он, но помалкивал. Поэтому всегда все-таки чувствовал себя перед брошенной Уксинэ немного неловко. Сейчас зайти к снохе он побоялся, попросил жену.
– Что-то пишет, на меня даже и не оглянулась, – донесла та, выйдя из комнаты Уксинэ на цыпочках.
Растревоженный хозяин решил все-таки подождать, когда выйдет Уксинэ, узнать у нее – зачем забегала Кидери.
Вдруг по дому разнесся душераздирающий стоп. Почти нечеловеческие крики следовали один за другим без передышки.
Смоляков растерянно продолжал сидеть.
– Ай, боже мой! – закричала толстая майра. – Наша сношенька рожает… Да еще до срока. А ну, вон из дома! – и вытолкала мужа во двор.
…Недолго пришлось Тражуку работать в укоме агитпропом. Из губкома пришла бумажка: его вызывали в Самару. Воробьев прислал Тражуку еще и частное письмо: «К октябрю опять открываем школу. Зимой, что ни говори, война стихнет или прекратится вовсе. Деникин застрял в районе Орла и Воронежа. Красная Армия начала теснить его к югу. Ты временно будешь директором школы. Позже, как найдется человек, тебя откомандируем в Москву учиться. Собирайся основательно, обратно в город вернешься не скоро. Заезжай в родное село. Даю тебе неделю срока, чтобы смог утрясти все свои дела… Бороду теперь, если надоела, можешь и сбрить. Усы оставь, они придадут тебе солидность».
«Ну и человек этот Иван Васильевич! – как всегда, удивился Тражук. – Пишет о деле и тут же, как всегда, весело подтрунивает».
Тражук решил по совету Воробьева перед отъездом проститься с матерью. Переехав мост через Ольховку, Тражук захватил нехитрые свои вещи, а подводу отправил обратно – в город. Он решил зайти сначала на кладбище – посмотреть на могилу отца. И здесь, совершенно неожиданно, издали еще заметил Мурзабая.
Павел Иванович, склонившись, стоял перед свежим холмиком.
«Жену, что ли, похоронил, бедолага? Как убит-то, головы не подымает, руками лицо закрыл. Кто бы мог подумать, что дядюшка будет так печалиться? Он же не любил тетушку Угахви».
Тражук тихо подошел к Мурзабаю и стал рядом. Тот даже не пошевелился. И Тражук не сказал пи слова. Он бросил взгляд на крест, прочел надпись на прибитой дощечка. Что это? Нет, не «Агафья»?! Имя зарытой в землю женщины полоснуло по сердцу.
Тражук застонал.
– Нет, не может быть… Уксинэ?!
Убитый горем старик поднял голову, искоса посмотрел на Тражука.
– Опоздал ты, братец! – вымолвил он с трудом, тяжело вздохнув. – Поминают ее сейчас, да только чужие люди. Не пошел я. Не могу!.. Есть и пить… А она в могиле… И ты не ходи! Перед смертью только нас двоих с тобой она и вспомнила. Оставила письмо, отослать не успела… Нашел сам у нее под подушкой…
Мурзабай каким-то деревянным движением вынул из кармана конверт и подал Тражуку.
– Горит душа, пойду к Красному Яру, попью воды из родника, – пробормотал он и зашагал через кладбище.
Тражук остался один.
Почему-то он не торопился распечатать и прочесть письмо, никак не мог и не хотел поверить, что Уксинэ, написавшая его, лежит перед ним, Тражуком, под землей.
Перед ним предстал живой облик Уксинэ. Надела белое платье, чтобы идти под венец, лицо печальное, глаза закрыты ресницами.
Встань, открой глаза, Уксинэ! Скажи хоть слово, назови меня, как прежде, «Тражук мучи», сверкни улыбкой. Нет, не улыбнется никогда Уксинэ, никогда! Да можно ли поверить?!
Тражуку тут же вспомнилась другая Уксинэ – Уксинэ-девочка! Смеется, разговаривает, но в глаза не смотрит… Отвернулась, насмешливо говорит: «Ну и нашел! Это же читают старики. Ладно уж, Тражук мучи, читай. Может, станешь умным, как мой отец. Читай, да смотри не свихнись, как мой дядя Тимук!»
«Читай, да не свихнись!» Раз, еще раз повторил Тражук эти слова и все никак не мог распечатать письмо.
Вышел на дорогу и медленно побрел.
Тражук, кажется, и правда тронулся умом. В Чулзирму почему-то не пошел, а свернул к мосту, как будто направился в Заречье. Дойдя до середины моста, остановился, прислонился к перилам.
Течет и течет вода под мостом. Сколько лет, сколько веков и тысячелетий спешит Ольховка все в одном направлении – с востока на запад? Днем и ночью, каждое мгновение! Не такова ли и человеческая жизнь? С восхода течет к закату, дни и ночи без остановки. Дни и ночи! Что протекло – не вернешь обратно. Детство протекло, протечет – она на исходе – и юность. Как река… Да нет, человеческую жизнь с рекой но сравнить. Река – не убывает, а жизнь человека с каждой минутой тает. Неожиданно оборвалась жизнь Уксинэ. Тражуку на миг померещилось, что со смертью Уксинэ и река пересохла и село обезлюдело…
И на мосту не вскрыл конверта Тражук. Спрятал его в кожаную сумку, что висела через плечо.
«Читай, да не свихнись умом!»
С этой мыслью Тражук добрался домой и немного успокоился. Что написала Уксинэ в письме? Когда написала? Мурзабай сказал – «перед смертью». Откуда она знала, что умрет? Нет – это не самоубийство. Мурзабай промолчал, но люди сказали – «умерла от преждевременных родов»…
И наконец Тражук решился прочитать.
«Тражук, я тебя, может, больше не увижу. Может, на самом деле не увижу тебя. Ты единственный человек, который любил меня. И только перед тем как уехать из села, открылся в своей любви. Если бы признался раньше, не знаю, что бы произошло. Я сама, говорю тебе прямо, никогда никого не любила. Я не могу сказать, что меня насильно выдали замуж, я сама, не обдумав всего, согласилась. Потом постаралась полюбить мужа… Моя жизнь, оказывается, была разбита еще до ее начала. Ее уже ничем не исправить. Только что побывала у меня Кидери. Она сказала, что наши мужья-беглецы расстреляны. Не хочется жить женой труса, дезертира. Сейчас же наложила бы на себя руки, однако не могу вместе с собой погубить еще одну душу…
Счастливый ты человек, Тражук. Спасибо тебе, Тражук, за твою любовь ко мне. Наверное, никто на белом свете, кроме тебя, меня не любил. Даже те меня не любили, кого я сама любила, отец испортил мне жизнь, выдал меня замуж и забыл обо мне…
Ладно, не о том хочу написать тебе. Повторяю: счастливый ты человек, Тражук. И самана теперь в твою пользу. От всей души желаю тебе – будь счастлив! Кидери тебя любит с самого детства. Может, даже поэтому я никогда не думала о тебе. Привыкла к мысли, что ты суженый Кидери, ее жених, а позже чуть даже подсмеивалась, называя тебя женихом Кулинэ. Прости за это.
Тебя никто так не полюбит, как любит Кидери, и с ней ты будешь счастлив. Сердцем своим чувствую это. И я была бы счастлива с полюбившим меня человеком. Нет, по ошибке родилась я на белый свет, не принял он меня…
Отцу и матери я не так верю, как тебе. Если вдруг сиротой останется мой ребенок, не забудь, не бросай его – сироту. Ты – человек нового времени, пусть он вырастет похожим не на Саньку, а на тебя.
Кидери тоже – счастливая. Она знала, что ты меня любил. И все же ко мне не остывала. Кроме тебя, меня любила одна лишь Кидери. Как только соедините свои жизни, положите на мою могилу букет цветов. Я хоть на том свете порадуюсь».
Перед уходом письмо Уксинэ с запиской к Кидери оставил у матери, завернув в чистый лист бумаги.
– Если заглянет Кидери и спросит обо мне, передай ей вот это.
– А если сама не придет, отнести, что ли? – спросила Сабани.
– Не придет – не надо. Пусть будет у тебя до моего возвращения.
Тражук не успел еще дойти до могилы Уксинэ, как Кидери уже прибежала к Сабани:
– Ушел?!
– Ушел. Для тебя оставил бумаги…
Кидери, обливаясь слезами, прочла письмо Тражуку от Уксинэ, затем – записку от Тражука:
«Правильно, Кидери, слов больше не надо, пусть пройдет время. Сейчас все равно нет цветов, чтобы положить на могилу Уксинэ. Весной сходим вместе, как она просит. До весны, если ничего у тебя не изменится, жди! И я получше проверю себя. Как только заскучаю по тебе, вернусь и пойду к Красному Яру собирать цветы».
– Ухмах! – как и в прошлые годы сказала Кидери.
Однако на этот раз в ее голосе не было обычной резкости.
Сабани ничуть не обиделась, хотя поняла, что Кидери говорит о ее сыне. Она продолжала безучастно возиться у печи.
Вскоре после ухода Кидери прибежал Тарас, сын Захара Тайманова. И узнав, что Тражук пичче уже ушел, горько расплакался, будто не застал родного отца или брата.
14Ни обильные возлияния кумышки, ни забор одиночества, которым долго отгораживался Мурзабай, не помогли ему спрятаться от бури саманы. Напоследок нагрянула она, нежданная, и крепко потрепала.
Троих детей вырастил Мурзабай: одного сына и двух Дочерей. И еще вырастил он племянника – сына покойного брата. Трое разлетелись из дома Мурзабая, не осталось и следа. И каждый нанес его сердцу жестокую рану.
В том, что Семен и Назар отбились от рук, Мурзабай себя не винил. Само время виновато. В смерти Уксинэ повинны и время и женская судьба. Однако за гибель дочери Мурзабай корит только себя, не выходит у пего из памяти письмо Уксинэ: «Эх, отец, отец! Я тебя любила больше всех, почитала как бога. С тобой говорила о том, о чем не говорила с мамой. Не услышал ты моих самых горестных слов, запер для меня ворота своего сердца, не оставив открытой даже калитку, чтобы я могла войти. И куда теперь мне деваться? Для меня нет нигде родного дома, родного человека. Послушавшись тебя, решила родить. Отец не увидевшего еще свет ребенка погиб, совершив подлость. Как жить?! Приказав терпеть, ты оставил меня без сил, без надежды. Твоим последним советом было – «бросайся в омут»…
Дальше Мурзабай читать уже не может. Письмо от любимой дочери!
Да, Мурзабай не прислушался ни к словам Уксинэ, пи к словам Анук. Чтобы сохранить добрую славу о себе, убоявшись людской молвы, не принял обратно в дом дочь, которая нуждалась в заботе и защите.
Теперь вспоминаются ему слова Анук Ятросовой.
«Старики сказали, да сами поумирали. Молодым сейчас жить надобно… Старики не ведали нашей жизни». Как отец, умна дочь Ятросова. Они умны рассудком саманы. Мурзабай же умудрен лишь опытом стариков, старался жить обычаями и правилами прошедшей, сгинувшей жизни.
Недели через три после похорон дочери Мурзабай немного пришел в себя.
Другими стали казаться ему устои жизни. Мир перевернулся вверх дном. Он это чувствовал давно, но гнал эти мысли от себя. Возможно, что этот мир и прежде стоял вверх тормашками? Как бы там ни было, своеобразие саманы Мурзабай определил по-своему и думал:
«Белое почернело, задние вышли вперед». И действительно, но так ли?
Был бог, теперь его не стало. Тражук был батраком, теперь о и – комиссар, Мурзабай слыл хозяином, теперь он сам как работник: сеет зерно, растит хлеб и без всякой оплаты сдает в город, Семен был родным, теперь он чужой. Мирской Тимук – самый надежный батрак, теперь он… Кто он такой, кем теперь приходится хозяину, он убедился совсем недавно.
Ум-разум Тимука, его сокровенные думки до сих пор никто не знал. В одно время Мурзабай решил было через пего быть в курсе всех дел Совета. Тимук же, нарушив волю хозяина, решился на такой шаг, что Мурзабай вообще отвернулся от бывшего батрака.
Мурзабай решил больше не держать работника. Зачем это надо? Хозяйство, сколько ни старайся, все равно рушится и разваливается. Новая власть призывает к уничтожению богачей. Заслуг Мурзабая новая власть не поняла. Пускай себе! И Мурзабай может, не переваливая за уровень середняка, выращивать хлеба ровно столько, сколько ему и его семье надо. Вот он и засеял поле лишь около Камышлы. И жить намеревается переехать туда с семьей. Семья – это жена и старшая нелюбимая дочь.
И Тимуку Мурзабай предложил уйти, выделив от своего имущества определенную часть. Почему-то воспротивилась Угахви. Да и Тимук никуда уходить не желает.
То-то же Мурзабай, оказывается, не знал настроений Тимука, его взглядов на жизнь. А Тимук-то больше самого хозяина печется о его хозяйстве. Душой он больше кулак, чем хозяин. Не случайно он вместе с Хаяр Магаром поехал к Колчаку выручать хозяйские деньги. Даже возвратись из тюрьмы, ради приумножения хозяйства Тимук старался больше самого Мурзабая. Обмолачивал его молотилкой хлеб другим, собрал зерна больше, чем Мурзабай полагал. Не для хозяина старался Тимук, а для себя.
В будущем расцвете крестьянского хозяйства он не сомневался, не то что Мурзабай. По убеждению Тимука – сельский богач не будет сметен, никакая революция его не уничтожит. Среди крестьян равенства никогда не достигнуть – Мирской Тимук в этом был уверен. Пусть, скажем, у каждого мужика останется одна лошадь, одна корова, десятина земли. И лошадь, и земля попадаются разные. А люди еще более разнятся между собой: один работящий, другой ленивый, один умен, другой глуп. Даже на базаре каждый ведет себя по-своему. Один может приумножить деньги, а другой пустит их по ветру…
Не вечно так будет, чтобы власть давила на богатых. Кончится война, жизнь войдет в русло, и сельские богачи снова получат волю.
Так бы примерно рассуждал Мирской Тимук, если б его вызвать на прямой разговор. Однако в мире еще не родился человек, который смог бы вызвать этого дикаря на откровенность. Даже его единомышленники-друзья – Смоляков и Хаяр Магар – не вполне знают планы и не целиком понимают мысли Тимука. Мурзабай же совсем ничего про Мирского Тимука не ведает.
Поначалу Мирской Тимук боялся Назара, родного сына хозяина. Но Назар бесславно окончил жизнь. Позже, когда белые стали снова приближаться, Тимук решил повременить.
Вернется старая власть, и хозяин снова наберет былую силу и со своим бессловесным работником сможет поступить невесть как.
Пускай уж побеждают красные. Советы защитят батрака, обязательно… Тимук решил подождать весны. А весной, вместе с товарищами совершив непродуманный шаг, угодил в тюрьму.
К осени, когда из тюрьмы вернулся в село, Тимук спешно принялся за свою незаметную работу. Как раз время приспело. Хозяин дома не живет. Советская власть, как бы там ни было, еще с год продержится. В течение года можно многое успеть.
И дела, как нарочно, шли согласно ненасытным устремлениям Мирского Тимука.
Внезапная смерть Уксинэ приблизила долгожданный день Тимука, помогла ему сделать последний шаг. Тимук решил словом добить раздавленного горем хозяина.
Когда наступил праздник Казанской божьей матери, Тимук надел синюю сатиновую рубаху, помазал волосы маслом и без зова ввалился в горницу.
Кулинэ и Угахви наряжаться побоялись: со дня смерти Уксинэ не минуло и месяца.
Угахви на кухне готовила завтрак, Кулинэ, ухватившись за ручку двери, прислушивалась к тому, что могла уловить. Как только в передней комнате загремит голос отца, она удерет за ворота. Угахви не думает отступать, ради счастья Кулинэ она готова даже насмерть схватиться с сумасшедшим мужем. Может, поэтому она и не выпускала из рук чапельника.
Тимук уже минут десять как прошел к хозяину, никаких воплей не слышно. Кулинэ осмелела, припала к двери вплотную, приложила ухо к щелке. Мать пригрозила ей сковородником и отогнала прочь.
Кулинэ боялась, что расшумится отец. Теперь Угахви перепугалась – до них не доносилось никаких звуков. За тридцать лет она уже хорошо изучила мужа. Если Мурзабай сверх меры сердит, то он кричать не будет. Целую неделю пи с кем словом не перемолвится. Хоть бы закричал, что ли, как в прошлом году: «Зарежу!»
Мурзабай молчал. Дверь комнаты распахнулась. Хозяин дома тщательно оделся, словно собрался в дальнюю дорогу. Ни на кого не посмотрел, никому не сказал ни слова. Когда хозяин вышел из дома, женщины пытали жениха, выступившего перед Мурзабаем сватом за себя самого.
– Что произошло? Почему молчит? Куда собрался уехать?
– Постойте, постойте! – проскрипел Тимук, не трогаясь с места. – И без вас я закружился, как порченый баран.
Угахви забеспокоилась, прошла в сени, приоткрыв дверь во двор, принялась наблюдать, что там происходит.
– Он же ответил все-таки? – допытывалась Кулинэ. – Ты, боюсь, не все сумел рассказать ему, что между нами было?!
Тимук в сердцах оттолкнул расстроенную Кулинэ.
– Дура! – закричал он, – Не только о том, что было, и о том, чего не было, сказал. Сказал, что ты понесла от меня. Пока не испугаешь, с твоим свихнувшимся отцом по договоришься. Он сначала засмеялся так тихо и сказал: «Ты не жених Кулинэ, а жених Угахви». Когда я сказал о ребенке, он прикусил губы.
Угахви, вернувшись из сеней, услышала последние слова Тимука. Смуглая лицом и никогда не смущавшаяся женщина вдруг почему-то стала багровой.
– Пойди-ка, отец-то коня запрягает, – бросила она дочери. – Посмотри, в какую сторону поедет. Иди! Иди! – Она настойчиво выпроваживала дочь за дверь.
Угахви и Тимук остались одни. Жена Мурзабая, намного превосходившая ростом Тимука, схватила будущего зятя за шиворот и злобно потрясла.
– Заткнись, – прошипела Угахви. – Когда молчишь – медведь, а коли заговоришь – верблюд. Будешь лишнее болтать – удушу тебя подушкой.
– Не я, не я, Угахви, – запищал Тимук. – Он сам так сказал! Он сам!
Скрипнули порота. Тимук выбежал на улицу и успел заметить, куда свернул Мурзабай.
«Не через маленький мост, а через большой поехал. Видать, в Вязовку, к Ятросову», – решил он.
– Лишь когда сказал о ребенке, удалось уговорить. Без этого ни за что бы не согласился, – нахально осклабясь, сказал Тимук, вернувшись в дом.
– Атте согласен?! – обрадовалась Кулинэ.
– Можно сказать, согласен. Перед уходом выговорил лишь одно слово: «Валяйте!»
Другое слово, которое сказал Мурзабай женщинам, Тимук не передал. Тот злобно бросил: «По собачьи валяйте!» И еще несколько слов прошептал он невенчаному зятю:
– В Камышле не вздумайте появиться. Для берданки приобрел картечь на волков.
Тимук решил, что хозяин выехал из ворот с тем, чтобы никогда не возвращаться. Ни Угахви, ни Кулинэ об этом пока можно и не говорить…
– Валяйте, сказал? Что же будем валять-то? – развела руками Угахви. – До заговенья можно было бы окрутить, да играть свадьбу – грех. Сразу после похорон одной дочери выдавать другую замуж – перед людьми стыд. А не поспешить… может твоя вынужденная ложь, Тимук, правдой оказаться, – растерянно говорила Угахви.
– Венчаться не будем, справлять свадьбы не станем, – Тимук не дал докончить матери Кулинэ. – Запишемся в книге Совета и начнем жить по новому закону. Никто и знать не будет, когда записались.
Таким образом, обычай сочетаться браком по новому закону в Чулзирме начали дочь Мурзабая и его работник. Хотя сам Тимук и не верил в бога, но после этого обряда встал на колени и долго молился за окончательную победу Красной Армии, за то, чтобы власть Советов закрепилась навсегда.
Мурзабай в душе уже начал было мириться с неожиданно нагрянувшей бедой. Но тут же вскипело, взбунтовалось его сердце. Им овладело желание размозжить голову Тимуку, а Угахви и Кулинэ схватить за косы, выбросить за ворота…
Но он попытался успокоиться.
«Нет. Терпи, Мурзабай, терпи! Любимую дочь призывал терпеть, терпи и сам. Пусть они живут по-собачьи. Мне бы самому не потерять человеческого обличья».
Вот так закрылись для Мурзабая ворота жизни, долга и чести, не закрылась бы еще хоть маленькая калитка. Две цели призывали его жить дальше: первая – внук, ребенок Уксинэ, вторая… вот из-за нее и решил внезапно Мурзабай заехать в Вязовку.
В Ключевке Павел Иванович со дня образования там волостного центра ни разу еще не был. При въезде в село через дорогу на высоких столбах трепетало красное полотнище аршинной ширины:
«Да здравствует, хлебная монополия!»
«Хлеб, хлеб, хлеб нужен государству. Кто его посеет и вырастит? Пусть растит Тимук. Я, как Хрулкки, стану разводить только черную малину», – усмехнулся Мурзабай, проезжая под плакатом. К центру села такие полотна попадались все чаще. Развевались красные флаги. А что случилось? В честь чего торжествует Ключевка? Спросить бы у кого-нибудь. По он догадался сам, без расспросов.
«Ведь после Казанской настает праздник Советской власти. Наверное, готовятся отметить вторую годовщину новой саманы».
Перед двумя красивыми домами-двойняшками Попова снует народ. На этом месте Мурзабай почему-то остановил копя. На широкой, как ворота, доске аршинными буквами начертано: «Бедность не порок».
«Только это вам теперь и остается говорить, – Мурзабай принял название пьесы за лозунг. – Чахрунов вы видеть не желаете, не замечаете…»
– Да пропади пропадом! Павел пичче! Куда едешь? – вдруг окликнул Мурзабая женский голос.
– А, что? Куда еду? Куда… В Камышлу еду, – растерялся Мурзабай.
Женщина громко рассмеялась, лишь тогда Мурзабай признал Анук.
– Ты что, Павел пичче, среди бела дня без всякого бурана заплутался? Кто же ездит в Камышлу через Ключевку? Это получается: в Таллы через Киев.
– Ну, попутно, попутно решил заехать к Симуну. – Мурзабай сам понял, что такое объяснение – нелепо. – Еду к твоему отцу. А оттуда прямиком – в Камышловку, через мельницу, через мельницу.
Анук сразу стала серьезной.
«Что случилось с Мурзабаем? Что-то он, бедный, не то болтает. Может, после смерти Уксинэ стал заговариваться?» – Анук, не долго думая, вскочила в тарантас и села рядом.
– Дай-ка сюда вожжи, Павел пичче. Поедем с тобой на квартиру Семена Тимофеича.
– Ради чего это вы аршинными буквами стали прославлять Чахруна? – Мурзабай снова удивил Анук.
«Что он несет, бедный. Не отвезти ли в больницу?» – забеспокоилась Анук.
– Ты это о чем, Павел Иванович? Я по своей женской глупости не могу попять, – попыталась Анук шутить. – Ты небось что-нибудь загадал? – Анук говорила с ним ласково, как с ребенком.
– Да вон, вы ни с того ни с сего написали: «Бедность не изъян». Лучше бы уж так призывали: «Долой богатство, да здравствует бедность!»
Анук поняла.
«Нет, в здравом уме этот несгибаемый человек. Наоборот, еще подсмеивается».
Она невольно обрадовалась и принялась охотно объяснять:
– Семен Тимофеевич измучился, когда переводил на чувашский слово «порок». Все он перебрал: вред, бесчестье, позор… А ты вон, одним махом перевел. Брось свое хозяйство, присоединяйся к нам! Будешь у нас главным переводчиком, или, если пожелаешь, можем назначить комиссаром земледелия…
Мурзабай совершенно спокойно и обстоятельно рассказал ей, что бросил свое хозяйство. Анук хохотала чуть ли не до потери сознания.
– Выходит, и ты, как царь Николай, отрекся. В честь выхода из богачей надо было бы манифест издать: «Мы-де, Павел Первый, отрекаемся от богатства и на свое место ставим Тимука Первого…»
Семен, когда узнал от Мурзабая все, что произошло, смеяться не стал.
Они всю ночь не сомкнули глаз, беседовали: Семен сразу же, как только Анук пришла в райком и сказала ому, что отвезла к нему Мурзабая, прибежал на квартиру. Увидев до неузнаваемости состарившегося за два года Мурзабая, Семен не стал раздумывать, взволнованно обнял гостя. Мурзабай размяк, не выдержал – и вдруг заплакал.
Во время беседы в течение всей ночи Семен сумел кое-что объяснить Мурзабаю, и новые порядки перестали старику казаться уж такими нелепыми.
Дядя и удивил Семена, и порадовал. Оказывается, он читал и Ленина. Много размышлял о будущем сельского хозяйства. Он отвергает коммуны, не как кулак, не от жадности и ненависти, а по другой – ошибочной, но глубоко продуманной причине. В Камышле он, как Ятросов, хочет выращивать небывалые ягоды. В меру своих сил хотел бы возделывать там землю, вывести такой сорт пшеницы, не поддающийся суховею. Посоветоваться обо всем этом он и едет к Ятросову.
– Стремление жить, принося пользу, окрыляет, – сказал Семен. – Когда в жизни находишь свое место, то и мир кажется краше.
Эти слова не были Мурзабаю откровением. Мурзабай и сам всю жизнь думал так. И пользу народу приносил. Однако эту пользу теперешняя власть не оценила, не одобрила…








