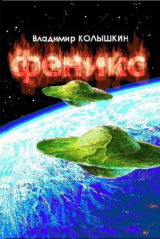
Текст книги "Феникс (СИ)"
Автор книги: Владимир Колышкин
Жанры:
Космическая фантастика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 31 страниц)
– А то что было бы?
– Объемный взрыв, – коротко отвечает энтомолог, чем повергает меня в шок.
– Оборонная жидкость этого жука легко воспламеняется, как аэрозоль, распыленная из баллона. Последствия могли быть ужасными! Вплоть до полного уничтожения людей. Мы все сгорели бы заживо.
– Боже! – взываю я к небесам в смятении. – Как же нам действовать впредь в подобной ситуации?
– Не подпускать жука к костру, отпугивать его еще на подступах к лагерю... или не разводить костры. Другого ничего не могу посоветовать.
– Не разводить костры мы не можем. Иначе заплесневеем от сырости, да и всухомятку питаясь, далеко не уйдешь... Значит, придется еще усилить охрану. Хотя она и так усилена, дальше некуда. Разве что осталось окопаться и принять перманентную круговую оборону... Надеюсь, жуки другой разновидности менее опасны?
– Ну, как вам сказать... В пожарном отношении – да. Зато, например, жук-майка сильно ядовит. 30 грамм его яда убивает человека. И если попадется его гигантский прототип, то сами понимаете...
– Ясней не бывает, – удрученно киваю головой. – Что же это, теперь нам придется шарахаться от каждого жука?
– Ничего не поделаешь, батенька, – вздыхает ученый энтомолог, сербая суп. – Они здесь хозяева, а мы – гости.
Опять блаженный покой охватывает меня, когда все хлопоты дня позади, и я ложусь спать.
Мировому Разуму, думаю я, все равно – в прошлом ли, в будущем ли развивается цивилизация, лишь бы она развивалась. Подходящих планет действительно не так уж много. Нужно заполнять разумом все возможные временные отрезки. А от воздействия на будущее мы очень надежно ограждены. Грядущие катаклизмы сотрут все следы нашего пребывания на планете так же чисто, как это делает ластик, стирая рисунок с бумаги. Но к тому времени мы уже сможем колонизировать полгалактики!..
Глава двадцать вторая
КОНТРЫ
Глупец я или злодей, не знаю; но то верно,
что я также очень достоин сожаления.
Лермонтов, «Герой нашего времени»
32-й день 1 года Э.П. Пятый день пут.
Позавтракав и затушив костры (мы охраняли их, как, наверное, не охранял огонь первобытный человек, не имеющий спичек), мы трогаемся в дальнейший путь. К тому времени наши слепые прозрели, контуженные оклемались, раненного в руку казака мы включили в число штатских лиц и отправили в центр колонны. По идее, с вычетом съеденных продуктов, наши рюкзаки должны были полегчать, но они почему-то сделались еще более неподъемными. Сказывается общая усталость. А ведь мы еще и трети пути не прошли. Ну, ничего, трудный путь закаляет тело и дух. По себе знаю.
Держаться достойно мне теперь очень помогают ежедневные мои многокилометровые прогулки, которые я, с пунктуальностью англичанина, совершал в не наступившем еще ХХ веке. С какого времени – не помню, но однажды взяв за правило: ходить по какому-нибудь маршруту пять, семь километров, неукоснительно выполнял его и в дождь, и в снег, и жару.
Мое положительное отношение к закалке организма ходьбой сложилось еще в ранней молодости, «когда я на почте служил ямщиком», то бишь почтальоном, вернее, доставщиком телеграмм. На телеграф я вынужден был устроиться работать, иначе бы меня выперли в детскую школу. Ведь я учился в ШРМ – школе рабочей молодежи. Так я ступил на трудовой путь. И вот что меня тогда особенно поразило: я – молодой, здоровый, семнадцатилетний парень, отбегав по городу полную смену, приплелся домой еле живой, так и не выполнив норму. Часа два или более отлеживался, задравши кверху ноги, до слез мучился от болей в икроножных и бедерных мышцах. На следующий день ходил в раскорячку и опять не выполнил норму, а некая бабушка-пенсионерка, ветеран телеграфного труда, неспешно семеня по городу на своих сухоньких, как у козочки, ножках, ежедневно досрочно выполняла и перевыполняла норму-часов. Я был устыжен. Я посчитал это вызовом. Но лишь позже уразумел, что все дело в ежедневной тренировке. До сих пор в ушах моих звучат слова, сказанные этой бабушкой-пенсионеркой: «Ты еще цветочек...». Елеем и миррой пахнут они.
Цветочек! Давно опали уж мои лепестки, скоро и плод сморщится окончательно. Вот и правое колено уже начинает побаливать (как ни ограничивай потребление соли, а она все равно откладывается), уже слегка прихрамываю. Конечно, тренировки – дело благое, но фланировать по тротуару порожняком – это одно, и совсем другое дело – тащится по предательски неровной почве с тяжеленным рюкзаком за плечами. И все же я уверен в себе – идти буду, сколько потребуется. А вот насчет Бельтюкова, например, такой уверенности у меня нет. Все-таки ему под шестьдесят. Он двигается явно через силу. Сегодня он от меня шестой в цепочке, но и на этом расстоянии мне отчетливо слышится, как он тяжело, с присвистом дышит, а иногда постанывает от напряжения. По-видимому, придется освободить его от рюкзака.
Эх, если б у нас была возможность взять с собой технику или хотя бы вьючных животных... Но техника здесь не пройдет – ни машина, ни вездеход. Не рубить же, в самом деле, деревья перед ними. А овраги? Как зачастят, как зачастят, объезжай их по несколько километров или наводи мосты. Нам бы здорово помогли лошади или пони. Но не привезли мы с собой скота – ни крупного, ни мелкого. По-моему, это большое упущение. А чтобы использовать крупных насекомых в качестве вьючных животных, мы еще такого опыта не накопили. Беговые тараканы только и умеют, что быстро бегать. Норова они совершенно дикого, поведение их непредсказуемо. Только вот один Аркаша попался с характером меланхолическим, покладистым, мы и взяли его для пробы. Кстати, после ночного налета мы нашли его, привязанного к дереву, мирно дремавшего. Вот это хладнокровие!
От головы колонны доносятся хлесткие рубящие удары мачете. Мы врубаемся в первобытный лес все дальше и дальше. А лес этот сумрачный для нас полон загадок и опасностей. Он живет своей повседневной таинственной жизнью, притворяясь, что не замечает вторгшихся пришельцев. Цикады неумолчно поют свои песни, от которых мурашки бегут по телу. Их стрекот напоминает звук циркулярной пилы. Иные издают звуки, не уступающие пронзительному свисту паровоза. Пение цикад во многих странах считается красивым. Я и сам так считал, совершая романтические вечерние прогулки по черноморским берегам Крыма и Кавказа. Но, попав в Пермский период (Боже! куда тебя занесло!), я уже готов перемениться во мнении. И действительно, просто оторопь берет от иного соло для лесопилки с оркестром. С оркестром кузнечиков и прочих стрекочущих, цвикающих и скрежещущих тварей. Лес шевелится их телами – большими и мелкими, играет всеми оттенками коричневого, желтого, зеленого цветов, мимикрирует. Некоторые насекомые притворяются листиком, веточкой. Другие, напротив, откровенно демонстрируют себя, свою яркую окраску, а стало быть, и ядовитую натуру свою. Клопы, которых здесь великое разнообразие, время от времени устраивают газовые атаки: агрессивно воняют, и мы идем, зажав нос.
Но все эти многообразные проявления жизни только поначалу охватывают, отвращают или пленяют ваши чувства. Постепенно ваше восприятие притупляется: мир звуков приглушает децибелы, мир цвета и форм тускнеет и сужается до плоского пятна, качающегося у вас под ногами. Вы смотрите лишь, куда поставить ногу, чтобы не споткнуться, не увязнуть, не запутаться в хитросплетениях воздушных корней и лиан. Тут уже не до любования красотами природы. Даже вездесущие тараканы и клопы не кажутся вам уже такими противными и вонючими, и вы вдыхаете влажный густой воздух и резкие запахи почти без отвращения. Только одно чувство мы поддерживаем в высоком рабочем состоянии – чувство опасности. Здесь расслабляться нельзя!
Через два часа непрерывного движения мы садимся отдохнуть под деревьями. Освободившись первым делом от рюкзака, я откидываю голову на шершавый ствол лепидодендрона, вдыхаю с облегчением и смотрю вверх, в зеленый хаос, надолго заменивший нам небо. Оттуда на лицо мне падает капля, потом другая, да все крупные. Капли равномерно шлепаются вокруг меня. Ну вот, вдобавок ко всем тяготам пути извольте получить еще и дождичек, а то, быть может, и ливень, огорчаюсь я.
Но у Ивана Карловича, наоборот, настроение поднимается. Он деловито достает из рюкзака кружку, ставит ее под капель и терпеливо дожидается, когда емкость наполнится. Энтомолог глядит на меня озорными глазами, как фокусник смотрит на болвана-зрителя, подмигивает мне с загадочным выражением лица. Я, смущенно улыбаясь, отворачиваюсь, мне непонятны его ужимки.
Дождик так и не пролился по-настоящему, все накрапывал да накрапывал. Через пятнадцать минут наш краткий отдых заканчивается, и мы, подхватив осточертевшую амуницию, снова пускаемся в путь. За это время кружка Ивана Карловича успевает наполниться почти до краев, и теперь он несет ее в руке, на ходу прихлебывая небесную влагу. Поравнявшись со мной, он протягивает кружку и предлагает мне попробовать. Я машинально делаю большой глоток зеленоватого цвета воды и с изумлением ощущаю, что она напоминает сладкий до терпкости сок довольно-таки приятного вкуса.
– Что это такое? – спрашиваю я в замешательстве. – Мне казалось, вы собирали воду...
– Вкусно, правда? – улыбаясь в бороду, говорит энтомолог.
– Да, вроде, ничего, только больно сладко.
– Это анальные выделения личинок цикад, – спокойно сообщает Иван Карлович.
– Как-к-кие? анальные?! То есть, вы хотите сказать... – я едва сдерживаю рвотные позывы.
– Совершенно верно. Перерабатывая древесный сок, личинки цикад через анальные отверстия выделяют его излишки... Ох, да не пугайтесь вы так! Это очень полезный, высококалорийный продукт. Муравьи пьют его с превеликим удовольствием, и сам Ливингстон потреблял его бутылками, когда путешествовал по джунглям Амазонки. – И, проявляя солидарность с муравьями и Ливингстоном, Иван Карлович с жадностью отхлебывает из кружки.
Опустошив посудину до половины, энтомолог делится своими запасами сока с идущими позади геодезистами – Тарасевичем и Охтиным. Тихон Тимурович Тарасевич берет кружку и, находясь в неведении относительно происхождения напитка, выдувает его на пару со своим коллегой – Степаном Охтиным, высоким, интеллигентного вида парнем. Сок им явно нравится, и они, набравшись наглости, просят добавки. Иван Карлович отвечает, что сока больше нет, но в следующий привал он постарается добыть его побольше, если, конечно, попадется подходящая колония личинок цикад или, как их еще называют, слюнявниц. Тут-то до наших геодезистов постепенно доходит гадкий смысл сказанного, и они понимают, чем их напоили.
Тарасевич, Тихон Тимурович – средних лет, небольшого роста, почти лысый, с жестким ртом и сухой смуглой кожей. Обычно старается продемонстрировать невозмутимость характера, но иногда резкими жестами выдает свой контроль над чувствами. Вот как сейчас. Верный рыцарь теодолита и компаса, предательски выбит из колеи, на минуту «теряет лицо» – плюется не хуже слюнявниц и бранится некультурными словами. А его верный оруженосец, вернее, рейконосец – Степан Охтин жалуется: «Неумно, господа, и недальновидно – народ говном потчевать».
Мы с Иваном Карловичем хохочем до упаду, помогаем друг другу встать и вновь хохочем так, что заражаем весельем всю колонну усталых людей. Не ведая причин нашего веселья, они тем не менее тоже улыбаются, и мы все шагаем бодрее. И тут, как бы в награду нам за оптимизм и задорность, лес отпускает свою тесную, цепкую хватку. Деревья раздвигаются, расступаясь, расходятся как великаны, потерявшие вдруг интерес к крошечным чужакам. Цепкие щупальца лиан уползают куда-то кверху. Зеленый тоннель, сквозь который мы пробирались много дней, распался, расширился до почти свободно обозримого пространства. И впервые за три последних дня, мы видим небо. И хотя оно затянуто тучами, мы радуемся ему как дети, не любящие тесных помещений, для которых простор и свобода являются изначальными ценностями.
Дышать становится заметно легче. Мы освобождаемся от влажно-липких, удушающих объятий жары. Ветерок приятно холодит тело. Люди идут, уже не так строго соблюдая строй. Лес постепенно превращается чуть ли не в парк. Исчезают непроходимые буреломы – поваленные, гниющие стволы, кишащие тараканами. Наконец-то совсем исчезла тошнотворная предательская зыбкость почвы. Грунт становится ровным, плотным, а иногда мы даже идем по твердой до звонкости, почти обнаженной скальной породе, местами прикрытой пятнами изумрудно-зеленого мха. И хотя местность едва заметно пошла на подъем, мы существенно увеличиваем скорость движения, и я уже с радостью прикидываю в уме, сколько километров сверх плана мы сегодня намотаем.
Все чаще попадаются огромные базальтовые валуны. Многие из них, так же как и залегающая порода, обросли мхом. Возможно, мы вступили в предгорье. Если это так, то горы, которые нам предстоит пересечь, вряд ли будут выше моих, Уральских гор, иначе бы мы еще задолго до предгорий приметили бы скальные вершины. Но таковых не наблюдалось, значит, препятствие на нашем пути следует ожидать незначительным. Кстати, для будущих строителей железной дороги этот фактор станет определяющим. От высоты гор зависит, проложим мы «железку» или нет. Огибать нам горы, врубаться ли в них тоннелями или обойдемся прокладкой рельсов по поверхности, а главное, кратчайшим путем.
Догнав меня, Иван Карлович пристраивается рядом, тоже ускоряет шаг, бугристый нос его блестит от пота.
– Объявите по колонне, – говорит он, прерывисто дыша, – чтобы усилили бдительность, а идущим впереди солдатам скажите, чтобы остерегались и держались подальше от валунов.
Я отдаю соответствующее распоряжение и, подстрекаемый любопытством, обращаюсь к энтомологу за разъяснениями:
– Какого рода опасность вы предполагаете?
– Ну конечно же – нападение крупного хищника, чего же еще... Потопы и землетрясения я предсказывать не берусь.
Я с беспокойством оглядываю местность, по которой мы идем, и не нахожу причины для тревоги. Наоборот, мне кажется, что на такой открытой, легко просматриваемой местности, можно заблаговременно обнаружить врага и упредить его действия. Бросаю вопросительный взгляд на ученого-насекомоведа.
– Именно поэтому, – говорит Иван Карлович, словно он – джентри и читает мои мысли; впрочем, их не прочел бы разве что слепой. – В таких местах жертва расслабляется, начинает вести себя беспечно, тут-то на нее и нападают...
– Кто? Конкретно? Вид насекомого?
Иван Карлович хотел было ответить и даже открывает для этого рот, но вдруг передумывает. Я заметил, с ним такое часто случается. Либо таким образом он демонстрирует свою нелюбовь к пустословию, когда на сто процентов в чем-то не уверен, либо поезд его мысли внезапно перешел на другие рельсы, и он думает теперь совсем о другом. С этими учеными ни в чем нельзя быть уверенным. Каждый ученый немного сумасшедший. Раньше я бы, пожалуй, раздражился от такой манеры разговора. Но теперь я стал терпимее. Новое положение обязывает. Я должен блюсти себя. И потом, если честно сказать, художников в народе считают еще большими сумасшедшими. Ученый хотя бы привержен логике. Художник же вовсе – существо во многом иррациональное. Так что, мы в какой-то степени два сапога пара.
Пока я занимался психоанализом, местность опять пошла под уклон. Мы опять спускаемся в трижды проклятые джунгли. Хоровод деревьев вокруг нас вновь сжимается все теснее. Пальмообразные гиганты (до сих пор не могу привыкнуть к их чудовищной величине) скоро обступят со всех сторон. Еще немного и лианы опять перегородят нам дорогу. Или уже перегородили?
Впереди идущие останавливаются, торможу и я, за мной и вся колонна, подтягивая свое тело, как гусеница. Я выхожу вперед, отодвинув солдата. Действительно, дорогу перегораживают лианы, но какие-то странные: прямые, белые, как бельевые веревки; насчитываю их до десятка. Расположены они на более или менее равном расстоянии друг от друга. Внизу они крепились к корням, торчащим из земли, и даже камням. Но способ крепления озадачивает. Вообще-то, на концах «веревок» имелись узлы, такие же узлы равномерно располагались по всей длине лианы, но было совершенно ясно, что узлы эти никакой крепежной функции не несут. Казалось, «веревки» просто приклеены к корневищам, к камням, к стволам деревьев. И клей этот, судя по всему, создавал настолько прочное соединение, что лианы натянуты точно струны.
Кто-то из солдат ударяет мачете по одной из веревочной лиане, намереваясь ее перерубить, но лиана, пружиня, отбрасывает тяжелый нож в сторону. Мы прослеживаем изучающе-любопытными взглядами, куда уходят многочисленные веревочные лианы. Уходят они под кроны деревьев. И там мы сразу различаем, подвешенный высоко над землей за такие же точно веревки, то ли купол, то ли колокол, то ли вигвам, сплетенный весьма искусно из зеленых широких ветвей папоротника и прочих разных веток. Домик (если это домик) весьма объемен, при случае там свободно могли поместиться несколько человек.
– Кто-кто в теремочке живет? – спрашиваю я, задрав голову, и дергаю за «веревку», она гудит как басовая струна.
Рядовой Попугаев решает проделать то же самое, но хватается за один из узлов. И приклеивается. Намертво. Пытаясь освободится, он вляпывается и другой рукой.
– Липнет, зараза! – восклицает Попугаев и дергает веревку изо всей силы.
Бэмс! – «веревка» отрывается от корневища, к которому она была приклеена, и казак взлетает в воздух, только ботинки промелькивают возле моего носа. На секунду нас берет оторопь. Но видим – ничего страшного не происходит. Просто эта растянутая лиана-веревка, будучи отпущенной, имеет свойство сильно сокращаться, и теперь боец раскачивается на ней вверх-вниз, точно мячик на резинке.
Я оборачиваюсь, чтобы позвать Ивана Карловича для консультации, но он и сам уже бежит к нам, расталкивая столпившихся людей. На его лице вижу тревогу. Тем временем за спиной у меня рассыпается смех, слышны обычные солдатские шуточки, выкрики и подначки, когда они куражатся над кем-либо из своих товарищей. Теперь потешаются над неловким Попугаевым. Однако энтомолог не видит в ситуации ничего смешного. Он бледнеет и кричит фальцетом, срывая голос: «Хватайте его! Хватайте немедленно!»
Казаки, кто поспортивнее и половчее, став на плечи товарищей, пытаются допрыгнуть, ухватить руками за ноги и притянуть к земле рядового Попугаева. Но ни один из них не может даже коснуться грязного ботинка незадачливого акробата, слишком тот высоко висит. Да и веревка-лиана, сократившись, больше не растягивается. Вес Попугаева слишком мал для этого.
– Нет, туда даже кунгуру не допрыгнет, – говорит подхорунжий Лебедкин, сам очень высокого роста, но сутулый, отчего складывается впечатление, будто он туг на ухо и пытается прислушаться к командам начальства.
Я удивлен: насколько прочны и вместе с тем эластичны эти белые лианы, настоящие парашютные стропы! Чтобы притянуть к земле одну такую «стропу», необходимы усилия по меньшей мере нескольких человек. А чтобы ее еще и приклеить к какому-нибудь предмету внизу – к ветке или камню – нужен поистине суперклей. Рядовой Попугаев сосиской болтается между небом и землей, тщетно пытаясь отодрать ладони от липучих узлов. Он еще сконфужено улыбается и делает попытки превратить все в шутку, но остальные уже понимают, что влип он основательно.
– Эй вы, рядовой, как вас там?! – кричит Иван Карлович, сложив ладони рупором. – Сею же минуту перестаньте дергаться, закройте глаза и даже старайтесь реже дышать!
– Рядовой Попугаев! – орет подъесаул Бубнов, оказавшийся под рукой, так, что я вздрагиваю. – Ты слышал приказ?! Стоять смирно!.. то есть висеть смирно!
– Командир! – выкрикивает Иван Карлович, хватая подъесаула за грудки. – Прикажите вашим людям открыть огонь по домику! Скорее! Ради всех святых!
Бубнов пятится назад, увлекая за собой ученого и, как недовольная лошадь, косит на меня глазом. Казаки бряцают оружием.
– Отставить! – рявкаю я голосом, не уступающим по мощности голосовым связкам подъесаула.
– Дурак, вы не понимаете!.. – набрасывается на меня энтомолог.
Я довольно-таки грубо отбрасываю от себя закатившего истерику ученого. Ботаник Полуньев и зоолог Фокин едва успевают подхватить под руки своего коллегу. Мне некогда расшаркиваться в любезностях пред ними, я бросаю взгляд под кроны деревьев, где висит зеленый вигвам, и ужас ледяной волной окатывает меня с головы до пят. Сплетенный из веток «люк» откидывается в днище «вигвама» и повисает на петлях, сделанных из того же материала, что и веревочные лианы. В тот же миг из темного отверстия выскакивает, как чертик из коробочки, страшный как смертный грех, чудовищно огромный ПАУК. Антрацитово-черный, мохнатый, с длинными когтистыми лапами. Он стремителен, точно молния. В какие-нибудь две секунды он, кинувшись вниз головой, пробегает по своим веревкам, выпуская из конца брюшка страховочную паутину-стропу и так же неожиданно замирает, повиснув над человеком смертельной опасностью. Согнутые в суставе хватательные клещи раздвинуты, готовые нанести жертве молниеносный губительный удар. С острых, как бритва, хитиновых крючьев капают янтарные капли яда. Стрелять, конечно же, поздно и не безопасно для человека. Как ни прицеливайся, а человек все равно попадает в сектор обстрела. У меня от слабости подгибаются колени. Я понимаю, какое преступление опять совершил. Из-за своего дешевого снобизма погубил человека!
– Солдатик, миленький, только не шевелись! – вою я тонким голосом, в наступившей гробовой тишине мой жалкий голосок звучит отчетливо.
Не ведаю, слышит ли меня рядовой Попугаев, но висит он совершенно неподвижно с ужасным зеленым лицом, а из штанов бедняги ручьем льется его молодая горячая моча.
Паук как-то нервно-быстро трогает своими передними более короткими лапами голову солдата, покрытую кепкой с большим козырьком. Может быть, неживой материал собьет хищника с толку, надеюсь я. Чувствуют ли пауки запахи? Судя по всему, да, и на большем расстоянии. В таком случае блюдо, к которому он примеряется, пахнет совсем неаппетитно. Правда, это на мой взгляд.
Все тридцать два человека, включая и рядового Попугаева, цепенея от страха, думают только об одном: поверит или нет? В двух больших и шести маленьких глазах паука совершенно невозможно что-либо прочесть. В них не отражается абсолютно ничего – ни искорки света, ни блика. Глаза черны, пусты и оттого кажутся еще более ужасными. Поверит или нет? Все зависит от поведенческого клише его вида и особенностей личного характера данного животного.
Этот поверил. Кажется. Черные мохнатые лапы еще раз мельком пробегают по голове и плечам жертвы, и паук пятится, отказывается есть дохлятину. Поверил! А мог бы не поверить, но если сейчас Попугаев сделает хотя бы малейшее движение – его уже ничто не спасет. Черное чудовище – кошмарное порождение Пермского периода – разворачивается на 180 градусов так быстро, что мы и глазом моргнуть не успеваем. И вот он уже с той же проворностью бежит вверх, к своему домику, на ходу подбирая страховочную паутину, благо лап ему хватает на все виды работ одновременно.
– Бубнов! – зову я. – Кто самый меткий стрелок у тебя?
– Я! – отчеканивает подъесаул без ложной скромности. – Попадаю в карту с десяти шагов... в масть.
– Тогда – огонь, – приказываю я тихим голосом, словно боясь спугнуть удачу.
Подъесаул рукавом вытирает с лица пот, застилающий глаза, берет АКМ на изготовку, переметнув его ремень через руку, передергивает затвор. Широко расставив ноги, прицеливается, задрав голову и оружие кверху. Из такого положения очень нелегко стрелять. Бубнов чуть подается вперед, сгорбившись, нажимает гашетку. Хлесткая очередь ударяет по ушам. Ду-ду-ду-дут! дуф-дуф! – автомат сильно толкает в плечо худого подъесаула, но тот – жилист, ловок, умело гасит отдачу, когда выстреливает грохочущую морзянку смерти. Воздушный домик – логово лесного разбойника – дымится, зеленые его стенки клочьями разлетаются по сторонам. Сам разбойник – хитрая сволочь! – воспользовавшись запасным выходом, бросается бежать вверх по веревке-лиане в спасительную крону лепидодендрона.
– А-а! ... твою мать! – рычит Бубнов и выпускает по беглецу длиннющую очередь, полностью опорожнившую рожок. Целая груда дымящихся пустых гильз со звоном падает к нашим ногам, а вражина живехонький улепетывает по кронам деревьев, только лапы мелькают. Все восемь штук.
– Вот же тварь, убёг... – стонет подъесаул, чуть не плача, опускает бесполезный автомат дулом к земле.
Но паук, оказывается, «не убёг». Он вдруг теряет резвость, движения его становятся вялыми. Потом лапы вообще перестают двигаться, и чудовище, ломая ветки своим весом, с шумом падает с дерева. Он ударяется о землю с тридцатиметровой высоты и раскалывается, как кокосовый орех, разбрызгивая по сторонам довольно неаппетитные свои внутренности.
– Отлично, парень! – хвалю я подъесаула. – Молодец, можешь рассчитывать на награду.
Он счастливо улыбается, но отвечает серьезно:
– Разве ж мы за награду...
– Ладно, ладно, награда для солдата тоже далеко не последняя вещь, – успокаиваю я своего зама, готовый расцеловать его – так у меня на душе сделалось хорошо.
– Ребята! Снимите меня отсюда, ради Бога! – жалостливым голосочком просит оживший рядовой Попугаев.
– Отряд! – радостно командует Бубнов. – Пирамиду – строй!
Шесть человек самых сильных, крепких ребят становятся в круг, сцепляют руки. К ним на плечи взбираются четверо ребят средней весовой категории. Третий ярус живой башни, карабкаясь по спинам товарищей, образуют двое удальцов в весе «пера». У одного из них сверкает десантный нож, который он держит по-пиратски, – зажав зубами. Приняв устойчивое положение, ребята хватают висящего товарища своего за ноги и тянут вниз, ловко перехватывают руками, подтягивают к себе. Одежда Попугаева трещит и рвется в некоторых местах. Он стонет и жалуется: «Ой, рученьки мои бедные, сейчас они оторвутся...» – «Терпи казак – атаманом будешь», – говорит Тихон Тимурович из толпы. И вот – висящий уже в объятиях товарищей. Чтобы не прилипнуть к паутине-веревке, «пират» одной рукой опирается о голову бедного Попугаева, надвинув кепку ему на нос, а другой рукой, вооруженной уже ножом, режет паучью стропу. Режет он чуть повыше стиснутых, побелевших кулаков спасаемого, режет долго: крепкие канаты делает этот паучок.
Однако ж вскоре паутина, лопнув, взвивается кверху освободившимся концом, а рядовой Попугаев обрушивается внутрь пирамиды, поддерживаемый заботливыми руками товарищей. Пирамида за ненадобностью распадается, но довольно ловко, по цирковому. Бойцы, кувыркнувшись через головы, становятся на ноги. Попугаев спасен. Его поздравляют с освобождением из ужасного плена, хлопают по плечам, подбадривают, тактично не реагируя на запах, исходивший от него. Запах пережитого ужаса.
Я благодарю рядового Попугаева за мужество и стойкость (висючесть), проявленные в боевой обстановке, а потом, ни к кому конкретно не обращаясь, тихим зловещим голосом обещаю посадить в карцер на 20 суток по прибытии домой любого, кто посмеет обидеть злой шуткой Александра Попугаева. Ребята понимающе кивают головами. Между тем, освобожденный так и не был до конца освобожден. Проклятая паутина-веревка намертво приклеилась к его ладоням и оторвать ее возможно было разве что вместе с кожей.
– Попробуйте отмочить ее спиртом, – советует топограф Сергей Охтин.
Идея оказывается плодотворной. Вскоре руки парня уже вновь свободны и на редкость чисты. Коварную веревочку сжигают на костре. Да, мы развели костры, потому что, оказывается, уже наступило время большого привала – с обедом и отдыхом.
Место нам нравится. Можно сказать, что мы его отвоевали. Враг убит, и, поскольку большинство животных – существа территориальные, можно надеяться, что другие хищники сюда не сунутся. Пока, во всяком случае.
Кстати, о враге. Я решаю взглянуть на него. Таких любопытствующих набирается целая команда. Они толпятся за спинами ученых, проводивших замеры убиенного чудовища. "Дмитрий Леопольдович, будьте добры, запишите, – говорит Бельтюков своему коллеге, зоологу Фокину, приставляя растянутый клеёнчатый метр к головогруди паука. – Длина цефалоторакса – пятьдесят восемь, объем... секундочку... эх, жаль, педипальпы сломаны... – Бельтюков вертит обломки передних лап без когтей, очевидно, очень чувствительных; ими паук трогал голову рядового Попугаева. – Ладно, измерим оставшиеся лапы. Запишите Дмитрий: средняя конечность – метр тридцать пять, конечность задняя ...
– Ну и здоровый же он!.. – уважительно шепчет Владлен, стоя у меня за спиной.
Как все женщины, Владлен ужасно боится пауков. Я поддеваю носком ботинка недвижную мохнатую лапу с какими-то гребешками на концах и договариваю то, что постеснялся сказать Влад: – И страшен, разбойник, как сто чертей...
– Да! Здоров, силен и страшен, – соглашается зоолог Фокин, – но чересчур уязвим. Достаточно одной дырочки на его теле, чтобы он почти полностью потерял подвижность и свою силу.
– Это почему же? – любопытствует кто-то.
– Потому что паук похож на баллон с жидкостью, закаченной под давлением. Небольшая потеря крови из-за раны для паука становится фатальной. Давление резко падает, суставы перестают сгибаться...
– И наступают кранты, – подсказывает один из казаков.
– Однако, братцы, челюсти у него!.. – восторгается другой казак, указывая пальцем на жуткие крючья, сочащиеся желтоватой жидкостью. – Смотреть страшно. Одним ударом, наверное, пробьет человека насквозь...
– Это не челюсти, молодой человек, – поясняет Иван Карлович, – это хелицеры – усики, преобразованные эволюцией в хватательные элементы... к тому же они ядовиты, так что вы, юноша, будьте любезны, держите-ка руки подальше.
– Хороши усики! Мне бы такие... – мечтательно вздыхает боец и заливается смехом, – девок щекотать!..
– Петька, а у тебя, оказывается, порочные наклонности Джека-потрошителя, – делает открытие его товарищ и, зацепив одним из своих хватательных элементов шею друга, решает испытать ее на прочность. – Ах ты, Джек-щекотало!..
Они, как дети, затевают неуместную возню, мешающую серьезным ученым, и тогда Фокин, с совершенно равнодушным лицом, растаскивает за шивороты этих шумливых, невоспитанных детинушек, потом перебрасывает их – одного на левое бедро, другого – на правое и, удерживая каждого словно бревна, спокойненько идет метров десять с брыкающейся ста пятидесятикилограммовой ношей под мышками. Потом разом резко разгружается прямо под ноги и грозные очи подъесаула Бубнова. Детинушки падают, кто удачно, кто менее и, как крабы, расползаются по сторонам, а Фокин поворачивается и так же невозмутимо возвращается к прерванной работе. Силен, думаю, о зоологе, а с виду не такой уж и геркулес.








