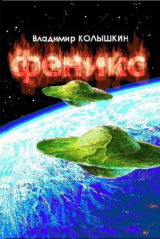
Текст книги "Феникс (СИ)"
Автор книги: Владимир Колышкин
Жанры:
Космическая фантастика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 31 страниц)
Еще в школе я не раз ставил учителей в неловкое положение своими высказываниями относительно «справедливого» устройства социалистического общества. Классная руководительница, бледно улыбаясь, предупредила: «Смотри, Колосов, как бы тобой не заинтересовалось КГБ». – «А разве у нас не свобода слова?» – ехидно поинтересовался я.
В классе среди учеников были два милиционера и один военный. Но никто, слава Богу, на меня не донес. Может, потому что я был совершенным сопляком в сравнении с ними, взрослыми дядьками и тетками (у нас была и 45-летняя школьница). Я тогда кончил школу-восьмилетку и чтобы продолжить учебу, пришлось искать другую альма матерь, а ШРМ была в двух шагах от нашего дома, мать и подала туда мои документы. Сам же я был занят – бегал по улицам, собакам хвосты крутил, как выражался мой дед. Он не любил бездельников, не знал, что такое отдыхать на пенсии, до самой кончины делал катера и яхты, в одиночку ходил в плавания по рекам Урала и писал мемуары. Я так и не успел доказать ему, что тоже что-то значу в этой жизни.
И в армии, где я служил в погранвойсках на советско-китайской границе, приходилось доказывать свою значимость. И там я не был, как все, и это кой кого злило. Хорошо, что начальник нашей заставы капитан Будилин, Сергей Леонидович, по прозвищу Будда, светлая ему память, за меня заступался. Под его крылом (мягким изнутри и жестким снаружи) я писал лозунги в теплом красном уголке, а тот, кто меня недолюбливал, дрожал под пронизывающим январским ветром на посту и роптал. И тем роптаниям внимало начальство. Едва Будилин уезжал в штаб погранотряда или еще куда-нибудь, сейчас же меня посылали рыть какие-то траншеи, чистить замерзший сортир...
Я понимал, что не любившие меня люди, а их было гораздо больше, чем несколько моих друзей, в чем-то правы, даже, может быть, во многом правы, но виноват ли я, что умею рисовать, а мои недоброжелатели этого делать не умели. Некоторые из них никогда ни одной книжки в руках не держали, кроме букваря и устава. Зато они могли железяки гнуть голыми руками, а я нет. Они были оловянными солдатиками, отлитыми по одной форме, а я был вырезан из дерева. Я слишком выделялся своей интеллигентской хрупкостью, которую так соблазнительно сломать. Поэтому, если бы не милость ко мне Господа, проявленная в лице капитана Будилина, быть бы мне постоянным чистильщиком сортира. Они хотели меня уравнять, а если нет, то сломать.
Среди них я был чужим.
На заводе и вне его было то же самое. Рабочие считали меня интеллигентом, интеллигенты видели во мне мужлана.
Но что более всего удивительно – я не был своим и среди своих.
И в Художественной студии мои отношения с Учителем складывались поначалу тяжело. Впрочем, я тогда этого не знал. Я-то полагал, что он меня вообще не замечает. Мои работы в акварели были суховаты, совсем не в его стиле и не в стиле его студии. Работал я по классической трехэтапной схеме, как учил меня отец мой – старший архитектор «Уралсельхозстроя» (который, если б не его пагубная страсть к алкоголю, давно бы руководил этим учреждением), как рекомендовали учебные пособия.
Смолко же, наш преподаватель, был модернистом (хотя бы в тех узких рамках, каковые дозволялись в те достославные времена борьбы с абстракционизмом) и, соответственно, ребята подражали ему. Никакой поэтапности в работе с акварелью они не признавали, работали сразу в полный цвет – сочно, быстро, смачно. Если краска стекает через весь лист – это не беда, считали они (я в этом случае ужасался), так даже живописнее. Потом я быстро стал расти в технике акварели и графики, особенно в жанре портрета, и это ни осталось не замеченным. Но это было потом, а пока...
Мы с ребятами, во главе со Смолко, как-то сидели на стульях, составленных в тесный кружок, и, кажется, обсуждали план поездки на пленэр. Я сидел напротив Смолко и по своей дурной привычке позволил себе съехать со стула. Я почти лежал, выставив свои длинные ноги далеко вперед, под самый стул Смолко. Он что-то говорил насчет того, по сколько рублей скинемся да сколько бутылок водки возьмем с собой на всю группу, потом пошел красными пятнами и вдруг заорал на меня с сильным украинским акцентом: "А ну сядь прямо! Шо ты развалился!!! Развалился тут, понимаешь... И ВООБЩЕ!.. (это было сакраментальное восклицание, предваряющее взбучку; восклицание, после которого человеку в лицо высказываются все его грехи – прошлые и будущие).
Я сел прямо, как линейку проглотил. Дальше я услышал слова, от которых чуть не свалился со стула:
– Тебя кто прислал сюда?! Тебя прислали, чтобы КОНТРОЛИРОВАТЬ меня?! Проверять меня?!.
Я не мог понять причину его гнева. То есть, первоначальный толчок, несомненно, дала ему моя раскованная поза, согласен – слишком, быть может, неуважительная. Но обвинения в стукачестве, в шпионстве!.. казались мне дикими и несправедливыми.
Я был уничтожен морально и готов был провалиться сквозь пол на первый этаж дворца культуры им. Ленина. Чем закончилась сцена с избиением младенца, я, младенец, не помню (память жалеет нас). На мое счастье, ребята, по-моему, не придали значения этой выходке Смолко. Они мало что поняли. Как, впрочем, и я. Но только потом до меня дошло, что имел в виду Учитель мой.
Я вспомнил, что, заполняя анкету при поступлении в Студию, указал свою должность на заводе – контролер ОТК. Все остальные же студийцы работали профессиональными художниками-оформителями (маляр-плакатист – так называлась тогда эта должность, если уж быть точным). Наш завод содержал Студию на свои деньги и платил Смолко, члену Союза Художников, зарплату. И вот Смолко решил, что через мою скромную персону его пытаются КОНТРОЛИРОВАТЬ, проверять, устраивать негласные ревизии и прочая на предмет его, Смолко, умения работать, тому ли он учит советских маляров-плакатистов и нет ли тут дурного влияния Запада? Вся эта белиберда, оказывается, вращалась у него в мозгах на холостом ходу, пока я, образно выражаясь, не нажал курок. И тогда все, что скопилось в уязвленной душе художника, разом выплеснулось мне в морду.
Пытаясь смыть позорное и, главное, незаслуженное обвинение, я работал с удвоенным старанием, как какой-нибудь еврей в Польше, пытающийся поступить в университет и вынужденный знать предметы даже не на отлично, а на отлично с тремя плюсами. И это принесло свои плоды. Вскоре на заводе открылась вакансия, и я сменил всеми презираемую должность и стал тем, кем должен быть – маляром-плакатистом 3-го разряда, потом – 4, 5 и, наконец, 6-го разряда. И лишь позже ввели должность художника-оформителя.
Смолко, кажется, осознал, что сморозил глупость. И дабы загладить свой провал, предложил мою кандидатуру в заместители студийного старосты. Ребята проголосовали за это предложение. Я проходил в замах месяц или два, потом меня переизбрали из-за полной моей непригодности к административной работе.
А через полгода своим упорством и верностью (что немаловажно) я совсем растрогал своего Учителя. Через несколько месяцев Смолко взял шабашку – оформить зал нашего дворца культуры для празднования Нового Года. Чтобы справиться в срок с такой грандиозной работой, по просьбе Смолко были привлечены все студийцы. Нам это зачитывалось как практика. Одну смену все отработали с большой отдачей. На следующий день никто, кроме меня, не пришел. И так продолжалось в течение нескольких дней. Мы оставались с ним вдвоем.
Я работал, поглядывая на Смолко, одетого в старый синий халат, с газетной шапочкой-наполеонкой на голове, и думал: "Вот так, дорогой Учитель, проверяется верность учеников. Где же ваши любимчики? Где наш староста Линейкин? (Он штриховку делал по линейке, за что и получил свое прозвище.) Где, позвольте полюбопытствовать, ваша обожаемая мисс Пушкина – рекомендованный вами кандидат в «Муху», непревзойденный мастер натюрморта (она так напирала на рефлексы, что предметы на ее натюрмортах казались сделанными из зеркала, точно колба от термоса), к которой вы так неравнодушны, в широком смысле слова, к которой вы испытываете нескрываемую симпатию не только как Учитель к ученице, но симпатию, далеко выходящую за пределы интересов педагогики.
Когда мы закончили работу, Учитель мой, растрогался и полностью снял с меня нелепые свои обвинения. Вдобавок еще извинился и в знак благодарности за верность подарил мне коробку ленинградских акварельных красок, бывших в то время в большом дефиците. Я долго пользовался ей, и теперь она пустая лежит у меня в ящике шкафа как память об Учителе.
Тут я вспомнил, что у меня ничего не осталось: ни шкафа, ни дома, ни близких людей, ни Родины, ни даже самой планеты Земля, где я родился и жил... Ничего, кроме памяти. И я чуть было не заплакал. Потом встал и все подробно записал.
Теперь меня интересует один вопрос: какой приговор вынесут нам с Владленом. Будет ли это показательный суд устрашения, а значит, несправедливый, или беспристрастный?
Глава восемнадцатая
СУД
23-й ДЕНЬ 1 ГОДА Э.П.
Под домашним арестом нас продержали 15 суток. Все это время мы не видели белого света, как какие-нибудь узники замка Ив. И то, наверное, у Монте-Кристо в камере под потолком находилось окно, пусть с решеткой, но все же окно, сквозь которое он мог видеть клочок синего неба и слышать звуки природы: крики чаек и плеск волн.
Мы же в своем купе чувствовали себя, как замурованные в склепе. Зеленая плесень и мох, которыми стали обрастать стены и потолок нашей камеры, еще больше подчеркивал ее сходство со склепом. Но я работал, мой альбом был при мне, воображение тоже, так что я чувствовал себя приемлемо. Владлен же впал в жестокую депрессию. Нет страшнее наказания для экстраверта, чем заточение в четырех стенах и даже без окна. Ведь все ценное в жизни для него находится во внешнем мире, от которого теперь он изолирован.
Время тянулось монотонно, бессобытийно, и это особенно угнетало. Лишь однажды внешний мир напомнил о себе. Снаружи началась пальба и послышались крики. Может, на колонистов напали враждебные племена леса? Но потом явственно послышались песни и пляски, продолжавшиеся до утра. Значит, они что-то праздновали. Охранники с нами не разговаривали, и мы были в неведении относительно мировых событий.
На 16-й день заточения нас вызвали на суд.
Малый конференц-зал ломился от желающих послушать и посмотреть судебный процесс. Паша Засохин уже сидел в первых рядах, ерзая от нетерпения и благоговейно тараща крошечные кротовьи глазки на пока пустые кресла для высоких судей. А те, кто не смог попасть в зал, ругались, недоумевая: почему нельзя было собраться в большем зале? В общем, ажиотаж был таким, словно судили Бонни и Клайда. К моему удивлению, на суде присутствовали присяжные, и это меня порадовало.
Секретарь объявила о восшествии судий в зал суда. Все встали.
Судьи сели и раскрыли книги.*
[*Перифраз цитаты из библейских пророчеств о Страшном суде: «Судьи сели, и раскрылись книги», где книга символизирует полноту знания о человеке.]
Председатель, бликуя лысиной, роется в бумагах, разбросанных у него на столе. Лицо его исполнено силы и гордости, и, кажется, источает аромат власти, исходивший от него. Нам указывают, где наше место – на скамье подсудимых, потом поднимают по одиночке и заставляют отвечать на вопросы. Мы называем свои имена и клянемся говорить правду.
– Вы применили боевой прием в отношении потерпевшего, Засохина Павла Игнатьевича, – обращается ко мне судья, не отрывая взгляда от бумаг, – чем нанесли ему серьезные физические повреждения, выразившиеся в пропаже голоса и усилении остеохондроза в области шеи и спины. Вы признаете себя виновным?
– Нет, – отвечаю я.
– Почему? – спрашивает судья и впервые смотрит мне в глаза.
– Потому что я защищал мои честь и достоинство.
– Вас не обвиняют в том, что вы защищали свою честь, вас обвиняют в том, что делали вы это неадекватно обстоятельствам, то есть превысили необходимую меру обороны. Так признаете вы себя виновным в этой части обвинения?
«Ага, – думаю я, – значит, будет и другая часть обвинения».
– Да, я признаю себя виновным в том, – говорю я, глядя на потерпевшего, – что действовал неадекватно. Но я не жалею о содеянном. И если истец или кто-либо другой позволит себе оскорбления в мой адрес или в адрес моего друга, то , обещаю, моя реакция будет аналогичной.
Благосклонные звуки, издаваемые публикой, резко обрываются, и следует взрыв негодования. Судья стучит по столу деревянной киянкой, взятой напрокат у столяров.
– Господин Колосов, вы дурак, – заявляет мой адвокат и делает руками движения Понтия Пилата.
Слово переходит к обвиняющей стороне судебного состязания. Учитывая тот факт, что данный судебный процесс был первым в истории колонии, в нем пожелал участвовать сам главный прокурор.
Основываясь на моем высказывании, главный прокурор, рыжеволосый мужчина с бульдожьим лицом и соответствующей хваткой, брызгая праведной слюной, блистая красноречием и энергией, обвиняет меня в покушении на убийство. Затем мне предъявляют обвинение в попытке расколоть семью колониста Давида Сардиновича Робизона, путем склонения к прелюбодеянию его жены – Калерии Борисовны Робизон-Аршинниковой.
Додик, как примерный школьник в классе, поднимает руку и, получив слово, высказывает протест, в том смысле, что имя его не Давид, а Давыд, «произошла досадная описка».
Судья вносит необходимые исправления в документы и вновь устремляет свои беспристрастные очи на меня.
Я соглашаюсь, что половая связь имела место, но разрушать семью ни в коем случае никто не желал.
Владлена обвинили почти в том же. Хулиганство и попытка изнасилования путем обмана, выразившегося в том, что обвиняемая, будучи женщиной, выдавала себя за мужчину.
В связи с этим наш адвокат задает вопрос обвинителю: «Каким образом, в таком случае, обвиняемая, будучи женщиной, могла бы изнасиловать пострадавшую, если вообще последнюю можно назвать пострадавшей?»
Пока обвинительная сторона думает над этим вопросом, адвокат развивает тему защиты, сказав, что подсудимая также не может быть обвинена в попытке расколоть семью, поскольку подруга истца не является его законной женой, а стало быть, речь может идти о свободной любовной конкуренции, что ненаказуемо. Так же, как и любовь женщины к женщине.
В конце речи адвокат предложил суду освободить нас из-под стражи, поскольку срок заключения, положенный за хулиганство, мы уже отбыли и по существу дела большего наказания не заслуживаем.
Главный прокурор потребовал смертной казни для обвиняемых, учитывая их, обвиняемых, социальную чуждость, склонность к терроризму и сексуальным извращениям.
Каждый, наверное, сталкивался с нечто подобным. Есть суды, есть судилища, преследующие политические цели, а есть судебные фарсы, своим явным идиотизмом попирающие человеческие понятия о справедливости, своей очевидной глупостью и мелочностью ставят человека в нравственный тупик, в углу которого люди только пожимают плечами, закатывают глаза и плюются. Таковым был и наш судебный процесс.
На следующий день судебное заседание продолжилось. С противной стороны произошла замена. Главный прокурор заболел, у него поднялось давление и в зале теперь присутствовал его подчиненный – прокурор Загашин.. Мужчина с ледяными глазами и тонкими губами иезуита, как оказалось, зря время не терял, успел собрать новый материал для обвинений. Теперь обвинение основной упор делало на террористическом акте, учиненном мною, каковой акт только по счастливой случайности не привел к многочисленным человеческим жертвам.
Тут я всерьез задумываюсь. Это было убийственное для меня обвинение. И, надо признать, справедливое. Я понимаю, что слишком легкомысленно отнесся к своей «шалости» с гранатой, не особенно заботясь о последствиях. А они действительно могли быть тяжкими. Я полагал, что все уже забыли об этом инциденте. И они бы забыли. Или сделали бы вид, что забыли. Но я сам нарвался. Вести себя нужно было тихо.
От последнего слова подсудимого Владлен отказался. А я заявил, что действовал по велению чувств, охвативших меня. И чувства эти были благородными. Что я пытался спасти свою возлюбленную и остальных людей, как мне казалось, силой увозимых в неизвестные края. В конце я полностью раскаялся, но только в эпизоде с гранатой.
Присяжные удалились на совещание.
Через час они вынесли вердикт: «Гражданина Колосова Георгия Николаевича признать виновным по всем пунктам обвинения. Широкову Владлену Афанасьевну признать виновной за участие, хотя и пассивное, в террористическом акте, а также – в хулиганских действиях, без попытки изнасилования».
Судья, почесав лысину, выносит окончательное решение:
– Гражданина Колосова приговорить к высшей мере социальной защиты – расстрелу! Широкову Владлену Афанасьевну – к двум годам тюремного заключения условно и к ста ударам розгами по задней части тела и спине. Приговор может быть обжалован в течение 15 дней путем подачи прошения о помиловании в Народное собрание либо непосредственно Его Высокопревосходительству Магистрату Хумету лично.
Я спрашиваю у адвоката, сможет ли женщина выдержать 100 ударов розгами. Адвокат отвечает: «Смотря какая женщина и смотря какие розги. Ежели розги будут достаточно крепкими и вымочены в соляном растворе да бить будут с оттяжкой, то летальный исход вполне вероятен. Впрочем, женщина – такая живучая тварь, что ничего гарантировать нельзя».
«Но это же варварство!» – возмущаюсь я. «Безусловное варварство, – соглашается адвокат, – но вы должны понять – у колонистов так мало развлечений... что это может негативно сказаться на их психике».
«Уже сказывается, – отвечаю я.– Пороть женщину принародно – это неслыханно!»
25-й ДЕНЬ 1 ГОДА Э.П.
Два дня назад, сразу после суда, мы подали апелляции на имя Его Высокопревосходительства Магистрата Хумета. Аналогичные прошения подали в Народное собрание. Не стану хвастаться, что мне не было страшно. Нет, я испугался за свою жизнь, за жизнь Владлена. Но потом пришла какая-то отупляющая сознание апатия. Она была похожа на усталость, усталость от жизни. Впервые, мне кажется, я понял, что такое суицидное настроение, сгубившее некогда моего брата.
Кстати о моем «брате», то есть о джентри, похожем на Андрея. Ни он, ни его высокие коллеги на процесс не явились, но я чувствовал их незримое присутствие. Возможно, они следили за ходом дела с помощью скрытых камер наблюдения. Очевидно, подсознательно я надеялся на помощь со стороны Лжеандрея. Так уж устроен человек – он доверяет внешнему сходству, ошибочно принимая внешнее за внутреннюю суть. Но потом мне стало все равно.
И вдруг сегодня днем, только что, пришла бумага из Магистратуры. На ней рукой Хумета коричневыми чернилами была начертана резолюция: «В ПОМИЛОВАНИИ ОТКАЗАТЬ». Ниже – малоразборчивая приписка: «На усмотрение Народного собрания».
Вечером нас с Владленом заковывают в цепи и, не говоря ни слова, выводят из каюты-камеры. Мы выходим из корабля на подгибающихся, ватных ногах и полной грудью вдыхаем свежий воздух Новой Земли. Может быть, это мои последние вдохи. Нас ведут на «Марсово поле». Там уже собрался весь народ. Мы идем, гремя цепями, под любопытствующими взглядами людей. Владлен испуганно оглядывается на меня, а я высматриваю столб позора, к которому меня должны привязать перед расстрелом. Спасибо, что хоть не повесят.
Я иду, прихрамывая от боли в правом колене, возможно, боль эта – нервного происхождения. Или от долгого сидения в неудобной позе. Тут я ловлю себя на мысли: а не подсознательная ли это симуляция, дабы разжалобить народ?
Судя по поведению людей, дебаты по поводу нашей судьбы окончены, и нас привели, чтобы огласить окончательный приговор. «Народный трибун» подходит к нам и вручает бумаги – мне и моему товарищу. Мы разворачиваем документы, где сверху написано: «Именем народа». Без очков для чтения у меня все плывет перед глазами, но смысл отдельных фраз доходит мгновенно. Это было постановление о нашей амнистии в честь дня Конституции. Оказывается, пока мы сидели в заточении, они приняли Новую Конституцию. Именно в тот день колонисты праздновали: шумели, пели, плясали, стреляли из ружей и запускали ракеты, жгли фейерверки, отмечая великое событие.
Поднеся близко к лицу документ, читаю итоги плебисцита по помилованию: «Из 2320 человек, имеющих права голоса (то есть практически все), в голосовании приняли участие 2302 человека. Семеро не приняли участия, 1152 голоса – „за“ , 1151 – „против“. 10 человек воздержались».
Итак, нашу судьбу, в большей степени – мою, решил всего один голос! Интересно бы знать, кто он, этот мой спаситель? Впрочем, так вопрос ставить нельзя. Спасителем оказался весь народ. Мы слезно благодарим людей и заверяем, что доверие их оправдаем самоотверженным трудом на благо новой Родины.
Мы обрадовались с Владленом такому исходу дела. Но в отличие от Владлена, у которого все чувства были на поверхности и который легко переходил от глубокой скорби к безмерному ликованию, моя радость не была столь безмятежной. Что-то во мне сломалось или надломилось, думаю, не без последствий. К счастью, этот процесс зашел не слишком далеко, иначе бы я потерял интерес к жизни навсегда. Очевидно, сказался синдром смертника. Очень опасная штука. Пагубно влияет на психику, иссушает, опустошает душу. Как болезнь, носящая необратимый характер, если ее вовремя не пресечь. К счастью, повторюсь, я не прошел все стадии этой болезни (меня не привязывали к столбу и не наводили ружья) и потому чувствовал себя сносно и вскоре совсем поправился. Но, очевидно, еще долго на дне души будет оставаться могильный холод, ядовитым туманом парализующий волю к жизни. Может, именно это мистическое чувство пережил Достоевский, стоя на эшафоте в ожидании казни, не зная еще о том, что мчится уже фельдъегерь с бумагой о Высочайшем помиловании.
Часть четвертая
АНАБАСИС
(Записки походного атамана)
Казак большую часть времени проводит на кордонах,
в походах, на охоте или рыбной ловле.
Л. Толстой. «Казаки»
Глава двадцатая
ЗЕЛЕНЫЙ АД
30-й день 1 года Э.П. Третий день пути
К полудню мы прошли едва ли десять километров. Много это или мало? На этот вопрос ответит, пожалуй, лишь тот, кто лично побывал в цепких, удушающих объятиях сельвы. Движению по тропическому лесу в основном мешают непроходимые заросли молодых деревьев и дикое переплетение лиан. Старые, отжившие свой век стволы, заросшие мхом, неподъемными шлагбаумами лежащие поперек «дороги», тоже не способствуют экономии времени и краткости пути. Но мы не ропщем. Мы вторглись в первобытный лес, в это magnum ignotum – великое неизвестное, которое мы должны познать и научится выживать в нем, и будем мы идти до конца, чего бы это нам ни стоило.
По мере нашего углубления в лесные дебри, почва под ногами становится все более зыбкой. Сначала грунт приятно пружинил под ногами, устланный зеленым ковром мха и листовидным лишайником, похожим на пармелию. На солнечном свету он ярко и разнообразно окрашен. Но скоро кроны могучих деревьев сомкнулись у нас над головами, и вот уже два дня мы не видим неба. Только дымные лучи солнца кое-где пробиваются через дыры в лесном пологе. Влажность и жара постепенно повышаются. Все больше опавших листьев укрывает землю. Они преют, гниют, источая тяжелый одуряющий запах. Ноги ступают во что-то мягкое, словно идешь по гниющей падали. Очень мерзкое ощущение. В довершение ко всему эта гниль кишит отвратительными на вид многоножками и тараканами, к счастью, мелкими, всего лишь с палец величиной. Они ползают по нашим ногам, пытаясь забраться повыше, залезть за пазуху или за шиворот, все время приходится сбрасывать их с себя. Люди поначалу содрогались от омерзения, но спустя сутки привыкли. Идущий за мной Владлен уже перестал вскрикивать и паниковать и теперь сохраняет спокойствие, лишь время от времени механическими движениями рук и тела скидывает с себя наиболее наглых насекомых.
Мы движемся длинной колонной по три человека в ряд. Я предложил, на мой взгляд, самую оптимальную схему построения колонны, наиболее полно отвечающей требованиям – отразить нападение и сохранить жизни специалистам. Да, ценой жизни солдат – молодых ребят. Это ужасно, но таковы реалии жизни. В противном случае, мы будем уничтожены все поголовно. Итак, если смотреть сверху, построение таково: по осевой линии маршрута идут затылок в затылок с интервалом в один метр гражданские лица: семь человек плюс я и мой заместитель – подъесаул, итого – девять человек. С флангов их прикрывают казаки, численностью до двух отделений, во главе с хорунжим и подхорунжим соответственно. На случай гибели этих младших командиров у них имеются заместители из низших чинов, а именно: урядник и вахмистр.
Стало быть, получаем три продольных ряда по девять человек в каждом – это тело колонны. В авангарде – еще три казака, идут, выстроившись клином, и двое воинов, они же связисты, прикрывают наш тыл, ведя под уздцы вьючного таракана Аркашу, тащившего полевую кухню и другие тяжелые мелочи.
Разрабатывая схему построения колонны, я нарисовал несколько вариантов и выбрал ту, которая в плане напоминала ракету: с острой головной частью и соплом. Я не был опытным стратегом, но такое построение показалось мне красивым, и я его понес на согласование к Ивану Карловичу.
Энтомолог отозвался о моей схеме как близкой к идеальной и спросил, не у муравьев ли я ее подсмотрел. Муравьи выстраиваются в колонну по точно такой же схеме, когда идут на войну. Я уклончиво ответил в том смысле, что все прекрасное разумно, а разумное прекрасно.
Временами я оборачиваюсь и считаю ученые головы, имеющие привычку ломать строй и отвлекаться. Все шесть ученых голов на месте. Мы идем в таком порядке: впереди меня мелькает рыжий затылок подъесаула и его просвечивающие оттопыренные уши; за мной следует Владлен, далее – спецы: Бельтюков Иван Карлович, зоолог Фокин, ботаник Полуньев; за ним идут геодезисты – Тарасевич и Охтин; последним шагает доктор Лебедев. Вообще-то, его надо бы поставить в середину колонны, на всякий случай. Чтоб уберечь доктора, я готов посадить его себе в рюкзак. Такая моя забота о нем, естественно, не проистекает из простого человеколюбия, как, например, к ботанику Полуньеву, которого надо держать на коротком поводке, поскольку он сущий ребенок с седыми волосами, – я руководствуюсь чистым прагматизмом. Потому что с потерей врача мы окажемся в тяжелейшем положении.
Итак, пересчитав людей, я удовлетворяюсь – налицо полный комплект: 19 рядовых казаков, 2 низших чина – вахмистр и урядник, 2 средних чина – хорунжий и подхоружий; 7 гражданских лиц и 1 старший командир, в чине подъесаула, отвечающий за военных. Ну и я, естественно – Старшина похода, отвечающий за жизнь всех. Итого – 32 человека. Таким образом, как минимум, на одного гражданского, включая и меня, приходится по два воина. Плюс резерв из трех казаков авангарда и двух в тылу. Значит, если мы, не приведи Господи, частично потеряем фланговое прикрытие, то сможем залатать дыры из числа резерва. Правда, в этом случае колонна лишится «головы» и «хвоста».
Я уже заметил, как оказенилось мое сознание. Я почти перестал мыслить художественными образами. В голове теперь по большей части вертятся – килограммы, километры, имена и должности людей и прочая проза жизни, обычно мало интересующая художника. Но теперь я не художник, это надо запомнить четко. Я за всех отвечаю. Головой. Поэтому ты, говорю я себе, должен думать именно об этой прозе жизни. Никакие красоты природы и прочие там тра-ля-ля волновать тебя не должны. А волноваться ты должен только за жизнь и здоровье вверенных тебе людей. Но, черт возьми! Очень трудно удержаться от восхищения беспримерной дикостью и красотой джунглей.
Мы пробиваемся через лес гигантских деревьев, сами похожие на тараканов по сравнению с неохватными стволами. Лепидодендронами или чешуедревами называет их наш ботаник Полуньев. Следы от опавших листьев предают их коре вид чешуи дракона. По деревьям вьются папоротникообразные лианы. Подлесок составляют травянистые растения, похожие на папоротники, хвощи и плауны. Наш авангард с помощью топоров и больших тяжелых ножей, смахивающих на мачете, с воинственной яростью, свойственной молодежи, пробивается сквозь эти заросли. Каждые полчаса, когда ребята устают, их сменяют рядовые казаки с флангов. Такая тактика позволяет нам двигаться без остановок.
Еще в начале пути я тоже для разнообразия и солидарности помахал «мачете» минут пятнадцать, но быстро выдохся. Ребята, не желая видеть, как их начальник оконфузится, оттеснили меня в глубь колонны, чтобы я занялся своим делом – общим руководством движения. Весь облитый с головы до ног зеленым соком растений, мокрый от пота, запыхавшийся, я не протестовал.
Больше всего меня донимает влажная жара и тяжелая ноша. На мне надета камуфляжная форма, на ногах – высокие солдатские ботинки со шнуровкой. Все это обмундирование промокло почти сразу же. На груди перекатывается связка небольших газовых гранат (мы должны их применять на случай массовой атаки насекомых вида «мега» или «супер»). Пояс оттягивает пистолет «Макаров» в жесткой кобуре и запасные обоймы. Под мышкой болтается подсумок с противогазом. Плечи выламывает рюкзак с продуктами и питьевой водой. Мой спальный мешок везет Аркаша – и на том спасибо. Казакам приходится гораздо труднее, они еще несут автоматы и боекомплекты. Зато мы экипированы а-ля Шварценеггер и представляем собой грозную силу.
Вечером, заблаговременно, не дожидаясь когда солнце канет в бездну ночи и все погрузится в кромешный мрак, – ведь Луны у этой планеты нет – мы останавливаемся на ночевку. Разбиваем временный лагерь, разводим костры, готовим ужин. Поскольку хищники, даже в образе гигантских насекомых, в основном охотятся по ночам, приходится сразу же побеспокоиться об охране лагеря. Об усиленной охране. Зоолог Фокин снова напоминает всем одно из первейших правил безопасности: если на вас наткнется какое-нибудь хищное насекомое, то – не паникуйте, не орите и не дергайтесь. Лежите спокойно, притворившись мертвыми. В этом случае он, зоолог Фокин, дает высокой степени гарантию вашей безопасности.
Я спрашиваю себя, смогу ли я, не дрогнув ни единым мускулом, спокойно лежать, когда надо мной замаячит чудовищная образина с челюстями-шипами, с концов которых капает яд, – и не нахожу в себе твердости сказать определенно. Хорошо бы в это время грохнуться в обморок.








