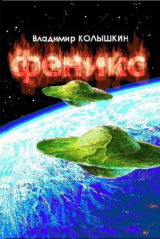
Текст книги "Феникс (СИ)"
Автор книги: Владимир Колышкин
Жанры:
Космическая фантастика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 31 страниц)
Теперь ему за пятьдесят, но выглядит он и держится молодцом. Он энергично вскидывает распрямленные руки со странно короткими ладонями и заставляет нас повторять его движения. Вот, думаю я, человек уже вписался в новую жизнь. Уже нашел себя.
Поблажко никому не делал поблажек. «Стоять прямо, не горбиться. Держите осанку. Без осанки конь – корова. Бегом – марш! Раз-два! – командует он, – Выше ноги. Быстрее, не отставать... Кто там тащится, как недоенные коровы?! Пять кругов – не такая уж большая дистанция. Я сделаю из вас спартанцев».
Из-за отсутствия свободного места вместе с нами занимаются гимнастикой и наше маленькое армейское подразделение – 200 человек молодых ребят в возрасте от 18 до 25 лет. После физкультуры нас ждет работа, а их муштра. Что ж, каждому свое.
Без войска не может существовать ни один уважающий себя народ. Тем более русский. Наконец мы бежим умываться, после чего завтракаем на открытом воздухе. Днем бывает изнуряюще жарко, но хорошо хоть воздух сухой, а то было бы еще тяжелее. Но утром благодать! И еще одно обстоятельство все отметили с большим удовольствием: не было мух, комаров, слепней и прочего летающего гнуса, которые так отравляют жизнь всем покорителям необжитых мест. Правда, водились – и во множестве – разные жучки-паучки и кузнечики, но они мало нас тревожили, за исключением довольно-таки крупных и столь же наглых тараканоподобных тварей.
Я уже упоминал, что здесь отсутствуют цветы (может, это просто место такое?). А раз нет цветов – нет и бабочек. Это слегка портило картину. Что за лес без красивых пестрых бабочек? И без птиц. Скучновато, знаете ли. Впрочем, и на том спасибо! Могли бы завести куда-нибудь в пустыню...
Зато однажды пролетели над поляной две огромные стрекозы. Размах крыльев у них был с хорошую модель планера – около метра! Напугали женщин и кое-кого из мужчин. Но вскоре улетели, не причинив никому вреда. Теперь мы привыкли к полетам гигантских стрекоз и не обращаем внимание. Наш энтомолог Иван Карлович Бельтюков соотнес увиденных чудищ с гигантскими стрекозами родов меганевра и палеодиктиопетра, каковые населяли Землю в каменноугольном периоде.
Отсюда можно было сделать вывод, что прилетели мы на планету землеподобного типа (а на какую еще мы могли прилететь?), населенную древнейшими формами жизни. Такое известие мы встретили спокойно. Но вид у Ивана Карловича в тот миг был чуть-чуть обалделый.
Рядом со мной за общий стол усаживается Владлен. Вид у него какой-то вялый и сонный. Под левым глазом расплылся синяк, цветом отдавая в болезненную зелень. Владлен старательно отворачивается, чтобы я видел только его здоровую половину лица.
– Гимнастику пропускаешь, – говорю я. – Игорь Юрьевич задаст тебе трёпки... Чего такой квёлый?
Владлен отмахивается и нехотя принимается за «нектар». Я отечески интересуюсь происхождением синяка. Владлен сначала хочет отмолчаться, но видя мою бестактную настойчивость, сознается. Оказывается, он подрался! Какой-то мужик решил собственноручно проверить, к какому же все-таки полу принадлежит Владлен. И нахально, при всех, рукой полез к нему в штаны.
– Ну, я и врезал ему... – отвечает Владлен, опять ставя голову ко мне в профиль.
– Понятно, – киваю я, – а он тебе дал сдачи.
– И ничего он не давал! – злится Владлен. – Это уже был другой мужик.
Я вскипаю праведным гневом. С детства ненавижу, когда кучей бьют одного, да еще слабого. Но друг мой сознается, что второй мужик, вернее, парень, к первому не имеет никакого отношения. Просто Владлен «подбивал клинья» к его девушке. Та не только отвергла странные притязания неизвестного пола существа, но и пожаловалась своему кавалеру. И тогда обиженный кавалер... ну, в общем, все понятно.
Я выбрасываю в мусорную корзину пустую баночку из под «нектара», вскрываю другую баночку из нашего скудного пайка и медленно пью студеную родниковую воду.
– Слушай, Владлен, – выжимаю я из себя нехотя, – я хочу, чтобы ты меня правильно понял... Я, конечно, демократ по натуре и убеждениям... и вдобавок твой друг... но в новых условиях жизни я не одобряю твое поведение. Ты уж извини. Хочешь ты или нет, но тебе придется сделать суровый выбор. Либо ты остаешься монахом на всю жизнь, либо... возвращаешься к половой ориентации, данной тебе Богом. Меньше всего мне хотелось бы, чтобы ты ВОСПРИНЯЛА меня как религиозного ханжу, но речь идет ни много, ни мало, как о твоей жизни и смерти. Или ты выходишь замуж, рожаешь детей и живешь счастливо, или, по крайней мере, просто живешь, либо тебя убивают.
Владлен оцепенело слушает меня. А я торопливо заканчиваю:
– В малых изолятах каждая женщина ценится на вес золота. Да что там золота... Она просто не имеет цены! Как, впрочем, и мужчина. Маленькая колония не потерпит никаких транссексуальных штучек и вообще половых переверзий. Для колонии это не просто морально-этический аспект, это вопрос выживаемости вида. Пока мы живем по старым либеральным законом Земли, у нас есть время перестроиться. Но когда появится новый свод законов – типа законов Хаммурапи – всякой половой свободе настанет конец. Можно быть в этом уверенным. И ослушников будут сурово карать.
Не говоря ни слова, Владлен поднимается из-за стола и уходит, весь какой-то подавленный и потрясенный. Я остаюсь сидеть, ругаю себя последними словами за свой противный назидательный тон. Но я искренне хотел помочь товарищу, уберечь от вполне возможной расправы. Как же еще я должен был действовать? Просто люди не любят правды. Правда – вещь хорошая, но она никого не сделала счастливым.
На соседний стул-шезлонг плюхается еще один опоздавший – весельчак и балагур Паша Засохин, довольно-таки горластый мужик. Его голос, как и его идиотский смех, можно было услышать везде и во всякое время.
– Привет, художнику от слова худо! – гаркает Засохин и ржет довольным смехом; кивнув в сторону удаляющегося Владлена, спрашивает: – Что, поцапались? Слушай, проясни один туманный вопрос... Мы вот тут все гадаем: мужик это или баба?
– А какое вам до этого дело? – излишне резко и зло отвечаю я.
– Да просто интересно, кто кого трахает: ты ее или она тебя?
Засохин откидывается на спинку стула и заливается самым противным своим смехом.
Я сидел к нему боком и уже собирался встать и уйти, но задерживаюсь и, не глядя, резко выбрасываю руку в сторону противника и ребром ладони попадаю ему по шее, по адамову яблочку – хрясь! Засохин давится смехом и непроглоченным нектаром, и вместе со стулом опрокидывается наземь. После чего я встаю и спокойно удаляюсь.
Я иду, не оглядываясь, через солдатский плац, прозванный «Марсовым полем», где ребята занимаются строевой подготовкой, и только чутко прислушиваюсь: не бежит ли за мной Засохин, чтобы огреть меня стулом по голове. Но за спиной шума погони не слышно, только несутся в мой адрес глухие проклятья и пожелания моей скорой кончины.
Четко печатая шаг по утрамбованной земле, мимо меня проходят ребята из элитной роты. Они направляются в столовую. Многие из них имеют армейский опыт, но, поскольку мы находимся практически на военном положении, они вновь мобилизованы. Однако «дедов» много не гоняют, а вот новобранцев муштруют по-черному. Впрочем, никакой дедовщины. Здесь с этим строго.
Новобранцы, одетые для военных более чем странно: высокие ботинки, майка, трусы, на голове – разномастные кепки, у некоторых еще гражданские. Они приветствуют своего сержанта, затянутого в камуфляжную форму. «Рядовой Куприянов! – краснея от натуги, орет замкомроты по строевой подготовке, сержант Ладейщиков. – Ты от солнца закрываешься или отдаешь честь?! Рядовой Хамзин, деревня... Запомни: не голову прикладывают к руке, а руку к голове! Понял?» – «Ага». – «Вот я тебе сейчас покажу – „ага“... Третья нога. Отвечать по уставу». – «Так точно, товарищ сержант!» – «Отставить. Товарищи остались на Земле. Обращаться по новой форме». – «Слушаюсь, ваше благородие!» – «Ну это ты хватил... Его благородием будешь называть нашего господина капитана или господина есаула... Рота, стой! раз-два... Напра-а-а-ву! Равняйсь! Смир-р-на! Здравствуйте, засранцы!» – «Здравия жела... ем... желаем, господин сержант!» – «Плохо. Кто – в лес, кто – по дрова... А ну-ка дружно еще раз!..» – «Здрав-гав-гав-гав!!!» – «Вот, уже лучше».
Я узнаю разнарядку работ на сегодняшний день, выбираю самый трудный участок (характер козерога), беру орудия труда и иду вкалывать. С остервенением втыкаю лопату в податливую землю и с бездумностью автомата отшвыриваю от себя вынутый грунт. Так продолжается до обеда. После обеда энтузиазм мой угасает и во время одного из «перекуров», сбегав в корабль за альбомом, сажусь на кучу земли и рисую блиц-портреты полуобнаженных женщин и мужчин. Я рисую и раздаю портреты людям, им нравятся мои работы, и они становятся столь признательны и любезны, что не ропщут, в том смысле, что вот мы вкалываем, а всякие там «худо» прохлаждаются с карандашиком в руке.
Я так увлекаюсь своей привычной для меня работой, что не слышу, как незаметно подкрался десятник.
– Так-так, – говорит он мне в самое ухо, я подпрыгиваю. – Сачкуем, значит. Бумагу мараем, значит. А работать, значит, будет Александр Сергеевич.
– Какой Александр Сергеевич? – растерянно спрашиваю его.
– Пушкин! – рявкает десятник, чуть ли не плюя мне в лицо; его металлические зубы хищно клацают возле моего носа.
– Вы, пожалуйста, не плюйтесь, – говорю я, демонстративно вытирая рукавом лицо. – И не орите. Я здесь не сачкую, а выполняю ответственное задание Магистратуры!
Пока десятник не очухался, добиваю его словами:
– Я не просто рисую – запечатлеваю трудовой энтузиазм масс для летописи поколений. Станьте-ка прямо и не шевелитесь целую минуту.
Десятник обалдело замирает, потом вытягивается во весь свой немалый рост, приосанивается, приглаживая щеточку усов под большим рыхлым носом. Затем он выкатывает глаза и, нацелив их под углом к горизонту на 45 градусов, замирает, почти перестав дышать.
Я ставлю новый лист и от общего к частному быстро набрасываю карандашными линиями исторический облик десятника-первопроходца. Я стараюсь изо всех сил. Через полторы минуты вручаю натурщику его портрет. Он с опаской берет лист ватмана со своим изображением, предполагая самое худшее. Тем большей становится его радость, когда понимает, что портрет ему нравится.
Я здорово польстил ему, нарисовав нос поаккуратнее, чем одарила его природа, а рот попрямее, чем сотворила с ним горькая его жизнь. Я не хотел обижать человека, показывая, каков он есть на самом деле. Зачем портить отношения. Я нарисовал его, каким он себя воображает.
– А что, похож, – говорит десятник, разглядывая портрет под разными углами. – Здорово! Вылитый я в молодости. Слушай, как ты угадал, каким я был?
– Интуиция художника, – лаконично отвечаю я. – Можете повесить портрет в своей каюте, но не забудьте через год-два сдать его в музей трудовой славы.
– Конечно, конечно, – заверяет десятник, бережно сворачивает бумагу в трубку и, пожелав мне успехов в работе, удаляется.
Я от души смеюсь. Беззлобно. Первый раз, пожалуй, я остался доволен своим враньем. В общем-то, я стараюсь не лгать, но обожаю розыгрыши. Особенно, если за них не придется расплачиваться. Ведь не пойдет же он в самом деле в Магистратуру узнавать, обманул я его или нет? Его туда и палкой не загонишь. Зато теперь я могу делать рисунки во всякое время, не наглея, конечно, но когда мне этого особенно захочется.
– Господин Колосов, – раздается женский голос за моей спиной.
Я оглядываюсь. У подножия земляного кургана, на котором я восседаю, стоит знакомая дама, чье имя мне теперь известно. Зовут ее Калерия Борисовна Робизон-Аршинникова. Аршинникова, объяснила она, это ее девичья фамилия, с которой она не пожелала расстаться, а Робизон она по мужу – лысому брюнету. (Он был в молодости таким кудрявым и таким подвижным! – ностальгически закатывая глаза, рассказывала Калерия Борисовна.) Неизвестно, кем она работала на Земле, но здесь она стала заведующей продовольственным складом. Пока, на первое время, как уверяла она. На Калерии Борисовне надеты шорты, объемистые ее груди поддерживает в воинственном положении бюстгальтер от купального костюма. Открытые сандалии на высоком каблуке выгодно удлиняют полные стройные ноги мадам Робизон-Аршинниковой. Нежная ее кожа уже успела загореть до красноты вареных раков, а ближе к закрытым, интимным местам еще сияет белизной. Левой рукой Калерия Борисовна держит папку с документами (экономика – это строгий учет), прижимая ее к животу, уже проявлявшему первые признаки рыхлости, а правой рукой кокетливо-заученным движением поправляет прическу.
– Для вас – просто Георгий Николаевич, – говорю я светским тоном, сползая с кучи и отряхиваясь.
– Георгий Николаевич, голубчик, если вы не заняты, не могли бы вы мне помочь? – Взгляд Калерии Борисовны прямолинеен и многообещающ. – Мне нужен сильный мужчина...
Глядя на нее, я не сомневался – ей действительно нужен мужчина сильный.
– ...Мои грузчики куда-то ушли, а необходимо срочно перенести пять ящиков...
– С удовольствием вам помогу, – отвечаю я галантно и, по возможности, молодцевато.
И мы направляемся к кораблю. Работа оказалась необременительной. Я перенес указанные Калерией ящики из одного помещения склада в другое, в точности такое же, так и не поняв смысла перемещения груза. Но от меня никто и не ждал рассуждений, а ждали работы. И я ее выполнил и неожиданно в награду получил баночку шпротов и полбуханки черного хлеба, сладко пахнущего полями Родины. Калерия Борисовна сунула мне эту натуральную оплату в руку решительным жестом, не терпящим возражений. А я и не возражал. Стану я возражать при нашем-то скудном, но что больше всего раздражает, – однообразном пайке.
Мы взаимно благодарим друг друга, и я бодро топаю к выходу, но Калерия Борисовна окликает меня и просит еще об одном одолжении.
– Георгий... вы не могли бы нарисовать мой портрет?.. А то в купе у нас такая голая скука. Уюта нет... А большой портрет украсил бы помещение, сделал бы его менее казенным. Желательно маслом...
– Но у меня нет масляных красок.
– Я вам все достану, – заверяет она горячо и убедительно, – и краски, и холст, и все, что угодно...
– Это было бы здорово! – обрадовано оживляюсь я, меня охватывает настоящая творческая лихорадка.
– Только вы нарисуйте меня в платье XIX или XVIII века, сможете?
– Отчего же не смочь, – заверяю я, – сможем и в платье написать, можем и без.
Такая реплика с моей стороны – почти что провокация.
– Ну что вы... – смущается она, наигранно, – для обнаженной натуры я не достаточно стройна.
Теперь она провоцирует меня. Она надеется, что я стану ее разубеждать и наговорю ей кучу комплементов. Но я, устав от светскости, счел за лучшее промолчать, чем, наверняка обидел ее. И хорошо, что я промолчал. А то бы мог брякнуть ненароком, что многие художники (но не я) отдают предпочтение живой натуре весьма далекой от идеальных пропорций. И даже более того: чем безобразнее такая натура, тем лучше.
Покинув хозяйство Калерии Борисовны, я заскакиваю в свою каюту – оставить дивно пахнувший аванс за картину (Боже! как она угадала, что я хотел больше всего на свете в последние дни, не считая, конечно, табака) и отправляюсь в котлован, на один из авральных объектов нашей стройки.
В первую очередь нам нужно построить ангары для укрытия техники от непогоды. Не дай Бог, все механизмы заржавеют – тогда мы пропали. А дожди здесь, как выяснилось, довольно частое явление. И жара. Жара и дождь. Повышенная влажность, от которой жара только сильней тебя донимает. В общем, все прелести тропического климата налицо.
До конца смены я добросовестно кидал землю, пока не заломило спину и не потемнело в глазах. Звуковой сигнал с корабля, возвестивший об окончании работ, я встречаю как благословение небес. Наконец-то я смогу отдохнуть и заняться творчеством. Но, оказывается, радость моя преждевременна.
Сегодня утром с корабля выгрузили громадные деревянные ящики с оборудованием для мини-завода, но укрыть их от непогоды, как водится, забыли. Поздно вечером, когда я работал над эскизом к одной из будущих картин, а Владлен спал, по своему обыкновению зарывшись с головой в одеяло, по радио объявили, чтобы мужчины вышли на авральную работу. Холодный ум советовал мне сидеть на месте и продолжать спокойно работать, но горячее сердце старого комсомольца рвалось из груди.
И ведь я прекрасно понимал, что авральная эта работа по большей части, если не всегда, есть результат нашего собственного головотяпства, лени и безответственности. Начальство не доглядит, а рабочему по фиг – отсюда производственный травматизм и производственный же героизм. Но общественный инстинкт (а может, мужское самолюбие – я тоже молод, я тоже силен!) выталкивает меня вместе со всеми мужчинами из сухого помещения на растерзание поднявшемуся ветру, под душ тропического ливня.
Прожекторы корабля световыми перстами протыкают первобытный мрак планеты, освещая участок авральных работ. Дождь льет как из поливального шланга толстыми струями. Из боязни опоздать, я не успел надеть непромокаемую накидку и, как был одетым в корабельную одежду для отдыха, присоединяюсь к работающей команде.
Под вихрями враждебными мы должны были не только натянуть укрывочный материал, но и закрепить его как следует, чтобы наши труды и материал не унесло ветром.
Мы героически сражаемся с десятками квадратных метров непромокаемого материала, норовившего взлететь в воздух и утащить тебя за собой, как воздушный шар переполненный гелием. Огромные ветвистые молнии светятся по 3 – 5 секунд кряду, а яркость их столь высока, что кажется, будто взрываются атомные бомбы. Последующий затем грохот, раскалывавший небо и землю, еще больше подтверждает эту мысль. Раскисшая земля – очень плохая опора для ног. Мы часто падаем в жидкую грязь, перемазываемся с ног до головы и становимся похожими на чертей или грешников в аду.
Наконец, мы одолеваем сопротивление взбесившейся стихии и усталые, но гордые собой, разбредаемся по каютам.
Промокший до нитки, пропитанный водой как губка, невероятно грязный, я шлепаю босыми ногами по полу коридора и мечтаю скорее оказаться под горячими струями душа. Войдя в санблок, я сворачиваю к универсальным гигиеническим кабинам и дергаю ручку первой же двери. На мое счастье кабина уже освободилась.
Гигиенические кабины действительно универсальны – оборудованы всем необходимым: унитазом, умывальником, душем и мини-прачечной. Я стал сдирать с себя прилипшую к телу мокрую, грязную одежду и бросать эти неопрятные комки в загрузочную камеру стиральной машины. Захлопнув смотровое, оно же загрузочное, окно, я нажимаю кнопку пуска. Процесс, как говорится, пошел. Процесс стирки, сушки, глажки. А я тем временем поворачиваюсь к душу передом, к дверям задом.
И тут дверь отворяется – так всегда случается, когда забываешь запереть защелку – и в кабину ко мне входит Калерия Борисовна, одетая в ярко-красный шелковый халат, туго обтягивающий ее сдобную фигуру. На фоне серых стен она смотрится как яркий цветок.
Но первая моя реакция на ее появление – истерично-типическая.
– Сюда нельзя! Ко мне нельзя! – ору я на нарушителя святых законов уединения, и, став боком, прикрываюсь растопыренными пальцами.
– Почему это к вам нельзя? – наивно спрашивает Калерия Борисовна спокойным голосом и начинает журить меня игривым тоном, при этом, как бы машинально, закрывает задвижку двери. – Нехорошо чураться народа.
– Послушайте, так же нельзя... – жалуюсь я вполне искренне и иду на нее, неуклюже сгорбившись, боком, как краб, с намерением выдавить плечом непрошеную особу из кабины.
Наскакиваю на упругое препятствие – я отброшен назад. Я смущен.
– У вас спина грузчика, – говорит Калерия Борисовна, прикасаясь рукой к моему телу. – У, какие мышцы твердые! А кожа нежная, как у десятиклассника, никогда бы не подумала...
– Какая, к черту, кожа, – бурчу я, опять становясь боком, как на дуэли. – Я весь в грязи с головы до ног.
– Это ничего, я не боюсь грязи, – говорит она с придыханием и дергает завязки своего халата; он с шелестом скользит по ее телу и цветком увядает возле ее ног. – Ты не хочешь меня обнять?
"Черт побери, она же голая! – удивляется моя совесть.
«А ты как думал, болван? – ехидно вякает мое либидо. – Хватай ее и трахай! она за этим сюда и пришла».
Зачем себя обманывать, соглашается мое объединенное "Я", ведь я хочу эту женщину. И даже не конкретно ее, а просто женщину. Любую.
– А как же Додик? Он этого не переживет, – говорю я, делая последнюю уступку своей совести, одновременно поворачиваюсь к ней лицом и больше не скрываю своего возбуждения.
– Ух, ты! – невольно вырывается у нее восклицание. – От меня не убудет, – отвечает она, плотно ко мне прильнув.
Этим действием она словно бы нажала на некий рычаг, и мои руки автоматически смыкаются на ее бедрах.
Ну что ж, думаю я, если ты хочешь грязной любви, то – пожалуйста... Я мажу грязью ее нежные бока, спину, тяжелые груди. Слившись в объятиях, мы скользим относительно друг друга как два червяка. Потом мы взаимно впиваемся губами, подобно двум вампирам, готовых высосать из партнера кровь. На губах ее уже давно чувствовался тот специфический вкусо-запах особого секрета, который усиленно вырабатывает в такие моменты некая женская железа, дабы привлечь самца.
Скользнув змеей по моему телу, она разворачивается ко мне спиной. Я сжимаю ладонями ее напряженное вымя так, что она стонет от боли и удовольствия. Я бросаю эту истомившуюся кобылицу, эту Кавалерию Борисовну на умывальник. Она упирается руками в раковину, выставив свой соблазнительный зад в грациозном изгибе спины. Я легко въезжаю в ее парадные ворота, которые она активно движет мне навстречу. От ее горячего дыхания стало запотевать зеркало умывальника, словно увиденное его смутило. И только бесстыжая Калерия глядела на меня сквозь этот туман и громким прерывающимся голосом стала вдохновлять мужчину на безостановочные атаки, требуя усилить натиск.
В нашу дверь кто-то постучал. Потом послышались скребущие звуки и скулеж, похожий на собачий, когда она просит хозяина пустить ее, гулену, домой. Может, это был Додик? Пришел заявить свои права на Калерию Борисовну – свою законную супругу, которая в этот миг так нахально и грязно предавалась прелюбодеянию с художником Колосовым в общественной гигиенической кабине.
А мы бесстыдно продолжали нарушать заповедь Божью и человеческую – не прелюбодействуй, взахлеб пили сладкий яд греха.
– О Додик! – рыдающим голосом произносит она, яростно наезжая на меня своей кормой. – Если бы ты знал, как хорошо сейчас твоему котеночку-у-у!
– Ты заперла дверь? – спрашиваю я, не сбиваясь с ритма.
– Наверное, – отвечает запыхавшаяся партнерша, двигаясь в противофазе.
– Что значит – «наверное»?!
– Да-да-да! – орет она в экстазе.
– Нет, он, вообще-то, ничего, мой Додик, – откровенничает она, намыливая мне спину, когда мы, закончив сексуальные упражнения, перешли к водным процедурам. – Хороший добытчик, все – в семью, тут я довольна... Но как любовник он слишком предсказуем. Он, как и большинство мужчин, не понимает, что женщина любит спонтанный секс. И как запрограммированный робот – строго раз в неделю и всегда в одном и том же положении... Не скажу, чтобы он не пытался импровизировать. Но посуди сам: нам потребовалось пять лет супружеской жизни – ПЯТЬ ЛЕТ! – чтобы наконец-то сменить позицию. В этом отношении он тебе не конкурент. В тебе сразу чувствуется хватка опытного мужика. Ты знаешь, как обращаться с женщиной, чего она подспудно хочет... ожидает...
У меня нет желания ее разочаровывать, и потому я не стану ей объяснять, что я мало чем отличаюсь от ее Додика в этом плане, что я так же скучен и однообразен, как большинство мужчин. Потому что заниматься сексом с фантазией, значит впустую тратить драгоценную энергию либидо, для творчества уже ничего не останется. К сожалению, ресурсы энергии у человека не безграничны. Приходится делать жесткий выбор: направлять ли божественный мужской гармон – тестостерон – на акт совокупления или на акт творческий. И я мужественно промолчал.
Я безгласно внимаю ее похвалам в свой адрес и накапливаю энергию для второго раунда. Ибо золотое правило мужчины-любовника гласит: в первую встречу ЭТОГО должно быть много. Как минимум два раза, иначе женщина вас будет презирать.
Окончив обязательную исповедь и получив от меня индульгенцию, она вновь спешит грешить. Она усаживается на пластмассовый поручень, что проходит, изгибаясь, вдоль всей душевой кабинки. Бедра женщины сами собой раздвигаются. Зеленоватые (блядские) глаза Калерии приглашают заняться на этот раз чистой любовью. Вздохнув, я делаю шаг вперед. И сразу попадаю в капкан ее ног, крепко сомкнувшийся за моей спиной.
Второй раунд длится долго, как и весь этот день. После чего мы тепло прощаемся. Довольная Калерия поскакала к своему угасшему очагу. За углом ее кто-то останавливает и что-то от нее требует. «Не будь смешным, Додик, – смеется Калерия. – Тоже мне, лысый Отелло нашелся!» – «А почему у тебя халат запачкан грязью?!» – вопит негодующе лысый Отелло. «Потому что аврал был, а я ответственное лицо!» – «Аврал объявлялся для мужчин!» – «А чего же ты тогда дома сидел?» – «Ты же меня сама не пустила!» – «И правильно сделала, еще простудишься... Давай, Отелло, пошли домой, а то я тебе сейчас так надездемоню... будешь знать, как меня подкарауливать...»
Что же это у меня за стезя такая – чужих жен отбивать, огорчаюсь я, добром это не кончится. Предчувствие меня не обмануло.
На утро нас с Владленом арестовали.
Глава семнадцатая
УЗНИКИ
Пренеприятное положение-с!
Лермонтов, «Герой нашего времени»
На седьмой день Бог, как известно, отдыхал и завещал людям делать то же самое. И у нас в колонии на седьмой день после Прибытия был объявлен выходной день. Стало быть, новое летоисчисление – хотя бы и неофициально – принято.
Хорошо в погожий воскресный денек погулять по городу или побродить по дорожкам парка, посидеть на скамеечке в тихом скверике или с мольбертом отправиться на пленэр. Все доступно свободному человеку. И не всегда он это осознает и ценит. Но стоит только человека посадить в каталажку, как он тут же понимает, каких лишился благ.
После общей гимнастики, которая не отменялась ни в какие дни, я намеревался сделать пейзажные наброски, выбрав самые интересные уголки природы вокруг нашей космической баржи – аванпоста человечества на этой планете. У Владлена тоже были свои планы относительно выходного дня.
Собравшись выходить, Владлен толкает плечом дверь, но она не поддается. «Что, мало каши ел?» – смеюсь я и, радуясь случаю продемонстрировать мужское превосходство, ударяю в дверь рукой, но лишь отбиваю ладонь. Разгорячась, я чуть не повредил себе плечо. Владлен вовремя меня останавливает. «Все ясно, – произносит он упавшим голосом, – нас заперли».
Может быть, ему и было ясно, но лично я не черта не понимал. Кому пришла в голову такая дурацкая шутка, или это чья-то месть? Если это Паши Засохина мелкая пакость, то я ему разобью всю морду.
Мы уже с яростью колотим руками и ногами в металлическую, обшитую пластиком дверь, поднимается невообразимый шум. Вдруг ручка поворачивается и наша дверь отворяется. Заходит охранник Василий (не знаю, как его фамилия), одетый во всегдашнюю свою форму. Охранник зол и нервно бьет дубинкой по своей открытой ладони.
– Допрыгались, голубчики, – говорит он, хищно так улыбаясь; после чего объявляет нам, что мы взяты под домашний арест, и нашу участь, которой он, Вася, не завидует, решит суд.
– За что? – задаю я сакраментальный вопрос заключенного.
– За все, – отвечает он мне столь же лаконично.
– Это произвол! – кричим мы и прем на тюремщика.
– Сидите тихо, иначе поколочу дубинкой, – говорит охранник совсем уж не товарищеским тоном. – Вы мне весь выходной испортили, поганцы. Охраняй тут вас..."
Дверь с грохотом закрывается. Мы тотчас принимаемся колотить в нее до гулкого содрогания корабля. Василий вскакивает к нам, как разъяренный лев. Но мы спокойно объясняем ему, что по всем человеческим нормам, заключенных по утрам обычно выводят в места общего пользования, если таковыми не оборудованы их камеры. Так что давай, надзирательская твоя душа, веди нас в гигиенический блок.
Когда мы шли по коридору, у меня была возможность вырубить Васю без лишнего шума. Я мог бы это сделать, нас специально этому учили в армии – как выходить из подобных ситуаций. И Владлен, по-видимому, ждал от меня активных действий. Но я не видел смысла во всей этой жан-клодвандаммовской возне. Куда бежать? Кругом дремучий лес! Это обстоятельство привязывало нас к кораблю лучше всякой веревки. Тогда зачем вообще нужен этот глупый арест? А за тем, сказал я себе подумав, чтобы правители могли продемонстрировать народу свою силу и власть. Чтобы другим не было повадно. Порядок и дисциплина должны поддерживаться жесткими мерами – это аксиома политики. Поэтому, на тревожно-вопросительный взгляд Владлена я только отрицательно покачал головой. Мы решили не усугублять своего положения и подчиниться власти, сколь бы сомнительна она ни была.
Сидя в тесном помещении купе, освещаемом тусклым потолочным плафоном, у нас было время подумать о себе и о жизни вообще.
И я подумал:
Почему такие суки типа Паши Засохина, всегда находятся в струе общества, а я всегда с краю?
Почему им никогда не приходится доказывать свою полезность обществу, а я должен делать это перманентно?
Они априори – столпы общества или, по крайней мере, подпорки; на них всегда есть спрос, а на таких, как я, никогда нет спроса. Я всегда был и буду подрывным элементом, почему?
А потому, ответил я себе через некоторое время, лежа на диване и глядя в потолок, потихоньку зараставший зеленой плесенью, – что я художник. Художник по своей натуре оппозиционер. У него никогда не бывает полюбовных отношений с официальной властью и с тем, что считается правилами хорошего тона, то есть – молчать, когда тебя не спрашивают, и говорить то, что хочет слышать заправилы истеблишмента. Причем качества оппозиционера и неудобного человека у будущего художника закладывается с детства.








