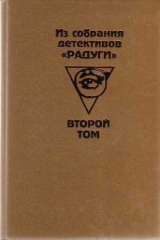
Текст книги "Из собрания детективов «Радуги». Том 2"
Автор книги: Вилли Корсари
Соавторы: Франко Лучентини,Карло Фруттеро
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 34 страниц)
XI
Не знаю, было ли такое же чувство у отца и у Агнес, но, когда мы отправлялись на юг, я про себя думал, что с каникулами в этом году нас просто преследует рок. Сначала тот неприятный разговор с отцом, потом несчастье с бабушкой, и вот теперь мы едем на юг отнюдь не в приподнятом отпускном настроении.
Однако частенько везет именно тогда, когда уже ничего хорошего для себя не ждешь.
Недели, проведенные в маленьком курортном местечке, были, может быть, самыми прекрасными в моей жизни. Отец поправлялся прямо на глазах. Через несколько дней он уже ходил с нами по утрам на пляж, немножко плавал, днем мы вместе гуляли, а к вечеру совершали прогулки на машине. Это по его настоянию мы на следующей неделе побывали на празднике в соседней деревне. Там исполнялись народные танцы в национальных костюмах, а потом был бал.
Я танцевал с весьма симпатичными девушками. Отец и Агнес тоже прошлись раза два. Во время танцев мы с Агнес переглядывались и улыбались друг другу. Агнес в последнее время была такая веселая, какой я ее не знал. Наверное, она очень нервничала из-за отца, думал я, а теперь успокоилась и радуется, что он выглядит все лучше. А может быть, немножко и потому, что я очень старался быть с ней сердечным и внимательным. И это не стоило мне ни малейшего труда. Может, я и в самом деле ее полюбил.
В таком радужном настроении, как в тот вечер, я отца никогда не видел. Однажды, вскоре после этого, Агнес была у парикмахера, а мы с отцом пошли погулять. Тут мы впервые разговорились по душам. Он спросил, есть ли у меня какие-нибудь соображения относительно моей будущей профессии. Я ответил, что намерен изучать медицину. Собственно говоря, я еще не принял окончательного решения, а колебался между различными вариантами. Но сейчас ответил так решительно, чтобы он понял: пытаться оказать на меня давление не имеет смысла. Но он и не сделал такой попытки. Я отлично понимал, что он несколько разочарован, но отговорить меня он не старался. Сказал только, что это прекрасная профессия, но трудная и у меня есть время хорошенько все обдумать. Спросил также, собираюсь ли я учиться в Голландии, ведь впоследствии я, возможно, захочу обосноваться в своей родной стране. Но об этом мне тоже еще предстоит подумать.
Его уступчивость тронула меня. Впервые мне показалось, что отчуждение между нами исчезло. Я чувствовал, он в самом деле рад, что отпуск мы проводим вместе. А я-то не поверил, когда мне об этом сказала Агнес. Сейчас мне было стыдно за себя. Почему я так плохо думал о своем отце? Он всегда был добр ко мне. Никогда не проявлял излишней строгости. Никогда не пытался меня принуждать, кроме одного-единственного пункта, и то ради моего же блага. И просто несправедливо было с моей стороны испытывать к нему из-за этого молчаливую неприязнь. Я не имел права вести себя так, будто он тиран, заставляющий меня отречься от моей матери. Может, где-то он и переходил границы, но лишь потому, что боялся за меня. Наверное, все было бы гораздо проще, если б у меня был брат или сестра. Говорят, когда в семье только один ребенок, родители слишком носятся с ним.
Я даже почувствовал искушение тут же поговорить с отцом, рассказать ему, как я страдал, принужденный, хоть и из самых благих побуждений, молчать о моей матери. Но я не осмелился. И на этот раз меня удержала не обычная робость, а страх нарушить покой отца.
Вечером после нашей прогулки я, лежа в постели, думал о нем и радовался, что мои чувства к нему стали теплее и естественнее. Еще маленьким ребенком я слишком высоко его превозносил. Так бывает: сам вознесешь человека на пьедестал, хочешь видеть в нем существо высшего порядка, а потом обижаешься, что он всего лишь человек, как и другие, со своими слабостями и недостатками. Больше он не был для меня «великим человеком», незнакомцем. Теперь я смотрел на него без преувеличения и робкого благоговения, без идеализации, но, с другой стороны, не преувеличивая особенно и его недостатки. Я стал восхищаться им по-новому: не как неким отвлеченным героем, но как человеком выдающихся способностей, который невероятно много работает и, несомненно, в силах оказывать положительное влияние на события в мире. Я был совершенно уверен, что всеобщее внимание, которым он пользуется, вполне им заслужено. Такая перемена во мне и в наших отношениях послужила главной причиной того, что эти каникулы были для меня такими счастливыми. И я уже ничуть не жалел, что мне не пришлось поехать с Луиджи. То, что произошло здесь, было для меня гораздо важнее всего удовольствия от каникул, проведенных с приятелем.
Этот внутренний переворот во мне коснулся и Агнес. В самом деле, почему я всегда смотрел на нее как на женщину, обладающую многими достоинствами, но внутренне холодную? Потому что она не была нежна и ласкова со мной, когда я был ребенком? Я никогда не думал о ее отношениях с отцом. Не так уж, наверное, гладко все шло. Видно, я все-таки находился под впечатлением высказывания той старой дамы в Париже. И это очень глупо и несправедливо. Я сознавал, что должен загладить свою вину перед Агнес, и вел себя с ней особенно сердечно и внимательно. По-моему, ее это радовало – во всяком случае, она все время была в прекрасном расположении духа.
В таком бодром и счастливом настроении, не без грусти, отправились мы в обратный путь.
По настоянию Агнес мы предполагали совершить его в два приема. Она объяснила, что так для нее будет менее утомительно. Но это явно была лишь отговорка. Агнес могла целый день сидеть за рулем и оставалась бодра, как молодая лошадка. Ей просто хотелось как можно дольше растянуть отдых отца. Поэтому мы поедем через Прованс и остановимся на ночлег где-нибудь в Авиньоне или Тарасконе, как получится.
– Там тоже есть что посмотреть, – оживленно говорила Агнес. – Времени у нас достаточно, и мы можем делать что нашей душе угодно.
Это тоже было новое в ней. Как правило, она тщательно все рассчитывала и планировала наперед. Такая беззаботность свидетельствовала, что эти дни и ее привели в необычное состояние.
Когда мы прибыли в Авиньон, отец сказал, что, пожалуй, стоит переночевать здесь. Однако сначала мы пошли осматривать город и окрестности.
К обеду мы пришли к гостинице, которую приметили еще из машины. Но мы сделали небольшой крюк, чтобы я мог купить открытку для Аннамари в магазинчике, мимо которого мы уже проходили, гуляя по городу. Против этого магазинчика с сувенирами и открытками находилось кафе. На его террасе толпились туристы, которые несколько часов назад вылезли из автобуса, а позже я издали видел, как они, точно стадо овец, бродили за гидом по папскому дворцу.
Вдруг один из туристов вскочил со стула и бросился через дорогу к моему отцу, который следом за мной и Агнес направлялся в магазин. Это был маленький толстяк, очень смуглый и черноволосый.
– Эччеленца! Эччеленца! – вопил он.
Подбежав к отцу, он разразился целым потоком слов по-итальянски, из чего я понял, что когда-то он был в услужении у моего отца. Он возбужденно тараторил о своей радости после стольких лет вновь увидеть «эччеленца», о счастливой случайности, о своей жене, которая – вот жалость! – как раз отправилась за покупками, о своем деле, которое так хорошо идет, что они подумывают перестроить и расширить его, и о том, как они благодарны «эччеленца».
Услышав его вопли, я обернулся и остановился посмотреть забавный спектакль: маленький, толстенький человечек с истинно итальянским пылом жестикулировал, глядя на отца снизу вверх, точно мопсик, который, лая и виляя хвостом, бросается на борзую и пытается вовлечь ее в игру.
Но когда я взглянул на отца, сцена уже не показалась мне забавной.
Его лицо вдруг скрылось под маской с прорезями для глаз. И в глазах, и во всем его облике чувствовался решительный отпор, явное недовольство и даже враждебность. Плотно сжатые губы не сложились в формально любезную улыбку, ничего ему не стоящую, а ведь обычно он раздавал эти улыбки, точно мелкую монету.
В чем отец достиг подлинного совершенства, так это в умении в абсолютно корректной и любезной форме отделываться от назойливых людей. Мне часто приходилось это наблюдать, и я всегда восхищался его искусством. Даже речи не могло быть о хоть малейшей невежливости, не говоря уже о явной неприязни. Мило и дружелюбно улыбаясь, он ставил их на место или вовсе выпроваживал. Поэтому я был изумлен, видя, что отец ведет себя явно недостойно, да еще по отношению к человеку, который когда-то у него служил. С подобными людьми он всегда был особенно дружелюбен и благожелателен. А тут поставил беднягу в такое жалкое положение.
Но, может быть, этот человек был им в свое время уволен при неблаговидных обстоятельствах, за воровство например. Нет, вряд ли. Зачем бы он после этого так радостно бросился к отцу.
Вся сцена продолжалась не больше минуты. Потом взгляд толстяка упал на меня. Он, видно, хотел что-то спросить у отца, но отец вдруг схватил его под руку и повлек за собой. Теперь заговорил он, и я видел, что он улыбается. Его поведение изменилось так разительно и так мгновенно, что я засомневался: может, я вообразил себе невесть что и принял за враждебность естественное недоумение.
Человечек, впрочем, ничего не заметил. Он все так же снизу вверх смотрел на отца, и лицо его лучилось восторгом.
Может, я и не придал бы значения этому эпизоду, но тут Агнес просунула руку мне под локоть и потащила меня в магазин, нетерпеливо приговаривая:
– Ну что ты уставился? Тебе же надо еще купить открытку.
Я посмотрел на нее, удивленный ее тоном, и заметил, что она очень взволнованна. В чем дело? Мне даже показалось, что в ее глазах мелькнул испуг. Но это было и вовсе невероятно. Не могла же она испугаться маленького, добродушного человечка.
Через витрину я видел, как он, энергично жестикулируя, разговаривает с отцом. Чуть погодя отец с приветливой улыбкой пожал ему руку. Неужели я все придумал? Я украдкой взглянул на Агнес, но по ее лицу не сумел ничего прочесть.
Я выбрал открытку и надписал ее, но мое прекрасное настроение было испорчено. Отец меня разочаровал. Было, во всяком случае, ясно, что он увлек человечка в сторону, чтобы не дать ему подойти ко мне. Что, тот был слишком низкого происхождения и недостоин разговаривать со мной? А может, он знал меня еще маленьким ребенком? Тут меня осенило: это же был вечный страх отца, как бы я не вспомнил что-нибудь такое, что меня расстроит. Я разозлился. Хотя в глубине души не был убежден в правильности своей догадки.
В этот момент отец вошел в магазин. Они с Агнес поставили свои подписи на открытке, и мы пошли на почту. Потом отец сказал:
– Ну, мы все осмотрели, поедем дальше.
Я удивился:
– Мы же собирались здесь переночевать?
Но Агнес быстро вмешалась:
– Еще рано. Мы еще успеем засветло проехать большой кусок пути.
И мы поехали. В Лион, где и заночевали. Агнес вела машину быстро, молча. Отец тоже почти не разговаривал. У меня было странное чувство – мы словно спасались бегством. Но от кого? От чего? Теплое душевное настроение, владевшее нами, исчезло, не оставив следа.
Почему? Почему? Что же все-таки случилось? Отец снова был мне чужим. Даже более чужим, чем раньше. С горечью спрашивал я себя, неужели между взрослыми и их детьми лежит непреодолимая пропасть? Должна же быть причина, почему многие из знакомых мне мальчиков живут в разладе с родителями. Почему они иной раз просто враждуют с ними. Неужели родители не в состоянии понять собственных детей? Неужели они не знают – хотя когда-то наверняка переживали то же самое, – как много дети подчас замечают, сколько раздумывают и ломают головы над жизнью своих родителей?
Я с грустью думал, что взрослые, возможно, и друг друга-то плохо понимают, и невольно сравнивал своего отца с отцом Луиджи. Тот, если встретит кого-то, непременно потом подробнейшим образом доложит и объяснит все жене и детям. В доме у Луиджи не могло быть и речи о взаимной враждебности или скрытности, потому что у всех у них что на уме, то и на языке: они даже невинные маленькие секреты друг от друга по большей части не способны хранить. Я всем своим существом чувствовал, что у отца и Агнес есть от меня тайна, притом отнюдь не невинная. Возможно, я и раньше что-то такое подозревал, только не сознавал этого. Маленький человечек был итальянец, но, похоже, дело тут было не только во мне и в моем здоровье. Точнее сказать, у меня было ощущение, что в этом случае отец руководствовался чем-то иным, а не обычной заботой обо мне.
Я мог бы отмахнуться от этого эпизода и постараться забыть его, убедив себя, что все это мне почудилось, если б не был уверен, что Агнес напугало появление этого человека. И если б они оба вели себя после этого так же, как прежде. Но что они оба переменились, мне не почудилось. И потом, этот неожиданный отъезд… Как бегство.
XII
– Ты все понял шиворот-навыворот.
Вздрогнув, я очнулся от раздумий и увидел, что терраска заполнена народом. За соседним столиком расположились молодые люди – три девушки и три парня моего возраста. Компания была шумная, неряшливо одетая, девушки с растрепанными волосами, в каких-то немыслимых шортах. Они болтали на плохом французском. Ничуть не привлекательная группа, и тем не менее мне вдруг страшно захотелось быть с ними, быть обыкновенным и молодым, немножко глупым и веселым, как они.
Рядом с ними я вдруг почувствовал себя глубоким старцем. Сидит такой вот старый хрыч и ломает себе голову, вместо того чтобы развлекаться.
Ту фразу выкрикнул толстяк. Ее встретили громогласным хохотом. Похоже, они его дразнили. Но на меня его слова произвели глубочайшее впечатление. Такой прекрасный ответ на все мучившие меня вопросы, на все ужасные предположения, которые я так долго глушил в себе. Предположения, которые я даже мысленно не решался сформулировать.
Все понято шиворот-навыворот.
Может, я действительно все воспринимал превратно, поэтому совершенно безобидные мелочи вызвали у меня этот кошмар, из которого я потом пытался делать выводы. Во мне вспыхнула дикая надежда. Конечно, именно так все и было! У меня слишком богатая фантазия! Вероятно, и я в самом деле чересчур впечатлителен. До сих пор! Слова, услышанные в тот день в Париже, не прошли для меня даром, и в этом кроется причина моего недоверия к родителям. Смешно! Столько неприятностей из-за глупых выдумок, основанных почти на пустом месте. Встреча, которая моему отцу была не совсем приятна. Ладно, а дальше что? Испуг Агнес? Может быть, просто досада, оттого что отец попал в затруднительное положение и его хорошее настроение было испорчено. Только и всего. Да еще этот фильм. Вернее, рассказ про фильм. В конце-то концов все сводится к этому?
Я расплатился, встал и поплелся к гостинице, изо всех сил стараясь поддержать искорку надежды в своей душе… Самое лучшее было бы больше не думать вовсе, но это невозможно. От одного воспоминания я не мог отделаться – от разговора с Луиджи насчет того фильма.
Это было спустя два месяца. К тому времени я постарался эпизод в Авиньоне забыть, во всяком случае выбросить из головы. Возможно, мне постепенно удалось бы уверить себя, что это происшествие не имело никакого значения. Обычная родительская забота о моем благополучии.
Тут-то Луиджи и рассказал мне про фильм. Назывался он «Шантаж».
Я живо помню, как возбужденно Луиджи пересказывал мне содержание. В такие минуты он здорово смахивал на первоклашку. В чем-то он такой и есть, несмотря на раннее развитие и все его любовные приключения. Эта детскость есть у них у всех – у Луиджи, его родителей, его сестер. Может, именно поэтому я так их любил и сам чувствовал себя у них моложе и веселее, чем когда был дома.
В голове у меня звучит голос Луиджи:
– Там кто-то шантажирует людей. Один из-за этого разорился, другой покончил с собой. Потом жертвой негодяя становится главный герой. Ты, естественно, понятия не имеешь, кто он такой, не знаешь даже, мужчина это или женщина. Слышишь только приглушенный голос по телефону, видишь неясный силуэт, руку, которая забирает деньги, всегда в пустынном месте, в дупле какого-нибудь дерева. Ну да ты знаешь, как это бывает. Вначале подозреваешь почти каждого, и мужчин и женщин. А к концу возникает некто, на кого ты никогда бы не подумал. Веселый, добродушный человечек, он в большой дружбе со своей жертвой и даже пытается ей помочь. Я таких штук много видал и обычно угадываю, кто злодей, раньше, чем все раскроется. А в этом фильме что здорово: они ловко обводят вокруг пальца умников вроде меня. Показывают одного за другим разных типов, которым ты ни на грош не веришь, а потом – пожалуйста! Такой достойный человечек! И я попался на крючок. Это был он. К счастью, его убили. Таких надо убивать. Шантаж – самое подлое из преступлений. Всю душу человеку выматывают, превращают его жизнь в ад…
Он продолжал рассуждать, но я уже не слушал. Веселый, добродушный человечек… Когда он произнес эти слова, я увидел перед собой того итальянца: толстенького, смуглолицего, излучающего дружелюбие, оживленно жестикулирующего… В то же время я увидел и своего отца, его странную позу, будто он сжался в комок для отпора или от страха. И как он вдруг схватил его и повлек в сторону, сразу стал улыбчивым, разговорчивым, и все для того, чтобы не дать ему подойти ко мне. А тон Агнес, и как она потащила меня в эту лавочку, и испуг в ее глазах. И потом наш поспешный отъезд. Скованное, напряженное молчание в машине…
Было ли все это действительно вызвано только опасением, как бы этот человечек не пробудил во мне воспоминаний, от которых я заболею? И потом… только ли за меня они так испугались?
Только ли ради меня самого отец запретил мне ехать в Рим? Да, возможно, он опасался, что там я вспомню что-то позабытое, но только ли за меня он боялся? И не того он боялся, что – как я раньше думал – моя мать жива и я могу с ней встретиться. Нет, моя мать умерла. Но почему же все-таки я ничего не помню о ее смерти? Об этом… несчастном случае? Был ли там действительно несчастный случай?
Все это пронеслось у меня в голове, пока Луиджи продолжал рассказывать. Внезапно он замолчал и с удивлением посмотрел на меня.
– Что с тобой?
– Ничего, – отрезал я. – Что со мной может быть?
– Но ты белый как мел…
Я буркнул, что у меня болит голова. Чтобы отвлечь его, я наугад заговорил о каком-то фильме, который я сам видел, и мой маневр удался.
С этой минуты все смутные, неосознанные догадки, шевелившиеся иногда во мне, превратились в кошмар. Как кошмар, были они дики, немыслимы, чудовищны… И я не хотел наводить порядок в этом хаосе. Не хотелдумать о том, о чем все-таки в глубине души думал постоянно…
С того дня отец стал для меня не просто чужим человеком, которого я не понимал, но к которому питал доверие и уважение. Он стал подозреваемым. Против моей воли. Я не признавался себе в этом даже в мыслях. Это неоформившееся подозрение, сотни раз отринутое как безумное и постыдное, и заставило меня уехать учиться в Голландию. По этой же причине я оказался здесь.
А сейчас вот случайно выкрикнутая рядом фраза прозвучала как ответ, которого требовал мой страшный сон, – будто свежий порыв ветра разорвал густой туман. Я перевел дух и едва не засмеялся сам над собой. Какой же чепухой можно забить себе голову! Как я мог такого человека, как отец, заподозрить в… Ведь он только заботился о моем здоровье. Какая несправедливость с моей стороны! Вот уж действительно фантазер. Это у меня от матери. Любой пустяк превращает мои сны в чудовищные кошмары.
Густой туман, в котором я плутал, сбившись с пути, испуганный и беспомощный, рассеялся. Стало светло. Я смотрел на все трезвым и разумным взглядом, и мне было стыдно.
Теперь надо бы позвонить графу Ломбарди. Надеюсь, он в Риме.
Если б я снова увидел дом, в котором родился, и получил разрешение войти внутрь, все забытые воспоминания воскресли бы во мне. В этом я не сомневался. Возможно, прекрасные воспоминания будут в то же время и грустными. Потому что я узнаю, что именно так потрясло меня тогда и почему я свалился в горячке.
Агнес нечаянно проговорилась: выходит, я заболел после смерти матери. До сего момента это не доходило до моего сознания. Но сейчас мне припомнилось, как она прикусила губу и поспешила перевести разговор на другое. Теперь я, по-моему, знаю, что вызвало мою болезнь и, главное, почему в моей памяти образовался провал. Мой сокурсник, будущий психиатр, однажды рассказал много интересных вещей: оказывается, если человек очень хочет что-то забыть, ему нередко удается полностью избавиться от тяжелых воспоминаний. Наверняка так было и со мной, и я догадываюсь, что меня так потрясло: вид моей матери в фобу. Для маленького ребенка это должно быть ужасно и непостижимо – незнакомая бледная женщина, которая вроде бы его мать и в то же время не мать. Она больше не смотрит на него, не откликается на его зов… Я будто слышал отчаянный детский крик: «Мама!»
А она не открыла глаза, ничего не ответила…
Поэтому отец не хотел, чтобы я увидел бабушку в гробу.
Но я ведь уже не маленький. Если б случилось, как я надеялся, если б мои воспоминания ожили, я бы не испугался все это увидеть – ее бледное, мертвое, милое лицо. А вернувшись домой, рассказал бы отцу, что был здесь и все вспомнил. И он бы наконец навсегда избавился от тревоги за меня. Другие сны… Я их никогда не смогу кому-нибудь рассказать. Я стыжусь их, потому что понимаю их эротическую подоплеку. Но этого кошмара я стыжусь гораздо больше.
Нет, никто никогда не узнает, какая ерунда была у меня в голове. Но я бы охотно поговорил честно и открыто с отцом и Агнес, и они перестали бы за меня бояться. Милая покойница, воспоминания о которой они хотели изгнать из моих мыслей, изгонит отчужденность из наших отношений.
В таких раздумьях я подошел к гостинице и хотел немедленно позвонить графу Ломбарди, но вовремя спохватился: наступил час сиесты, и было бы крайне бестактно беспокоить человека в эту пору. Придется набраться терпения. Может быть, это даже хорошо, мне и самому не мешает отдохнуть, хотя при одной мысли об этом мне стало не по себе. «Как знать, какие сны…» Это не из «Гамлета» случайно? Мы в интернате ставили «Гамлета».
Бояться снов – детская глупость, однако на всякий случай я купил парочку еженедельников и решил, что лягу и почитаю, а спать не буду.
Но жара в номере, хотя ставни были закрыты, тяжесть в желудке после обеда и красное вино разморили меня, и я задремал над журналами. Проснувшись, я обнаружил, что проспал дольше, чем накануне. Я смутно помнил, что видел какой-то сон, но не помнил о чем – во всяком случае, это не был кошмар. Я освободился от своих страхов и только сейчас осознал, как я был измучен – душевно гораздо больше, чем физически. Теперь же я чувствовал себя вполне отдохнувшим и свободным от того, что так долго меня терзало.
Насвистывая, я спустился вниз, чтобы позвонить графу Ломбарди.








