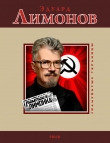Текст книги "Набат"
Автор книги: Василий Цаголов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 27 страниц)
– А ну, выкладывай, – наконец потребовал.
И Анфиса, утерев глаза кулаками, – это тоже было ново для сына – послушно сказала, что репортер уехал. Санька, до того сидевшая, как истукан, заорала:
– А мы, дураки, ждем!
И убежала к себе, хлопнув дверью, а Джамбот махнул рукой.
– Да пошел он!.. Подумаешь! А ты у меня что надо, маманя!
Сын ткнулся лбом ей в плечо, и она свободной рукой взъерошила его черные густые волосы.
– Родной мой! – только и смогла прошептать, чувствуя, что снова расплачется. Пересилив себя, сказала: – Еще приедет…
Выбралась на улицу, вслед за ней сын. Станичники все еще курили, толковали о своем, кажется, не существовало для них ничего, кроме станицы, в которой живут, земли, которую пашут.
– Нет, ты мне скажи, Лука, чего это наш председатель стал строить из себя смирненького?
– С каких это пор, Алексей, я к нему в родственники записался, что ты у меня допытываешься?
– Да как же… В ревизионной комиссии, Лука, состоишь, вот с какого боку я к тебе!
– Сказанул, как в лужу чихнул. Ты, Алексей, свиную проблему с ним решаешь.
– Пошел бы ты вместе с ним в…
– Дурень, послал бы лучше в другое место… к Фатимке, польза, глядишь, была бы.
Освободили на скамейке место для Анфисы, но она осталась стоять.
– А какую тебе пользу надо? – спросил с надеждой Алексей.
Не догадался, что Лука бросил ему крючок с наживкой, и попался, клюнул быстро.
– Известное наше дело… – многозначительно проговорил Лука.
И скорей Алексей шапку с головы:
– Подай, Христа ради…
Сел Лука, закурил.
– Погоди ты… Помните, как я ходил с протянутой рукой по станице? – произнес задумчиво Лука. Корм для скотины собирал… Ох, и времечко было! Доярки с веревками, я с веревкой… Как утро, поднимаем коровенку за хвост, привязываем. На ноги поставим, а ей стоять не хочется, ей бы соломки. А нет, и негде брать.
Алексей попытался прервать:
– Чего вспоминать недоброе?
Но Лука, весь во власти воспоминаний, продолжал:
– Силос выпросил в совхозе, в ноги упал директору, дал… Воз целый капустных листьев. Ну… Богатство же. Привезли мы, накормили бедненьких, а они все за ночь и полегли, перебрали, оттого утром их поднять никак невозможно… Спасибо, уже в поле зелень появилась, все-таки надежда. И по над речкой зазеленело, смотришь – там вот травка, там… Фактически ее нет, только усики показала, но надежда превеликая… Пошел я в контору, а там уполномоченный из района. Я про корм говорю, на председателя наседаю, а уполномоченный на меня прет: «Ну, знаешь, как ты становился заведующим над коровами, так и расхлебывайся, что ты пришел к нам. Видите ли, он трудностей испугался. Иди и работай, а за коров ты ответишь головой».
Выговорился Лука, как раз и цигарку докурил, разжал пальцы, и окурок упал под ноги.
– Пережили, упаси бог…
Заговорили станичники, один другого не слушая:
– Трудодень был от этого… Как его?
– Ну, от молока.
– Смех один!
– Надаивать-то ни хрена не надаивали, кот наплакал, а трудодень аккуратненько в журнальчик записывали…
– И зачем такая комедия?
– Скажем, вот мне писали полтора трудодня как пастуху. А что я на этот трудодень получал?
– Ушки от полушки.
– Во, брат… Оттого и отходники были в каждом хозяйстве…
– Ишь ты, соплю-то распустили! Свое же хаете, дурни! «Отходники…» – возмутилась Анфиса.
Ей возразили:
– Чего ты наступаешь?
– Рассуждаем…
– Кто же осудит свое?
– Да найдутся.
– Ясное дело, семья не без урода.
Лука согласился:
– Уезжают, верно. А что им делать? Вот ему, и мне, да всем в станице, сами видите, скучно. Ну, ладно, мы старики, а они молодежь. Вот какой у нас клуб? А у людей дворцы всякие, по телевизору показывают каждый вечер. То-то и оно…
Не выдержал Джамбот:
– Мне нужно что? Работу по моей, значит, потребности, по уму. Ну и отдохнуть соответственно. Самодеятельность, музыка, понимаешь, всякая нужна.
Лука протянул перед собой руку:
– Погоди, погоди, вот отстроят дом городской и за Дворец возьмутся.
Его перебили:
– Один-то на всех дом?!
– А как будем с бахчой?
– Да на что она тебе? В лавке все будет…
– А если мне требуется сию минуту, ночью да чтобы на огурчике роса держалась, и что, в лавку бежать?
– О чем гуторят? Мне бы такую хату, чтобы там было все… и скотину чтобы содержать, и грядочки свои.
– Верно.
– Погодите, очередь до станицы не дошла, в городе пока настроят…
Лука повернулся к Джамботу:
– Ты думаешь, мне в твои годы что?.. У нас лошадь была, мать где-то наймется и скажет: «Лука, гони, паши». И Лука поехал, отпахал все. Ну, а в воскресенье пойти надо, сходить, ну, куда-нибудь, ну, на улицу, примером, подышать все-таки, повеселиться. Просишь: «Мам, дай пятачок на семечки». Не дает: «Ой, сынок, я уже деньги все израсходовала, их нет». А я знаю, есть, но она мне не даст. Почему? Колесо изломается – надо будет купить, дуга сломается… А сейчас что? Достаток! Это и говорить не надо.
Разгорячились станичники:
– Верно!
– И все равно бегут.
– Молодежь коров что ли будет держать? Траву косить? Извини-подвинься.
– А я вот тракторист, мне пахать, а когда же косить?
– Вечером!
– Сказанул! За целый день оглохнешь на тракторе и скорей на боковую, вот что я скажу. Тут скоро баба сбежит…
– Коров, коров… А кто даст косить на вольнице?[10]10
Вольница – самовольное кошение.
[Закрыть]
– А почему на вольнице?
– Во загнул куда!
– Так он известный жадюга, на всю Осетию ославился.
– И нечего молодежь ругать, – снова подкинул Лука. – Уходит молодежь… А почему? В городе он отработал восемь часов. Все! Кончил, скажем, смену, и удочки на плечо, скорей на реку. А у него или мотоцикл, или машина… Сидит себе и удит.
Перекинулся разговор:
– Прежде судак был в реке. Забросишь ванду[11]11
Ванда – рыболовный снаряд.
[Закрыть] и – пожалуйста.
– А нынче и сетью не возьмешь, пусто.
– Оттого, что банок[12]12
Банок – рукав реки.
[Закрыть] обмелел.
– В каждом дворе вешаль – сети сушили, думали, не переведется рыба. Жадные, вот что, были…
– О, вспомнил что?
– Вот бы молодежь и взялась за рыбу-то.
Лука махнул рукой:
– Да никогда! Перевелись казаки… Мы трудились день и ночь, мы колхозы строили им, а они ничего не хотят. Нет, я в город не поеду помирать, всю жизнь я на земле, дело у меня привычное. Какой мне город нужен? У меня сад, огород, овца. А приеду в город, что мне делать? Сидеть?
Анфиса сказала с нажимом:
– Лука, ты что-то стал говорливый. А сыновья твои где? Бежали! Хлеб родить обязаны, понял, землицу оберегать… Ничего, побегут твои назад и скоро!
Пригвоздила соседа, и все умолкли, ждали, что на это ответит Лука, но он нисколько не впал в смущение.
– Уехали, верно, – согласился. – Им тоже ничего не жалко. И дом им мой не нужен. Им в городе квартиры дали. На кой им… этот дом? У них в городе вода, газ, тепло… Вот куда тянет человека.
Станичники, позабыв, что он возразил самому себе, поддержали:
– И на что молодому корова в городе? Он сам работает, жена работает, дети в школе, какие поменьше – в яслях.
Лука встал, прошелся взад-вперед:
– Ты вот о ребятишках… А почему сейчас не рожают помногу? Ясное дело. Раньше-то с ребятней старики сидели, а сейчас со стариками не хотят жить. То-то. Мы, бывало, с женой ребятишек сделаем, а бабка с дедом сидят с ними, они им и каши варят, и все…
Разговор – словно сухие поленья вспыхнули в жаркой печке.
– Молодежь грамотная стала, не хочет навоз возить аль там силос раздавать.
– Вот они и идут в город.
– Не идут, а бегут.
– И верно, бегут. А зима вот сейчас, что им делать?
В станицу со стороны города въехала «Волга» и направилась к дому Самохваловых. Станичники умолкли, ждут машину, им не надо гадать, кто «сидит в ней.
Приоткрылась передняя дверца; за рулем сам председатель, не вылезая, проговорил, будто бросил камень в реку:
– На амбар бы всем завтра выйти. Материал привезли.
Никто не откликнулся, и тогда председатель оставил машину. Не успел он на землю стать, а уж станичники снова за свой прерванный разговор.
– Оно вроде польза получилась, что МТС сократили, в одни руки все отдали, а если посмотреть с другого боку… При МТС друг друга контролировали, горло бы перегрызли, если что не так, конечно, за дело. А нынче кто контроль? Совесть одна. А у всех ли совесть крестьянская? То-то…
Высказавшись, Лука положил ногу на ногу, смотрит сквозь председателя, а тот чуть ли не в глаза ему лезет, потому что заводила в станице он.
– У нас в позапрошлый год новый трактор по винтику разобрали на запчасти? Разобрали или нет? – заговорил Джамбот. – А у другого председателя этих запчастей навалом, шустрый, выходит, он, доставала. И третий такой… А государство не может всех снабдить, одних шустрых вон сколько развелось. По-хозяйски ли такое?
Матери было приятно слышать его рассуждение: неторопливое, с болью в голосе.
– У хозяина все с расчетом, а у нас хоть и по науке, но без расчета, – заключил он.
Председатель попросил закурить. Анфиса поняла, что это он с умыслом: у самого не выводились сигареты, желает прервать разговор станичников.
– А ты, председатель, достань свой гаманец, – не скрыв неприязни, посоветовал Лука.
Анфиса осудила соседа: зачем так-то с человеком?
Кто-то добавил не без усмешки:
– Так он же большедушник[13]13
Большедушник – многосемейный.
[Закрыть], вот и просит.
Лука, всем своим видом показывая, что вышел из разговора, поднялся и, закинув руки за спину, направился в сторону магазина.
– Ты куда? – окликнул его Алексей.
– Закудыкал… Фатима закрывать сейчас будет.
– Ты на всех? – не без надежды спросил все тот же Алексей, хотя знал, какой последует ответ.
– На всех у председателя, а у меня на себя.
Станичники один за другим потянулись в ту же сторону, и у калитки остались Самохваловы да председатель.
– Не под руку попал станичникам, – нарушил молчание Джамбот.
– Да, Луку надо было гнать… И чего взъелся? – возмутился председатель.
Джамбот вытянул из кармана шерстяные перчатки:
– Зачем ты так?
– Беркатиха[14]14
Беркатиха – трава перекати-поле.
[Закрыть] он!
– И это вот ты зря, председатель, по настроению наговариваешь на Луку.
И не дожидаясь, что ему ответят, поспешил к магазину, но тут же вернулся, спросил:
– Нам за кукурузу обещанное не забыл?
Председатель уселся в машину, ответил неопределенно:
– Помню…
Не ускользнуло его настроение от Джамбота.
– Смотри, в другом месте потеряешь.
И тут вспылил председатель:
– Ты что, взялся сдельно долбить об одном и том же? Все мне угрожают! С кулаками! А ты, елки-палки, сядь на мое место, и я погляжу на тебя.
Всунул Джамбот руки в перчатки, с расстановкой не то спросил, не то упрекнул:
– Зачем шел в начальство?
Председатель включил мотор, хлопнул дверцей с силой и уехал.
Посмотрела ему вслед Анфиса, сказала неодобрительно:
– Без году неделя как избрали, а уже научился гокать дверью.
Только теперь сын оглянулся на мать, задумчиво проговорил:
– Я сейчас, маманя.
И понесся к правлению колхоза.
Она скорей на костыли и за ним. А в это время станичники высыпали из магазина, пришлось ей остановиться на полпути, не пройдешь же мимо, если окликнули.
– Ты уж, Молчунья, извини, что покинули тебя, – произнес Лука не оправдываясь.
– А все этот… брухачий[15]15
Брухачий – бодливый.
[Закрыть] бык, – сказал Алексей.
– Ох, Алексей! – предостерег кто-то. – Подбирается он к тебе.
Направились гурьбой в пекарню, здесь словно их ждали: тут же пекарь положил перед ними на стол хлеб – только что из печи. Усевшись вокруг стола тесно, они вдыхали глубоко, подольше задерживая в себе запах свежего печеного хлеба. Потом Лука выставил на стол бутылку.
– Разлей, – попросил Анфису.
И она не заставила себя упрашивать. А тревога за сына росла. Положила в рот корочку, пожевала. Идти ли ей в правление? Пойти – Джамбот обидится: не маленький, чтобы тащиться за ним – или подождать его у калитки? Оставила станичников и к своему дому, уселась на скамейку. Сидела, пока не кольнуло в сердце – сына долго нет. И сразу же изморозь прошла по спине.
Станичники в сумерках расползались по станице, а Анфиса все сидела в одной позе, упершись грудью в костыли. А может, Джамбот уже в хате? А почему тогда он ее не зовет? И от того взяла обида: умри Анфисия Самохвалова на улице – и не спохватятся, пролежит до утра, окоченеет, так что и в гроб не уложить. Выходит, пользы от нее никому, а только в тягость она. Ну, положим, еще не в тягость людям. Эх, Анфиса, дурья твоя голова, чего ты сдерживала в молодости свою любовь, народила бы ребятишек, они бы теперь за тобой и ухаживали по очереди, а то вся жизнь для одного Джамбота…
…По выжженной, искореженной земле возвращалась с войны Анфиса в свою станицу, от самого большака тащилась.
Шею оттянул вещмешок. Старшина позаботился: «Бери, бери… Пока это земля придет в себя, оживет. А может и родить не скоро будет».
Передохнуть бы малость, того и гляди сердце выскочит из груди, но ведь до пригорка – оттуда станица как на ладони – еще не добралась, шагов сто осталось, а то и меньше.
Приостановилась, но тут же рванулась вперед: станица-то рядом! Ох, и напьется из речки. Всюду вода как вода, не слыхала, чтобы люди жаловались, всякая попадалась: и студеная, и тяжелая, но, одним словом, не своя.
Откуда только взялись у нее силы на последние шаги, сделала их легко, без усилий, будто взлетела над землею. Глянула и не признала своей станицы. Может, заблудилась? Так вот она, большак позади. Куда же тогда подевался лес? Лес же подходил к самой околице, а теперь на том месте земля чернее черного.
Пристальней всмотрелась перед собой: да нет, это ее станица, вон кустарник, девчонками раздевались в нем и – в воду.
Осторожно ступает Анфиса, кажется, боится причинить земле боль.
Вошла в станицу и повалилась наземь.
…Всю ночь она металась в жару, а склонившись над нею, ревом ревела мать. Утром в хату притащились бабы, а с ними старик, откуда-то приблудившийся. Потом говорили, что приготовились ее хоронить, но спасибо ему, знал толк в травах. Через недельку поднялась и отправилась в чужое село, нашла женщину, у которой оставила мальчонку, низко ей в ноги поклонилась. Дома одной матери призналась насчет мальчонки, а людям оказала: «Сын!»
Однажды, сама не знает почему, ушла к речке. Трава высокая, густая, шагнула в нее – от боли все померкло.
Распорола раненную на фронте ногу…
Год провалялась Анфиса в больницах.
Вернулась в станицу – не сразу узнали люди в одноногой женщине Анфису, – нашла хату заколоченной, мать не дождалась, умерла, мальчонку поместили в детдом, съездила за ним, взяла, а когда подрос, устроила учиться в ФЗУ, ездила к нему в город, и он приезжал на каникулы.
Запомнился ей один его приезд.
…Хлопнула калитка, и Анфиса, упершись рукой в угол стола, оторвалась от табуретки, посмотрела в окно. Кто идет? Но вошедший уже успел пересечь двор. По тому, как вошел в сени, хозяйка догадалась: Джамбот, и почувствовала в себе силы, радость.
Наклонившись, протянула руку к костылям, пожалела, что не на протезе, и когда сын появился на пороге, она уже посредине комнаты стояла.
– Мама, здравствуй!
Взглянула на него, чувствует, как от лица отливает кровь, вся от радости сжалась: вот сейчас он обнимет.
Ее всегда неотступно мучила мысль, что придет время, и он спросит об отце. А как она объяснит? Скажет, что дала ему жизнь. Разве этого мало? К чему допытываться…
Положил он ей на плечи руки, заглянул в лицо, и она успокоилась.
Стояли молча, потом он достал из сумки цветастый платок, накинул ей на плечи:
– С первой получки тебе…
– Подарочек-то какой!
Теплое чувство родилось в «ей и тут же погасло, подумала: «Ох, сердце вещает, быть сегодня неприятному разговору». Вот и дождалась объяснения, знала всю жизнь, что будет этот день, и все же испугалась.
Не обмануло ее предчувствие, он впервые по-взрослому заговорил:
– В комсомол меня принимали, много хороших слов услышал я о себе. Об отце спросили, о тебе…
Она прошла к столу, села на табуретку. Не пожелала, чтобы он прикоснулся к прошлому и поэтому сказала жестко:
– Ясно. Значит интересовались?
Сын вскинул голову, не успел ничего ответить.
– Погиб в войну твой отец! – сурово отрезала она.
Вспомнила Анфиса, как уставала от бабьих жалоб: «Уйми своего, до чего он у тебя алошный». А он и впрямь озорной, неугомонный, сладу с ним не было, обиду никому не прощал, не умел, чуть что, сразу в ход пускал кулаки, но ему доставалось тоже здорово.
…Джамбот устроился на подоконнике, спросил:
– Все говорят, что не похож на станичников, нос горбатый… Да и сам вижу.
Не лез Джамбот в душу, спросил, может быть, в первый и последний раз.
…Разведчики на прощанье жали ей руку, а лейтенант поцеловал в щеку, и она счастливо засмеялась.
– Завтра в полночь будем ждать тебя здесь. Ни пуха ни пера, – пожелал лейтенант, мягко положив ей на плечо руку.
– Скажи «К черту», – велел старшина.
Она засмеялась – опять он шутит – и без оглядки пошла вдоль опушки. Но в какой-то момент не выдержала, оглянулась, и на том месте, где только что стояли разведчики, уже никого не было. Первое чувство было вернуться, и уже сделала шаг, но тут почудился голос лейтенанта: «Мост… Мост, будь он проклят!» Она пошла вперед смело, будто возвращалась в родную станицу. Иногда сердце неожиданно застучит сильно-сильно, и она остановится, посмотрит вокруг себя, начинает вылавливать звуки в тишине и снова идет. Страх нет-нет да появляется, тогда звучит в ушах голос лейтенанта: «Мост… Мост, будь он проклят…»
Ей стало неожиданно жарко, и она, отдуваясь, сорвала с головы теплую вязаную шапочку, стащила с шеи старый шерстяной платок – ее экипировкой руководил сам лейтенант, – но этого показалось мало, и она поспешно расстегнула пальто. Грудь обдало холодом, и только тогда Анфиса задышала глубоко.
Наконец лес оборвался. Анфиса остановилась, в ее памяти всплыло предупреждение лейтенанта: «Как только выйдешь лесом к реке, осмотрись и иди вправо, а речка у тебя, значит, останется слева». Вспомнила, что больше всего в детстве страшилась неожиданности.
Впереди, наконец, показалось село, а за ним мост. Но, чтобы выйти к нему, нужно пройти через все село. Прибавила шаг. Напутствуя ее, лейтенант говорил, что немцы ночью в село не заходят, так что можно будет смело постучать в любой дом и попросить ночлег. «Тебя война застала под Ростовом, и ты подалась к себе в станицу, но в дороге заболела желтухой, приютили добрые люди, выздоровела, и теперь скорей бы попасть домой. Стараешься идти только ночью, однажды днем двое мужчин хотели над тобой надругаться, чудом спаслась от них, после этого боишься людей…»
Она уже представила себе, как все будет рассказывать, а хозяева станут жалеть ее, но мысли прервал плач. Вначале Анфиса даже подумала, уж не ослышалась ли. Остановилась. Да нет, плакал ребенок. Но в какой стороне? Не все ли равно, ей нужно в село. Пригляделась. На обочине стояла тележка, рядом с тележкой лежала навзничь женщина, подле нее плакал ребенок. Не задумываясь, Анфиса ринулась туда, подхватила ребенка с земли, прижала к себе, шепчет: «Рыбонька, тихо, не плачь…» И ребенок умолк. Что же ей делать с ними? И тут голос лейтенанта раздался словно над ухом, она даже оглянулась: «Мост, будь он проклят, мост, Анфиса… Пробивайся к нему, умереть ты не имеешь права, мы будем ждать тебя здесь, на этом месте».
Слезы обжигали лицо. Человек же умирает, уйти-то как? Ребенка оставишь – погибнет…
Нет, надо спешить, у нее боевое задание. Вернулась, положила рядом с женщиной ребенка и сделала несколько шагов к селу, но ей в спину ударил плач.
И снова в ушах голос лейтенанта: «Мост, будь он проклят, мост…»
Опустилась на корточки, спрятала лицо в колени и навзрыд заплакала.
А ребенок звал ее.
«О господи», – совсем по-бабьи произнесла вслух и уже без суеты взяла на руки ребенка и, больше не оглядываясь, пошла быстрым шагом.
Она оставила аробную дорогу и смело двинулась к крайнему дому: у нее ребенок, как можно отказать в ночлеге матери.
Мысль о том, что она мать, была настолько неожиданной, что Анфиса возликовала: «Мать! Я мать, добираюсь домой…»
Ее встретил лай собак… На стук в калитку кто-то вышел из дома, постоял на крыльце и, убедившись, что стучат именно к ним, вскоре громыхнул засовом. Хозяин оказался стариком – может поэтому Анфиса сразу прониклась к нему доверием. Он молча пропустил женщину во двор, прежде чем самому войти, осмотрел улицу: есть ли кто живой?
…Джамбот, сидя на подоконнике, произнес:
– С чем мне идти в жизнь? Не с пустой же котомкой. Я должен знать о себе все!
Он встал, взял кружку, зачерпнул из ведра холодного кислого молока, разведенного водой, и выпил залпом.
– Почему ты молчишь? Я стал кое-что понимать и нет-нет да думаю…
Скрестив руки на груди, Анфиса рассеянно посмотрела на него. Поведать ему все? Сказать как на духу?
…Мальчик плакал, и она ласково нашептывала ему, а тем временем думала, как поступить: не может же она идти к мосту с мальчиком, рисковать им. А если ее схватят? Будут пытать? Нет, нет, ребенок чужой…
– Дедуся, а как мне к мосту пройти? – неожиданно с надеждой спросила хозяина.
Он стоял посреди комнаты, засучивая рукава черкески, скосил на нее взгляд.
– Там немцы.
– Знаю…
…Джамбот замер у нее за спиной, но вот он полуобнял мать и, наверное, почувствовал, как напряглась Анфиса, не мог не почувствовать.
– А может, я не твой сын?
Она уже хотела сказать правду, но в последнюю минуту подумала, что такая правда погубит его.
…– Мне надо будет через мост, я хочу посмотреть… – неожиданно призналась она старику.
Тот взял у нее ребенка, перенес на кровать и оттуда посмотрел изучающе.
– Помогите мне, очень прошу, – умоляюще произнесла Анфиса.
Старик покачал головой.
– Джунус пойдет на смерть, пусть только этого пожелает гостья, а помочь ей… Прости, я бессилен.
Мелькнула дерзкая мысль:
– Можно я оставлю до вечера своего ребенка?
Старик отозвался:
– Оставляй, все равно ты ему не мать.
…Анфису ударом в спину втолкнули в комнату, и не успела опомниться, как оказалась перед полицаем: он стоял у окна, заложив руки за спину.
Ох, до чего глупо попалась им в руки. Ну, послушайся она Джунуса, и сейчас бы сидела с разведчиками. Виновата, ох, виновата перед лейтенантом, а, может, и перед всей Красной Армией. Зачем она взяла ребенка? Ну а как же? Тогда бы он погиб. Взяла, хорошо сделала, дите же.
Посмотрела на полицая. Неужто и у врагов есть голубоглазые?
– Возьми ребенка и расстреляй! – велел полицай мельнику.
Не сразу дошли до ее сознания эти слова, поэтому она стояла молча.
Полицай улыбнулся, и у нее на сердце стало легко, прижала к себе мальчонку. «Он не тронет, отпустит нас».
– Значит, ты мать ребенка?
Кивнула.
Неожиданный удар, и мальчик выпал из ее рук.
Беззвучно скользнула она на пол, склонившись, подобно квочке, слезно причитала:
– Рыбонька моя, прости, ну, прости меня.
И мальчик смолк: она поднялась с ним, посмотрела на полицая, с твердостью в голосе произнесла:
– Не отдам!
Но тот что-то сказал мельнику.
Ну, держись, Анфиса, пришел твой конец. Верно говорил старшина: «Осмотрись, не поспеши». И опять не послушалась. Дура, дура и все тут. Джунус же рассказал о мосте, просил ее переждать, человека надежного обещал найти.
Теперь уже полицай ударил по лицу, но к этому Анфиса была готова и не вскрикнула, только краешком глаза увидела, как он подкрался сзади, спиной почувствовала занесенную руку. Успела крепче обхватить ребенка, пальцы рук переплелись. Нет, ей ничего не страшно, пусть бьют, устанут же когда-нибудь.
Новый удар пришелся по затылку, и она захлебнулась: кровь залила рот. Сплюнула на пол…
– Врешь! Сын не твой! – орал полицай. – Ты разведчица!
Анфиса потеряла сознание.
…Она пришла в себя оттого, что кто-то ткнул ее в плечо: открыла глаза и, не поняв, где она, вскрикнула:
«Мама!»
Вместе с криком к ней вернулась память: ее же над пропастью расстреляли. Значит, в ней еще бьется жизнь, и она успеет вспомнить лицо полицая. А почему Мишка никогда не являлся к ней во сне? Может, в нее не стреляли? Она же оглянулась назад, а уж потом отчетливо услышала выстрел. Нет, все это показалось ей в страхе… Никто в нее не стрелял, ни в какую разведку она не ходила, сейчас войдет мать и скажет: «Пора корову гнать в стадо».
Кто-то приблизился:
«Не бойся, это я», – произнесли у изголовья, и она открыла глаза: на нее смотрел Джунус.
«Мальчик…» – прошептали ее губы.
Старик ушел – ей показалось, что его не было вечность – и вернулся с мальчиком.
Она заставила себя подняться и, как только встала на ноги, перед ее мысленным взором встал полицай. С той минуты она неотступно думала о нем.
Пока Анфиса рассказывала о случившемся, Джунус сидел, опустив низко голову, и она не видела его лица.
– Да пойми! – убеждала его все настойчивей, – негодяй он. Ах, какой подлец! Бил, ох, как бил! Нет, никогда не забуду, как полицай… Уничтожить, казнить!
Анфиса умолкла надолго. Сидела молча, пока, наконец, старик, словно пробудившись от сна, не кивнул согласно головой, пригладил седую бороду, произнес:
– Старый я, чтобы убивать человека… Моим рукам не удержать оружие, тяжелым оно стало для них. Но полицая…
Будь в ту минуту Анфиса способна прислушаться к голосу Джунуса, тогда бы уловила в нем гнев. Вот почему она перебила его, горячась:
– Я не тебя прошу! Надо мной он издевался! А если бы они так с дочерью твоей, а? – безжалостно хлестнула старика.
– Молчи!
Через минуту он, привстав, проговорил:
– Прости…
Поднялась Анфиса, а старик продолжал тяжелым голосом:
– Когда это раньше было, чтобы женщина взяла оружие в руки?
Анфиса быстро подошла к нему, присев на корточки, заглянула в глаза снизу вверх.
– Ты же мне говорил, что горцы мужественны, честны. Проведи меня к нему. Ну что ты медлишь, Джунус. Или он твой брат?
Оторвал Джунус от колен руки, подержал их на весу ладонями вверх, как бы просил всем своим видом: «Прости, если что не так!»
– Нет, не брат он мне… Пусть волк ему будет братом… Аул моих отцов совсем рядом отсюда, в Балкарии, протяни к нему руку и достанешь. Утром выйдешь, а в полдень уже тебя посадят на самое почетное для гостя место. В ясное утро я вижу отсюда могучее дерево: это орех, мой отец посадил его, когда в доме родился сын… Всего одно дерево. Правду люди говорят, что проклят тот, кто один. Но у меня был названый брат, Конай. Никто из взрослых не знал, что мы еще детьми поклялись в верности друг другу. Красивый, гордый, на свете второго такого не встречал за долгую жизнь. Ну, орел в полете! Не знал, куда силы девать. И он все же нашел свою тропу, она привела его к большевикам. А это случилось так… Встретился Конаю осетин. На расстрел вели его белые, а Конай сумел отбить у них осетина, на глазах у всех увел в горы, в пещере укрыл, а потом под носом у белых переправил в Дигорию[16]16
Дигория – горный район Северной Осетии, граничит с Кабардино-Балкарией.
[Закрыть]. О чем они говорили – не знаю, только однажды Конай открыл мне, что уходит к керменистам[17]17
Керменист – член революционной организации в Северной Осетии, созданной большевиками.
[Закрыть]. Меня он не уговаривал, ни о чем не просил… Но разве я мог не пойти за братом? Мать Коная собрала его в дорогу без слез, а Чонай – отец Коная – сказал мне: «Пусть твое имя покроется позором, если ты подведешь своего брата, если ты явишься и аул без брата, если ты оставишь тело брата на чужбине».
На нихасе[18]18
Нихас (осет.) – место, где собирался аульный совет.
[Закрыть], в присутствии старших аула, я поклялся быть Конаю братом. Не уберег я брата: во Владикавказе Конай попал в руки белых…
Всю жизнь молю аллаха, но он не прощает меня за то, что я не был в тот момент рядом с Конаем. Не мог я вернуться в наш аул с позором. А как бы я посмотрел Чонаю в глаза, какие сказал бы ему слова? Не в оправдание, нет… Остался я с тех пор в Осетии. Судьба!
Долго после этих слов сидел он молча, пока наконец не спросил:
– Ты готова?
Она ждала этой минуты и все же не сразу нашлась: кивнув, пристально посмотрела на него, все еще не верилось, что Джунус решился.
В темноте Анфиса ничего не различала вокруг, даже тропу под ногами, все слилось. Пройдут и остановятся, слушают тишину. Но вот Джунус взял ее за руку, увлек за собой, и Анфиса сердцем поняла: уже. Перелезли через плетень, и рядом заскулила собака. Анфиса вздрогнула от неожиданности. У входа в дом притаились. Потянул Джунус на себя дверь – на запоре. Тихо постучал. Через минуту раздался голос:
– Кто?
Вздрогнула: он, его, полицая, голос.
– Это я, отец твоей жены, или ты не узнал меня?
– Ты один?
Она мысленно в какой уже раз целилась ему в лицо.
– А с кем мне еще быть? В гости теперь не ходят.
– Ты что-то стал разговорчивый, Джунус.
Приоткрылась дверь… Еще шире.
– Входи!
Раньше, чем она нажала на курок, – раздался выстрел.
Джунус схватил Анфису за руку… Словно в бреду, натыкаясь на кустарники, деревья, бежала к лесу и не слышала ни отчаянного лая собак, ни голосов, пришла в себя, когда повалилась на мерзлую землю: «Джунус опередил меня… Дура, дура, промедлила».
…Неожиданно чей-то голос оборвал ее воспоминания, она прислушалась к разговору. Лука там с кем-то.
Видишь, как теперь повернулось дело? Председатель сообразил, что к чему, и прошлое вспомнил Луке – у него не заржавеет, за пазухой носит долго – гляди, и еще что-нибудь припомнит, у него все по полочкам разложено. Но Лука же не дурак, понимать должен. Да как не понимает, все как есть понимает. Взять хотя бы Джамбота: с головой, рассудительный, не ляпнет что не надо, все у него к месту, и то побежал за председателем в правление, похоже, поколотить собрался. Ну, руку-то не поднимет, ясно, не славился род Самохваловых драчунами, разве что в старину, когда перебирали чихиря… У Самохваловых, конечно, не было, а в роду Джамбота?.. Лука-то прожил жизнь немалую и теперь на все смотрит со своей точки. Вон Санька, девчонка, и то, пока на трибуну не взошла, жила как все в станице, а посмотрела на людей сверху вниз, и показалось ей, будто крылья выросли.
Оторвалась от скамьи Анфиса и ушла в хату. Переступила порог, и сразу же ее окутала тишина. Тихо, как в лесу перед бурей.
Долго сидела в одиночестве. Но вот вздохнула горестно, разделась да и влезла под зябкое одеяло. Уже сквозь сон на половине молодых услышала голоса. Раньше не прислушивалась – мало ли о чем шепчутся, – а в этот раз невольно напрягла слух.
– Нет такого права у председателя, чтобы самолично землю у передовика отнять. Обещал машину тебе…
– Всему звену обещал, – перебил муж.
– Нет, тебе лично!
– А я сказал, что уговор был каждому по машине, – настаивал он, – потому как на четверых приняли сто сорок три гектара.
Ну чего допытывается баба? Не видит, что муж не в своем настроении? А почему председатель поступает так-то с ребятами? По сто центнеров собрали, а уважения к ним никакого. Выходит, врал, когда говорил: «Звено Джамбота Самохвалова – наша слава и надежда».
– Да если бы твои ребята не всяк себе, не тянул бы он шарманку, а кабы заедино… – проговорила Санька.
– Умолкни.
– А тогда чего душу выворачиваешь?
– А то. Не в машине жизнь… Участок мой, не отдам!
Присела Анфиса в постели. Верно. Неужто председатель может передать участок? Не посмеет, закона такого нет, в этом Санька права. При всем народе заявлял: «Спасибо, Самохвалов, что на рекорд идешь. Проценты само собой заплачу за урожай, если будет, конечно, сверх задания. Ну, а «Жигули»… от себя обещаю. Это и говорить не надо: твердо получите».