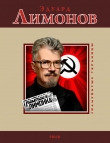Текст книги "Набат"
Автор книги: Василий Цаголов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 27 страниц)
Болели глаза от напряжения. Вдруг над ухом раздался выстрел: немцы?! Упал, затаил дыхание. Тихо. Пришел в себя. Да это же он нажал на спусковой крючок. Голоса:
– Эй?
– Кто стрелял?
Узнал по голосу сержанта, притаился.
– Яша, – позвал Веревкин, – ты?
– Нет, – ответил одессит.
– Каруоев.
Встал, выпрямился во весь рост.
– Ты?
– Виноват… Нажал.
– Идиот! – выругался сержант и ушел.
Прыгнул Асланбек вниз, уселся верхом на ранце, откинулся назад, спиной уперся в стенку окопа, подумал о том, что надо бы подравнять ее и выдолбить для ног ямки. Как у него получился выстрел? Сидел задумавшись, потом засмеялся…
Вспыхнуло небо, и в окопе посветлело, как днем: «Немцы!» Нашел автомат, рука задержалась на затворе. Порывисто вскочил, припечатал к брустверу короткий ствол, заученными движениями отвел затвор автомата. Разогнулся, посмотрел поверх бруствера: в кого стрелять? Смотрел прямо перед собой, ожидая увидеть наступающих немцев, но открытая поляна была мертва. Оторвал от бруствера автомат и опустил прикладом к ногам. Подумал: эх, тряхнуть бы сейчас немца, пока спит, бежал бы без оглядки в одних подштанниках!
Выбрался наверх, сходил за деревья, а оттуда завернул к Славе.
– Лунатик, будь гостем.
– Гость радость для дома.
– Порадуй, пожалуйста.
– Подай, мой младший, турий рог.
– Боюсь, пролью, рук не чувствую.
Ракета погасла, и снова земля погрузилась в тьму.
– Держи, – подал Славе свой автомат, осторожно спустился в окоп. – Тесно.
– Зато теплее.
Уселись друг против друга, но через секунду Асланбек предложил:
– Рядом лучше.
Пересели, – плечом к плечу.
Притерлись… В самом деле стало теплее.
Засмеялся негромко Слава, потер нос о рукав шинели:
– В десятом классе я учился… Зимой пошли на лыжах с горочки кататься. Ну, естественно, вспотел. Как мама хлопотала!.. Мама обещала поехать со мной в путешествие в Сибирь, на Урал… Эх, мечтал на Киев посмотреть, на Казбек взобраться… Как бы мы сейчас жили здорово!
Проклиная про себя на чем свет стоит фашистов, Асланбек выкарабкался из окопа. На горизонте появилась узкая светлеющая полоса: начиналось утро.
– Яша, – позвал он.
– Что? – отозвался друг.
– Проснись.
– Кого ты подстрелил? Зайца?
Встал в окопе одессит. Укрывшись за деревьями, Асланбек в гимнастерке и меховой жилетке делал зарядку.
Не поверил своим глазам Яша, призвал на помощь Славу.
– Это кто?
– Где?
– Вон, махает крыльями.
– Бек, – воскликнул Слава. – Брр, сумасшедший.
Пригнувшись, Яша перебежал к Асланбеку, тоже замахал руками, но шинель не снял. Присядет, встанет, нагнется то в одну сторону, то в другую.
– Раз, два…
Взял Асланбек горсть снега и растер лицо:
– Уфф.
– Ты ночью убил Гитлера, говорят, Бек.
– Не болтай.
– Молчу. Раз, два… Ну, а купаться будем в Берлине. Да, да, Бек, прошу не удивляться. Заберемся в ванну самого Адольфа Гитлера и будем плавать. Ай, Яшенька, оказывается ты морально не выдержанный человек, политически близорукий! Ты ничем не брезгуешь. Взял и полез в ванну Гитлера… Поражаюсь тебе, Яша. Надо бы заглянуть в твою родословную. Побегу в лесок, пока не растерял тепло.
Одессит исчез за деревьями.
По передовой шла группа командиров, но Асланбек не заметил их и продолжал заниматься своим делом.
– Ну и молодец ты, Бек, – кричал из-за укрытия Яша. – Теперь мне видно, что и князья занимаются черной работой. Поверь, я проникся к тебе великим уважением.
Асланбек пытался попасть в рукав шинели, но не получалось.
– Яша, а я думал..
Он не видел подошедших командиров?
– Что же вы думали?
Не подозревая, с кем имеет дело, не оглядываясь, Асланбек сказал строгим тоном:
– Дорогой, иди туда, откуда ты пришел. Да, да. Сиди в своем окопчике и наблюдай за гансом. Эй, куда ты убежал, Яша?
За спиной у Асланбека засмеялись, он развернулся и, щелкнув каблуками замерзших сапог, вытянулся по команде «смирно» (как выражался Яша: «Ешь глазами начальство – минуешь гауптвахту») и вперился в командира полка, а затем скосил взгляд на его спутников и обомлел.
– Товарищ…
Асланбек вытаращил глаза, не веря самому себе.
– Товарищ генерал?
– Так точно, – улыбнулся генерал.
Командир полка и батальонный переглянулись:
– А почему вы не делаете зарядку? – спросил генерал. – Испугались мороза?
– Никак нет! Я уже. Это мой товарищ испугался.
Асланбек оглянулся:
– Ай, ай, убежал.
– Вот как.
Генерал задумчиво смотрел в сторону немецких позиций:
– Товарищ боец, а вы знаете, что вас ждет сегодня?
– Бой! – спокойно ответил Асланбек.
Командир роты выступил вперед и, улучив момент, дернул Асланбека за расстегнутую шинель.
Генерал поморщился: «Ротный перед боем заботится о заправке, черт возьми… В мирное время, наверное, от него доставалось всем за окурки и плохо прибранную постель. А научил ли он бойца в первом же бою вступить в единоборство с немецким танком, победить стальную махину бутылкой с горючей смесью и самому остаться живым?»
Генерал смотрел на Асланбека, и боец увидел, как в глубине прищуренных глаз, над которыми чернели широкие густые брови, вспыхнула улыбка. Показалось, что он встречал генерала и раньше, но не мог вспомнить где: «Не сойти мне с места, если генерал не с Кавказа! Посмотри на его лицо и нос и скажешь, что он осетин. – Кажется, и он узнал меня. Кавказец почти всегда узнает своего земляка», – а вслух сказал, медленно взвешивая каждое слово, что было так не похоже на него:
– Товарищ генерал, один раз, два раза, много раз я себя спрашиваю: «Почему враг на нашей земле?» И не знаю… Наверно, голова у меня не такая. Но вы, товарищ генерал, не подумайте, что я как соломинка. Нет, я крепко стою на ногах.
Генерал испытующе смотрел на бойца, но тот не отвел глаз.
– Сейчас на морозе не время рассуждать, тем более у противника под носом. Но скажу вам откровенно, что и меня мучает та же мысль. Враг у стен Москвы! Это… Да я бы собственной рукой застрелил того, кто посмел бы сказать мне такое до войны… Вот закончим войну, победим и тогда разберемся во всем. Поверьте мне, что такой день наступит.
– В это я верю!
– Вот и хорошо, – проговорил генерал, а про себя подумал. «Посмотрим, каким ты будешь в бою. Но на труса не похож… У волевого, смелого командира в бою все герои, бьются до последнего патрона», – генерал молча протянул руку:
– Победим врага и непременно встретимся. Не забудьте пригласить меня к себе в гости.
– Никак нет, товарищ генерал. Но где вас найду? Имя не знаю, ничего не знаю. Дома скажу: «Видел генерала, руку мне пожал», – не поверят, смеяться будут.
– Гм! Ну, давайте познакомимся: Хетагуров.
– Вы осетин?
Хетагуров засмеялся, вынул пачку папирос, отошел:
– Да. Моя Родина – Осетия, я родился в горах. Ирон дæ?[42]42
Ирон дæ? – Ты осетин?
[Закрыть] Из какого ущелья?
Генерал порывисто шагнул к бойцу, положил руки на плечи, смуглое лицо засветилось.
– Нет, нет…
Сползли с плеч Асланбека руки генерала, закурил он.
– Я… кабардинец я. Простите, товарищ генерал, у меня друг осетин, – проговорил Асланбек. – А товарищ по окопу одессит, – он поискал глазами Яшу, но того не было видно. – Он вот только что был здесь.
– Передайте ему, пусть воюет храбро, как его деды. Каждую позицию, каждый метр советской земли будем защищать до последней капли крови.
– Будем крепко воевать!
– До свидания!
– Счастливого пути.
Асланбеку было приятно, что у генерала сильная рука.
– Да, а кто стрелял ночью? – обратился генерал к полковнику.
– Боец, сдали у него нервы.
– Понятно, первая ночь на передовой.
– К утру страх пройдет.
– Прикажите сегодня же соединить окопы траншеей.
– Слушаюсь, товарищ генерал.
– Во всех отношениях это лучше одиночных окопов.
– Разумеется.
Генерал Хетагуров и сопровождающие его командиры ушли, а восхищенный Асланбек смотрел им вслед: «Вот это да! Осетина встретил и где? На самой передовой… Сегодня же напишу домой».
Из-за дерева вышел одессит.
– Чтобы я не дошел туда, куда я иду, если ты не идиот.
– Я?!
– Ты знаешь с кем разговаривал?
– С генералом Хетагуровым.
Хотел Асланбек поделиться радостью, что генерал-то осетин, но передумал. – Правильно. Притащились Петро, сержант, за ними, поеживаясь, Слава.
– Кого принесло с утра пораньше? – спросил сержант.
– Земляка я встретил… Самого генерала Хетагурова, – мой сосед по Одессе, можно сказать, в одном доме живем.
– Завидую тебе, земляка ты встретил, – сказал Слава и ушел в глубь леса.
– Еще бы! Повезло, – воскликнул нисколько не смутившийся Нечитайло.
– Яша, тебе не стыдно? – подступил к нему Асланбек.
Предрассветную тишину прорезала длинная пулеметная очередь. Друзья кинулись к окопам.
3С каждой почтой Тасо ждал весточку от сына, но Буту молчал. Отец терялся в догадках, думал-передумал всякое, пока однажды не получил письмо на свое имя. Почерк на конверте чужой, размашистый, и почувствовал Тасо, что пришла к нему беда. Дрожащей рукой вскрыл конверт.
Воинский начальник коротко сообщал, что красноармеец Сандроев пропал без вести в боях на дальних подступах к Киеву. Снова и снова Тасо вчитывался в бегло написанные строчки и никак не мог взять в толк, что значит «пропал». Или он должен погибнуть на виду у всех, в схватке, проявив мужество, как подобает мужчине, или, если он жив, должен быть в строю, вместе со всеми. Странно: пропал без вести. Слова какие-то незнакомые.
Допустим, сын погиб в разведке, и вокруг не оказалось ни одного свидетеля. Ну, а потом, после боя, должны же найти бойца и похоронить? Разве не так поступали они в гражданскую войну? Никто не пропадал. Кто погибал, а кто переходил к врагу. Что-нибудь одно… Значит, если Буту нет среди погибших, то он жив и прячется? Выходит так. Но тут же Тасо отогнал коварную мысль: не мог его сын бросить полк, он не трус, на Буту можно положиться в чем угодно, клятву даст отец, что он не предаст товарищей. Никому не сказал Тасо о случившемся, только еще больше помрачнел, лицо стало землистым. Эх, лучше бы пришла весть о смерти Буту: перенести горе помогли бы люди, оплакивая его.
Однажды ночью Тасо вспомнил о райкоме партии и ужаснулся: как он до сих пор не пошел к Барбукаеву и не выложил все начистоту? Выходит, утаил новые данные о себе. Конечно, о себе. Сын и он – неотделимы.
Наутро Тасо уже сидел в приемной секретаря райкома партии и, прождав целый день, к вечеру попал к нему. Барбукаев ходил по кабинету, озабоченный, осунувшийся.
– Садись, – отрывистым жестом указал он Тасо на кресло, сам тоже опустился на стул. – Рассказывай.
Засомневался Тасо, а нужно ли говорить о своих догадках занятому человеку? Это же клевета на самого себя, на сына. А если окажется, что… Обвинят: «Скрыл от партии!»
– Чего ты молчишь? Случилось что?
Голос Барбукаева вывел Тасо из нерешительности.
– Письмо получил с фронта, – дернул плечом.
– Интересно, – оживился Барбукаев. – Сын пишет?
– Из штаба. Буту пропал без вести, не находят его. – Тасо перебрал край толстой суконной скатерти.
Секретарь нервно прошелся по кабинету, снова сел.
– Без вести, говоришь. Не он первый пропал неизвестно куда, но не могу привыкнуть к этому. Мы тоже были на войне с тобой, – проговорил Барбукаев.
Словно валун взвалили на плечи Тасо, так его придавило к креслу. Когда у него родился сын, имя ему дал Барбукаев, теперь он говорит о Буту ледяным тоном, как о чужом.
– Тебя я знаю давно, и Буту верю. Не думаю, чтобы он изменил присяге.
Барбукаев опустил руки на колени:
– Неприятно, конечно, что люди пропадают и никто не знает куда.
Всплыло в памяти Тасо, как в тридцатом году в него стреляли бандиты, и Барбукаев всю ночь простоял в больнице, не ушел, пока не сделали Тасо операцию… Тогда Барбукаев был секретарем партячейки.
Зазвонил телефон, Барбукаев снял трубку.
– Слушаю. А-а, это ты, друг. Вот что… Нас вызывают в обком. Да. Через час, на моей машине. Потом поговорим, заходите ко мне.
– Понимаете, сейчас у меня посетитель.
Барбукаев встал, посмотрел в окно.
Тасо поднялся сгорбившийся, постаревший: «Посетитель». Секретарь взглянул на него и смягчился:
– Ты пока никому не рассказывай о случившемся. В районе пройдет молва о сыне старого коммуниста, люди неправильно истолкуют. Нет, не может человек пропасть, не иголка в стогу… План заготовок молока надо выполнить досрочно.
Оторвал Тасо глаза от стола, посмотрел мимо Барбукаева:
– Не подведем…
– Ты представитель райкома в Цахкоме.
Тасо уже взялся за массивную дверную ручку, когда Барбукаев окликнул его.
– Подожди…
Медленно всем телом повернулся Тасо: что он хочет сказать, когда и без того все ясно.
– Держи, – вынул Барбукаев письмо из конверта. – Можешь обрадовать Дунетхан Каруоеву.
Что за черт, никак не поймет Тасо, снова читает:
«Дорогой товарищ Барбукаев. Пишу тебе перед боем. Над головой немецкие самолеты. Как видишь, в моем деле разобрались и освободили. Обещали после войны поговорить кое с кем. Партбилет мой сохранился? До встречи. Хадзыбатыр Каруоев, член ВКП(б) с 1918 года, артиллерист».
Вернулся Тасо в Цахком, созвал на нихас аульцев; прочитал им письмо Хадзыбатыра, и все стали поздравлять Дунетхан, а она расплакалась, не могли успокоить, пришлось увести ее домой.
Нихас опустел, Тасо задул фонарь. Уже было за полночь, а он все сидел под дубом. Вся его жизнь, день за днем прошла перед ним.
…Мальчишкой он пас на опушке телят, когда в доме случилось несчастье, а он о нем узнал вечером, вернувшись в аул. На околице встретился с ребятами, и они почему-то не побежали, как обычно, навстречу: стояли, опустив руки, спрятав в землю глаза, точь-в-точь как выражают соболезнование родственникам умершего старшие. Тасо растерянно посмотрел на них, бросил хворостину и понесся к дому.
В маленьком дворе было тесно, и мужчины толпились на улице. Тасо протиснулся в саклю, никто не обратил на него внимания, да и женщины, причитавшие без умолку, не сразу сообразили, что мальчик-то – наследник покойного, единственный его сын. Все забыли о нем в момент явившегося нежданно горя, а он стоял у ног отца, укрытого буркой. Первой заметила мальчика плакальщица, и она же напомнила людям о его существовании, причитая, что на плечи Тасо легла забота о больной матери.
Прошло время…
В тот день, когда Тасо пригласил аульчан на тризну, он почувствовал себя взрослым и дал слово свести счеты с подлым убийцей, да не пришлось сдержать данную клятву: убийца умер на каторге.
Грянула революция, и молодой Тасо взял винтовку.
О той боевой поре напоминал людям пустой рукав его кожанки. Никогда Тасо не искал спокойной жизни. Окружком направил его в горы укреплять Советскую власть, да так он и остался в Цахкоме. Здесь, вместе с любимой пришло в дом счастье, но только было оно недолгим, – жена, подарив сына, умерла.
Испытания, испытания… Сколько их было. А сколько будет… Единственная радость – сын. Ах, Буту, Буту, не уберег ты себя. Где ты, что с тобой? Мысли Тасо прервал цокот копыт.
– Разве так встречают гостей?
Чей это голос?
Секретарь райкома партии, соскочив с коня, шел к крыльцу, рядом с ним – незнакомец, похоже городской.
Поднялся Тасо, расправил под ремнем складки на гимнастерке, надвинул на лоб шапку и шагнул навстречу приезжим.
– Э, цахкомцы тем и отличаются, что ласкают ухо гостя словами. Нет, чтобы зарезать барана.
Барбукаев вошел в помещение:
– Знакомьтесь, инженер из города.
Гость крепко пожал бригадиру руку. Сели. Секретарь райкома партии – в кресло, инженер – на табуретку, а Тасо остался стоять. К его холодной спине прилипла рубаха, ныла поясница.
– Закрой дверь, поговорить надо, – попросил незнакомец. Сам же шумно захлопнул окно, спросил:
– С какого ты года в партии?
Не сразу ответил Тасо, положил руку на сердце: как всегда, партийный билет на месте. В партизанском отряде стал он коммунистом. После боя, когда их крепко потрепали и отряд отступил в горы, Тасо сказал комиссару, чтобы его считали большевиком.
– Так когда ты вступил в партию?
– Осенью восемнадцатого.
– Давно! Постой, постой, а почему не в семнадцатом? Почему долго размышлял? – допытывался приезжий, хотя знал каждую строчку из биографии Тасо.
«Ах ты… Мать твою так, когда мы босые, голодные с одной винтовкой на троих, шли во весь рост на врага, ты под столом бегал, а теперь усомнился во мне? Дожил, ничего не скажешь, черти кто Советскую власть оберегает от меня».
– Проверять меня взялся? – Тасо ударил кулаком по столу так, что подскочила чернильница. – Молод еще.
– Тихо, побереги нервы, – незнакомец предостерегающе поднял руку. – Здесь вопросы задаю я, твое дело – отвечать!
– Не одну партчистку прошел, так что допроса мне не устраивай, – все тем же резким тоном произнес Тасо.
Он побагровел, а когда снова поднял голову, то лицо его стало мертвенно бледным.
В разговор вмешался Барбукаев:
– У нас очень важное государственное поручение, вот и расспрашивает, хотя он знает о тебе… Видишь ли, мы не имеем права рисковать делом, которое нам поручил Комитет Обороны… Прости, пожалуйста, но ты сам должен понимать обстановку. Война.
Тасо стоял насупившись: с этого бы и начинали.
– Так… Кто-нибудь посторонний живет в ауле? – спросил незнакомец.
Помедлил Тасо с ответом, не сразу вспомнил о беженцах.
– Значит, чужих нет?
– Чужих нет. Беженцы – брат и сестра живут в моем доме.
– Надеюсь, ты умеешь хранить тайну?
– Умел до сих пор!
– Вот что, инженеру нужно помочь найти в горах пещеру.
Приезжий взмахом руки подозвал Тасо к столу и понизил голос:
– Об этом никто не должен знать!
– О чем?
– О нашем разговоре и что мы были здесь.
– Через час во всех аулах только и будут говорить о вас. Разве приезд гостей можно утаить?
– Да, ты прав… А вот разговор о пещере ты забудешь, как только мы уедем отсюда, – жестко произнес Барбукаев.
– Запомни, от меня никто и ничего не услышит, – твердо произнес Тасо. – Если узнают, то от тебя самого.
Он был возбужден, лицо его опять раскраснелось, глаза блестели; успокоившись, спросил:
– Пещер в горах много, для чего нужно?
Приезжий из города оставил свое место, наклонился, чтобы не говорить громко:
– Приказано найти место для будущей партизанской базы.
Удивленно посмотрел на него Тасо: какая еще партизанская база? Его недоумение понял гость:
– Мы должны быть готовы ко всему. Теперь ты сознаешь ответственность поручения?
– Когда собираетесь в горы? – спросил в свою очередь Тасо.
– Сейчас, – отрезал инженер.
Догадался Тасо, что гость из города вовсе не инженер, а похоже, начальник.
– Найдем такое место, – задумчиво проговорил Тасо. – И в гражданскую войну там наша база была.
– Проведешь кружным путем, мы не хотим, чтобы враги узнали о ней, – сказал строго Барбукаев.
Кивнул Тасо: к чему столько говорить об одном и том же.
С утра Мария принялась за уборку, затем быстро приготовила скромную еду на весь день и уселась за вязание: аульские женщины готовили посылку на фронт, и Дунетхан поручила ей связать пар десять теплых носков. Работая, Мария не забывала о своем горе. На родине осталась могила сына, оттуда ушел в армию муж, в дороге, в степи, похоронила мать.
Медленно разгорался кизяк в открытом очаге, тлел, нещадно дымя, Мария видела, как это раздражало больного брата. Но что она могла поделать, ей никогда в жизни не приходилось растапливать такую печь.
Стараясь раздуть огонь, Никита напрягался из последних сил, размахивал фуражкой. Напротив, по ту сторону очага, сидела Мария. Концы спиц мелькали в ее маленьких руках. Вязала она вслепую, лишь изредка поднося работу к близоруким глазам.
– Никита, пожалей себя, дым уже изъел глаза.
Он сделал вид, будто не слышал, и продолжал махать теперь уже назло ей, Марийке.
– Если у тебя плохое настроение, при чем же другие? – мягко сказала она.
Однако, видя, что брат упорствует, она встала, вырвала у него из рук фуражку и надела ему на голову.
Кашлял Никита долго, сжалившись, Мария взяла его под руку, увела в комнату, уложила на кровать, а сама, стиснув руки в беспомощном отчаянии, стояла у изголовья. Она знала, что больному уже не помогут врачи. Еще дома у брата признали бронхиальную астму. Обещали вылечить, тут началась война, и спустя несколько дней, брат примчался из больницы, велел матери с сестрой собираться в путь. Они пытались отговорить его, умоляли, но Никита был непреклонен: «Гитлер истребляет всех. Разве не видите – это людоеды из Германии? Я болен, болен, мне же не убить Гитлера! Может, вы хотите угодить ему в лапы? Так я этого не желаю, ясно?» И вскоре семья покинула город.
Со двора тихо постучали, через секунду приоткрылась дверь.
– Вот… Тасо прислал, – Алибек протянул кошелку.
Мария взяла у мальчика сверток, развернула: в нем оказалось свежее мясо. Не успела она поблагодарить, расспросить, что нового, как мальчик исчез.
Не забывает о них. То овечьего сыру раздобудет Тасо, то муки.
– Раньше ты вкусно готовила соус, – проговорил брат, – и Тасо накорми.
– Один он, как волк… Ах, зачем только мы мучаемся? Лучше умереть, – Мария смахнула слезу.
– Я тебя уже измучил, – простонал Никита.
– Оставь, пожалуйста, не о тебе говорю… – еще пуще расплакалась сестра.
Никита оторвал голову от подушки.
– И это сказала ты? – в его глазах было страдание. – Моя сестра Мария? Того не может быть. Скажи, что это не твои слова.
Она опустилась рядом с ним на колени и прильнула к плечу. Дрожащими пальцами брат водил по ее лицу, приговаривал:
– Ты знаешь, один бог хотел нас погубить, другой спас, ниспослав добрых людей. Потерпи, вот придет конец войне… Каждую ночь мне снится наша мама, к себе зовет.
– Не надо, – взмолилась сестра.
– Ну, хорошо, раз не надо, так и не будем, – брат закрыл глаза.
Мария пригладила ему волосы, концом фартука провела по вспотевшему холодному лбу. Ей показалось, что он уснул, но стоило пошевелиться, как Никита беспокойно заворочался:
– Мария, не оставляй меня…
– Я здесь, – она склонилась над изголовьем.
– Кажется, я умираю, – прошептал больной.
У нее защемило сердце.
– Господи, о чем ты говоришь, – сквозь слезы произнесла Мария. – Тебе просто плохо.
– Ты знаешь, что?
– Нет, Никита.
– Я убью немца! Одного… С меня хватит одного.
Мария со страхом посмотрела на брата, он приоткрыл глаза.
– Ты подумала, я сошел с ума? Твой брат желает отомстить за нашу маму, за всех убитых…
– Ты говоришь совсем не то, что надо, – простонала женщина. Она нашла сухую руку брата и стала целовать, обливаясь слезами.
– Я хочу исполнить перед смертью свою песню. Она есть у каждого человека. Ты знаешь, мне не удалось до сих пор спеть ее. Собери меня в дорогу.
Мария испуганными глазами смотрела на больного, чувствуя, что теряет сознание.
– Ты очень похожа на мать, – он спустил ноги с постели. – Помоги… Я желаю убить немца, – он сунул руку под подушку и вытащил нож в черном сафьяновом чехле.
– Ох! – Сестра в ужасе отшатнулась.
Старик поднялся с кровати, сделал несколько шагов к двери и рухнул на пол.
Хоронили Никиту Коноваленко на рассвете следующего дня. Когда брата опустили в могилу, Мария не плакала. Она слушала Дзаге, путавшего осетинские слова с русскими. Спасибо, Фатима оказалась рядом и пересказывала.
– Твое горе разделяем и мы… Теперь ты наша родственница, – произнес громко Дзаге. – Брат, похороненный на осетинской земле, породнил нас… Если желаешь, мы построим тебе дом такой же, как у всех. А когда окончится война, сама решишь, остаться тебе в ауле или нет… Я давно молю бога взять в жертву мою жизнь и пощадить молодых, ушедших на войну. Но он не милостив ко мне…
Всю ночь Мария не сомкнула глаз, вязала без отдыха, а под утро кинулась к кровати, на которой умер брат, обхватила подушку и зарыдала.
Наплакавшись, взялась перестилать постель и нашла под матрацем знакомый с детства истертый кожаный кошелек матери. Снова заплакала глухо, в подушку.
Очнулась, когда во дворе уже совсем рассветало. Разжала онемевшую руку, и на пол упал кошелек. Сердце подсказало ей открыть его. Марийка подняла кошелек, и словно к ней прикоснулись теплые руки матери.
Собравшись с духом, открыла и нашла в нем записку:
«Милая сестра, прости своего Никиту, если он обидел тебя когда-нибудь. Не сумел я дать тебе счастья. Немец, проклятый душегуб, помешал, исковеркал нашу тихую жизнь. А много ли надо было нам? Вот что, сестра моя, в кошельке монета. Этот царский червонец перешел к матери от нашего деда. Сохрани его, как память… Прощай, моя Марийка. Твой брат».
Тут силы оставили ее, и она опрокинулась навзничь.
Неизвестно, сколько она была без сознания. Когда пришел Тасо, то застал ее на полу.
В тот же день бригадир и Дунетхан отвезли Марию в больницу, а перед тем, как вернуться в аул, зашли к Барбукаеву.
Секретарь внимательно перечитал письмо Никиты сестре, взволнованно заходил по кабинету.
– Сколько трагедий…
Секретарь позвонил в больницу и справился о Марии. Ему ответили, что ее отправили в город, но на выздоровление надежд почти никаких.
Барбукаев повесил трубку.
– Враг разметал людей по земле, исковеркал сотни, тысячи жизней.
Тасо вспомнил утреннюю сводку и сразу почувствовал испарину на лбу, провел по нему рукой:
– Понять не могу… Враг продвигается вперед.
Барбукаев сложил руки на груди.
– Положение очень серьезное. Конечно, в панику впадать мы не будем, не для этого говорю с вами. Напрячься, с силами собраться призывает нас партия. Дунетхан, ты беспартийная, но о тебе мне говорил Тасо, хорошо, что втягиваешься в дела аула. В стороне может быть только враг… Что пишет Хадзыбатыр?
– Воюет, о сыновьях спрашивает.
Дунетхан смотрела в упор на секретаря.
– Он опять нашел свое место, – потер виски Барбукаев. – Вот что, товарищи, в других аулах народ выделил в фонд Красной Армии продукты из своих запасов. Подумать надо и вам. Знаю, что аул небольшой, можно вместить в шапке. Но сейчас в стране все на учете, все до нитки! Готовиться надо к трудным дням. Мы уверены, что Красная Армия остановит врага.
Секретарь сел за стол, продолжая:
– Но ей надо помогать, не щадя сил. Людям следует это внушать так, чтобы не вызвать в их душах смятения.
– Зачем внушать? – Тасо побарабанил худыми пальцами по краю стола. – Другими стали люди, понятливыми.
– Так, так, – закивала Дунетхан.
Ночью они вернулись в аул. Прежде чем расстаться, бригадир, подумав, сказал:
– Утром приходи на нихас.
– Опомнись, что ты говоришь?
Он словно не слышал:
– Поговори со стариками.
– Ты смеешься?
– Все, что слышала от Барбукаева, – передай им. Он доверился тебе, мне… От коммунистов у него секретов нет.
– Нет, нет! С каких пор я коммунистка?
– Мне трудно. Опять…
Он схватился за грудь, пошел к своему дому, остановился.
– Каждое слово обдумай.
Догнала его, дотронулась до плеча:
– Хорошо, не сердись.
Он улыбнулся ей одобряюще.
Ей доверяют! Сам Барбукаев. Барбукаев… О муже спросил. А не он однажды, в райцентре, проехал мимо на бидарке, отвернулся от нее, перевел коня на быстрый шаг? Он. Что же случилось с ним теперь? Может, в ней изменилось что-то?
Секретарь райкома поручил Тасо и ей рассказать людям правду. Она найдет такие слова, чтобы люди обрели силу для долгого и трудного пути.
Зажгла Дунетхан керосиновую лампу и взялась писать мужу. Она старательно выводила крупные буквы:
«Здравствуй, отец моих детей! Пусть в тот день, когда ты получишь мое письмо, кончится война, и чтобы ты с сыновьями вернулся домой. У нас все, как я тебе писала вчера. Плохо было ночью твоему другу Тасо. Сердце разрывается, когда я смотрю на него. Эх, знал бы ты, как всем нам трудно без вас. Столько забот свалилось… О лошадях я тебе писала. Ну ничего. Была в райкоме. Барбукаев говорил о тебе. Хадзыбатыр, как ты думаешь, что, если я подам в партию? Фатима выучилась в городе на трактористку. Залина ушла на фронт. У нас все живы, только Тасо болеет. Ты еще не нашел Асланбека?»
Дунетхан уронила голову на стол и заплакала.
Остаток ночи Дунетхан не спала, ходила по дому и в который раз мысленно начинала свой разговор со стариками.
Утром, едва взошло солнце, она была во дворе и, поглядывая в сторону нихаса, подоила коров. С трудом дождалась, пока старики поднялись на нихас, и, отложив дела, отправилась к ним. Но чем ближе подходила, тем меньше решительности. Сверлила мысль: как одна посмеет предстать перед почтенными старшими да еще заговорит с ними? Но отступать было поздно: первым ее заметил Дзаге.
– Здравствуй, Дунетхан. Что тебя привело к нам так рано? Подойди ближе, покажи нам свое лицо.
Поспешнее, чем того требует приличие, женщина сделала шаг вперед.
– Твоя мать тем и прославила род отца, что не дала мужу ни одного сына.
Дзаге ковырнул палкой землю, поглядел на рядом сидящих, но те, казалось, не проявили интереса ни к его словам, ни к Дунетхан:
– Скажи, ты довольна своими сыновьями?
Не поднимая головы, Дунетхан кивнула. Почему она послушалась Тасо? Теперь во всем ущелье будут говорить о ней, что явилась на нихас и поучала стариков. Лучше бы у нее отсохли ноги…
– Пусть бог даст им столько сил, чтобы они не посрамили имени своего отца, род свой.
Дзаге поморгал, пожевал губами.
– Ты, говорят, с Тасо в район ходила? Какие новости принесла? – спросил он наконец.
Посмелела Дунетхан, столько лет прожила рядом с Дзаге и только узнала, какой он добрый человек.
– Враг подошел к Москве, – обрела она дар речи.
Старики забыли, что перед ними женщина, заговорили:
– Ты что-то путаешь?
– Неправда это!
– Где Тасо?
– В других аулах готовят обозы для Красной Армии, – повторила слова секретаря райкома. – А мы только деньги собрали да вяжем носки. Надо от себя оторвать…
Тут ее прервал Дзаге, вскочил, потряс в воздухе палкой:
– Ты не срами нас! Куда вы смотрели, коммунисты? Другие нас опередили! Позови сейчас Тасо.
Дунетхан стала удивительно спокойна.
На ступеньках бригадного дома, расставив ноги, стоял Тасо: кожанка расстегнута, рука на бляхе. Спустился на нихас.
– Я слышал, что тут говорила Дунетхан.
Бригадир сел рядом с Дзаге.
Дунетхан отметила про себя, что он озабочен, иначе бы не позволил такое: еще молод, чтобы сидеть рядом с Дзаге. Его место на нихасе с краю. И Дзаге, должно быть, не обратил на это внимания.
Бригадир бросил на женщину короткий взгляд, и она поняла, что оставаться на нихасе ей больше незачем.
Уже по дороге домой у нее внезапно вспыхнуло лицо. От возбуждения слегка кружилась голова. Эх, сорвать платок и крикнуть на весь мир, чтобы слышали дети, Хадзыбатыр: «Держитесь стойко!»
Вечером в калитку постучал Джамбот, понизил голос:
– Что пишет сын… Асланбек?
Хотелось засмеяться ему в лицо, но удержалась.
– Прошу тебя. Бог уже наказал меня.
– Чем? – без гнева спросила она.
– Сыном. Лучше бы он не родился.
Пробудилась в сердце жалость к человеку, но тут же погасла.
– Бесстыжий.
– Это я то? На нихас ты ходила… Почтенных мужчин жить учила. Ты с этим Тасо потеряла голову, о сыне не думаешь.
– Ты… Ты не мужчина, а подлая собака, – выкрикнула Дунетхан. – Вот вернется Хадзыбатыр, откроюсь ему, и тогда берегись, – развернулась и пошла.