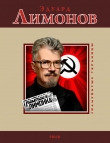Текст книги "Набат"
Автор книги: Василий Цаголов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 27 страниц)
– Сейчас ты узнаешь от меня тайну. О ней никто не знает. Никто! Если ты любишь его… – он сделал паузу и перешел на шепот: – Если ты готова умереть… Ты… Ты никогда не проговоришься и во сне. Он… Он… твой брат. Уходи, рожденная… Собачья кровь в тебе!
Вздрогнула Залина, только бы не вскрикнуть!
* * *
Дзаге грелся на солнце. Он сидел во дворе на гладком чинаровом бревне, сжав между колен свою палку, и клевал носом, вздремнуть мешали сновавшие по двору невестки и внуки. Заметил Дзаге, что они чем-то озабочены, но спрашивать было не у кого: не станет же глава рода вести разговоры с женщинами. Будучи в неведении, он сердился на домашних и уже собрался покинуть двор, как появился старший сын Сандир. Он остановился перед отцом, ожидая, когда тот заговорит.
– Кажется, в наш курятник забралась лиса… От чего в доме всполошились?
Дзаге нахмурил брови.
Сын теребил седую, коротко подстриженную бороду, не зная, с чего начать, чтобы сообщить отцу о сватах, которых пришлет сегодня Тасо Сандроев.
– Слышал я, гости должны прийти, – сказал он.
– Гонца они прислали или по телефону сообщили?
Сын не ответил, и Дзаге поднял на него глаза:
– Гость найдет в доме моего почтенного родителя уважение. Но если это сваты, то невесты ни для кого у нас нет. Пусть даже он будет джигит из джигитов, а моей внучки ему не видать! Иди, готовься встретить гостей, да смотри у меня, зарежь самого жирного барана. Гость есть гость, если даже он придет к нам из дома моего врага.
По-разному отнеслись в ауле к угрозе Асланбека увезти Залину в город, если Джамбот не одумается и будет противиться желанию дочери. Одни осуждали молодых, но мнения многих сошлись на том, что упорство отца не приведет к добру.
Ждал Асланбек объяснений с матерью, но она вела себя так, словно ничего не слышала. Сын хорошо знал мать и готовился к разговору с ней.
Однажды, навьючив ишака продуктами для чабанов, он собрался в горы. Погнал ишака к калитке, но тут, как всегда, оказалась и мать.
– Пойду, нана, – произнес он традиционные для их дома слова прощания.
Дунетхан вытерла руки о передник, подозвала сына к себе, взглянула в задумчивые, грустные глаза.
– Люди говорят, что мой сын собрался жениться, – проговорила безразличным тоном мать, но за ним сын услышал осуждение. – Правда это?
– Прости, нана, что сразу не сказал тебе, постеснялся.
Она слегка кивнула.
– Она тебе нравится?
– Да.
– Тебе ее лучше знать.
– Спасибо, нана.
– Ты женишься… Но не раньше своих старших братьев. Обычай отцов так велит, а мне не хочется идти против него, сын мой, – в голосе Дунетхан, во всем ее облике – ни тени волнения, слова лились свободно.
– Хорошо, нана.
– Твои братья приведут невесток в дом Хадзыбатыра Каруоева, когда вернется их отец.
– Конечно, нана.
– А если кто-то из моих сыновей поступит по-своему… – помолчала мать… – Я верю, что ты мужчина.
О Джамботе не было сказано ни слова. Мать положила руку сыну на плечо:
– В моем сердце темная ночь, с тех пор как не слышно в доме голоса твоего отца, у меня ушло много сил. Запомни: целый город не стоит одного позора. Иди, и пусть от тебя доходят к нам добрые вести!
5В горах стояли знойные дни, и аульцы спешили до того, как выцветут заоблачные альпийские луга, скосить сочные травы на дальних участках да перетащить волоком поближе к аулу копны, иначе к ним зимой не пробиться. Зимы в горах снежные, долгие, в долине земля парит, а в ущельях белым-бело. А то нежданно-негаданно сорвутся с седых вершин ветры, и вьюжит день и ночь, носа не высунешь.
В ауле к большому сенокосу готовились заранее: оттачивали косы, шили арчита[40]40
Арчита – обувь из воловьей шкуры.
[Закрыть] и, конечно, варили квас, сушили на солнце и обильных сквозняках молодую баранину, затем коптили ее, и не иначе как дымом крапивы, для большего аромата. С нетерпением ждали страды и юноши. Кто из них не лелеял мечты получить из рук старшего косу! С этого начиналось их негласное посвящение в мужчины: косить на крутизнах, когда под ногами пропасть, мог не всякий, кто надевал шапку из золотистого каракуля. В пору сенокоса к ледникам уходили и стар, и млад. Аул пустел, оставшиеся в нем глубокие старики с рассветом взбирались на плоские крыши саклей, обдуваемых всеми ветрами, оттуда взирали на мир, пока не пригребало солнце, а потом неторопливо, тропками поднимались к древнему ветвистому дубу, чинно, строго по-старшинству усаживались на согревшиеся камни и вели свои разговоры, пересыпанные шутками. Это был нихас аула Цахком. Его обитатели ждали, когда Муртуз втянет Дзаге в разговор. Он умел делать это искусно.
– О, Дзаге, ты прожил две жизни и, должно быть, встречался с Алиханом, с тем, что самому Ермолову варил пиво… Не приходился ли он нам родственником? По-моему, он из Цахкома.
Дзаге, маленький, сухонький, повернулся всем телом к другу.
– Тогда зачем спрашиваешь меня?
– Спросить – не позор, Дзаге.
Старики, до той минуты сидевшие с безучастным видом, вдруг заерзали на гладких плоских камнях, и, предвкушая интересный разговор, насторожились в ожидании муртузовского ответа. Муртуз почесал кончик носа, зажмурив глубоко впавшие глаза, подставил солнцу лицо: он ждал, пока выскажется старший.
– Почтенный Алихан некогда служил у русского генерала командиром… Пиво он ему не варил, а вот бесстрашным он был! Генерал подарил Алихану шашку в золотых ножнах.
Дзаге разгладил трясущимися пальцами усы:
– Это ты слышал от меня сто раз.
– Забывчив стал.
– Отец моего почтенного родителя рассказывал, что нарты[41]41
Нарты – герои осетинского эпоса.
[Закрыть], не знаю, правда это или нет, забывчивому человеку отрезали ухо и привязывали к носу…
Открыл глаза Муртуз, положил на колено согнутую в локте левую руку, другая лежала на высокой массивной резной палке, оттого у него правое плечо задралось кверху.
– В хорошем слове благодать целого дня, Муртуз! Алихан был большим командиром, оттого, да умрет тот, кто не уважает дела наших отцов, слава наша с тобой еще выше, и нам с тобой почет.
– Эх, Дзаге, Дзаге, ты забыл мудрые слова предков наших: «Не в меру славить – ославить».
Откинувшись назад, Дзаге воздел к небу руки:
– Клянусь богом, упрямый человек хуже упрямого коня.
Сокрушенно качнул головой Муртуз, колыхнулась шапка из черной овчины:
– Не люблю я перебирать старую сбрую… Расскажи нам лучше что-нибудь, порадуй сердца, а потом за словом слово потянется.
– Нет, Муртуз, на этот раз тебе не удастся обскакать меня на своем осле. Пришло время и тебе снести яйцо.
– Ты хочешь, чтобы люди смеялись над нами! Может, я не твой младший? Мне ли в твоем присутствии лишний раз открывать беззубый рот и тем смешить народ? Не сбивай меня с толку. Уж и без того я чувствую себя неловко перед народом, что рассиживаюсь рядом с тобой. Мне бы стоять надо, да вот беда – спина стала ныть.
Дзаге оживился, привстал, посмотрел направо-налево, снова сел:
– Ха, вы только, добрые люди, послушайте этого человека! На чужом пиру за ним на скакуне не угонишься: поедает баранину, будто голодная курица зерно клюет, а тут… – сел Дзаге, отвернулся, мол, что с тобой говорить.
Все перевели взгляд на Муртуза.
– Пусть простит меня бог… Мальчиком тогда я был, но как сейчас помню, занесло ветром в аул двух всадников. Первым, кого встретили, был Дзаге. Он сидел перед своим домом. Спешились всадники, и тот, что был помоложе, попросил воды. Подумал Дзаге: только что мимо родника проехали, а пить просят. Крикнул меня: «Принеси гостям квасу!» Напились всадники, собрались ехать дальше, уже в седлах сидели, когда Дзаге возьми и скажи: «Почему обижаете нас? Отведали бы нашего хлеба». Всадники оставили седла и спросили Дзаге, куда им привязать коней. А он, ругая себя на чем свет стоит, показал на свой язык: «Вот за это!».
Обитатели нихаса смеялись, не удержался и Дзаге.
Тень от высокого, стройного тополя рассекла лужайку к постепенно сокращалась, приближалась к роднику, журчавшему в траве, в трех шагах от того места, где сидели старики. Выше, у входа в бригадный дом, на единственной выщербленной каменной ступеньке восседал мальчик лет двенадцати, то и дело поправляя сползавшую на глаза войлочную шляпу. Короткие тесные штанины врезались в коричневые от загара икры, ноги обуты в легкие чувяки, обшитые черным сафьяном. Под тесным бешметом угадывалось сильное мускулистое тело. Мальчика звали Алибеком, а еще к нему пристала кличка Лиса, которой одарили его сверстники за рыжие волосы и веснушчатое лицо.
Родители оставили его вместо себя дежурить у телефона, а сами ушли на сенокос: так летом поступали все, и напрасно Тасо уговаривал аульцев подежурить хотя бы один раз в месяц. Люди охотно соглашались с ним, а делали по-своему. Тогда Тасо на сходках говорил, что Советская власть не потерпит такого отношения к своим законам, она любит порядок и дисциплину.
Выступал Тасо горячо, взмахивая кулаком единственной руки так, что со стороны казалось, будто он вбивал гвозди. Народ не перебивал бригадира, слушал внимательно, с уважением, потому что он лучше других знал, что требуется Советской власти.
Алибек сидел молча, важно смотрел перед собой. А ниже, прямо на земле, в разных позах устроились аульские мальчишки и, задрав головы, выжидательно смотрели на него. Их юркие глаза выражали откровенную зависть; им очень хотелось проникнуть в прохладное помещение и, развалясь в глубоком, продавленном кресле, приладить к уху телефонную трубку, постучать по столу толстым красным карандашом, как это делал бригадир.
Из-за дома выскочил теленок. Выпучив на мальчишек удивленные глаза, замер на минуту, потом, выгнув шею, словно собирался поддеть рогами, взбрыкнул, вытянул хвост и закружил, неуклюже подкидывая высокий зад.
И небо, и скалы, и камни были раскалены. Только под дубом продувало, да от родника веяло прохладой. Но мальчишки, дыша раскрытыми ртами, терпеливо ждали, когда смилостивится Алибек. Укрывшись от солнца под широкополыми войлочными шляпами, они старались уговорить его, прося хором дать послушать телефонный разговор, хотя знали наперед, что не разрешит:
– Алибек, ну пусти!
– Тасо никогда не догадается!
– А мы принесем тебе квасу!
– Ты закрой глаза или отвернись!
– Притворись, будто не заметил нас!
– Ну, пожалуйста!
– У, вредина!
Услышав о квасе, Алибек почувствовал жажду. Теперь в душе боролись два чувства: желание напиться холодного квасу и боязнь ослушаться бригадира. Было одно мгновение, когда он чуть не поддался уговорам: ребята пошли на жертву, предложив насовсем компас с деревянной стрелкой, заполучить который он давно мечтал. И снова, в последнюю минуту, вспомнил наказ Тасо: «Смотри, не балуй, ты остаешься вместо меня!»
Из приоткрытого окна донеслись длинные телефонные звонки, и ребята ринулись вперед, позабыв обо всем на свете, но натолкнулись на Алибека: он смотрел на них сверху вниз и, придав голосу строгость, сказал важно:
– Нельзя сюда!
И сам, не оглядываясь, переступил порог.
Тогда мальчишки кинулись к единственному окну, но Алибек успел захлопнуть его и ребята повисли на подоконнике: к стеклу прилипли сплюснутые носы.
Расположившись в кресле, Алибек стащил с бритой головы войлочную шляпу, провел ею по лбу и, показывая всем своим видом, что ему совсем не интересно заниматься скучным делом, приложил к уху трубку и тут же услышал, как где-то далеко-далеко переговаривались и смеялись люди.
– Эй, уалагкомцы, как вы там живете?
– Ты что, в гости напрашиваешься?
– Гулар, Гулар, правда у вас на той неделе две свадьбы?
– Не мешай, Згир!
– Уарайда, э-э-эй!
Вдруг в рой голосов ворвалось тревожное:
– Слушайте, война!
– Эй, кто там шутит таким?
– Из райцентра звонят…
– Залихар, дай ему трубкой по лбу, ты к нему ближе, к этому райцентру.
– Ха-ха!
– Война! Немец напал!
Кто-то выругался, и Алибек поспешно повесил трубку, выпрыгнул в окно и со всех ног бросился к Тасо. Бригадир седлал коня, когда во двор вбежал мальчик.
– Ты что? – бросился ему навстречу Тасо.
– Война! – выдохнул Алибек.
Тасо словно ударили в грудь, но он удержался на ногах только потому, что они будто вросли в землю: «Значит, правда». Схватил он мальчика за ворот так, что тот даже поперхнулся.
– Кто звонил?
– Не знаю.
– Мое имя назвали?
– Нет.
Присел перед мальчиком, прижал к себе с силой и горяча выдохнул в лицо:
– Никому ни слова!
– Да.
– Это, может, провокация врагов.
Алибек покашлял, кивнул понимающе.
– Сейчас позвоню в район… Ты ничего не слышал, понял? – прошептал Тасо.
На следующее утро, когда на небе еще не растворились звезды, в аул въехали два всадника и направились к сакле Тасо. Им не пришлось стучаться: летом бригадир вставал на рассвете: вдруг понадобится срочно кому-нибудь, ведь другого времени у колхозников нет. Правда, такого еще не случалось: жизнь в Цахкоме до сих пор текла размеренно и спокойно. Бригадир стоял во дворе, когда у калитки спешились всадники. В одном из них узнал капитана из военкомата, другой был похож на городского.
Застегивая на ходу побуревшую кожаную куртку, с которой он не расставался ни зимой, ни летом, распахнул низкую калитку:
– Добро пожаловать, дорогие гости!
Приезжие ответили сухо.
«Значит, правда война!» – обожгла Тасо мысль. Молча принял у них коней, отвел к турлучному плетню, накинул уздечки на высохший кривой кол, вернулся к гостям, чтобы пригласить в дом.
– Люди уже ушли в горы? – опередил его капитан.
«Видно, всю ночь ехали», – отметил про себя Тасо, перехватил уставший взгляд капитана, вслух сказал:
– Собираются.
«Спешили, не жалея коней, загнали их в пот». – Тасо смотрел под ноги.
Подходили аульцы с перекинутыми через плечо торбочками и, поприветствовав гостей, молча отходили. Сдержанность обычно приветливых цахкомовцев объяснялась тревогой, вызванной столь ранним приездом военного человека, да еще с незнакомцем.
Прежде, если кто-то направлялся к ним в аул, то звонили из района Тасо: готовьтесь к встрече гостей. А эти нагрянули как снег на голову.
Почему они так долго молчат? Тасо заметил, что приезжие многозначительно переглянулись, и капитан проговорил, глядя вдаль, кажется, на позолоченную вершину.
– Война, товарищи!
Задергалась у Тасо правая щека.
Собравшиеся не сразу сообразили, в чем дело, а капитану пауза показалась вечностью, и он с нажимом произнес:
– Вчера фашистские войска без объявления войны перешли государственную границу СССР.
Тасо поправил низкую потертую каракулевую шапку, и рука его медленно потянулась к карману, замерла; посмотрел в лицо капитана:
– Как перешли? – спросил он.
– Да, товарищи, началась война, – все так же жестко сказал капитан. – В нашей стране проходит всеобщая мобилизация, – капитан нагнулся, натянул голенища, выпрямился, покашлял в кулак.
Тасо провел по лицу шершавой ладонью. Его потрескавшиеся губы подергивались с каждым ударом сердца. С лица медленно отливала кровь, оставляя на смуглой коже взбухшие пятна, похожие на укусы пчелы. Он расстегнул ворот гимнастерки, повел вокруг взглядом. Впервые в жизни он не знал, как ему поступить.
Капитан выловил в помятой пачке папироску, сунул в рот и, полуобернувшись к людям, закурил, глубоко затягиваясь.
– Нагрянула беда…
Докурив папироску, капитан швырнул окурок под ноги, вдавил в землю носком серого от пыли хромового сапога.
– Почему же до сих пор официально не позвонили из райкома? – подумал вслух Тасо. – Я сейчас свяжусь с товарищем Барбукаевым.
Капитан загородил ему дорогу:
– Тебе же сказали: товарищ из обкома партии, а меня ты знаешь. Ты не суетись, Тасо, давай без паники.
Спокойный, будничный тон капитана снял напряженность, аульцы, побросав поклажу, забыли о сдержанности, которой славились их предки.
– Овец нужно перегонять поближе к ледникам.
– Кошары еще не накрыли.
– Недавно в кино показывали немцев в Москве.
– Пусть фашисты убираются к чертовой матери, пока им не сломали шею.
– Нашли время воевать, своих забот полна сапетка.
Выше поднялось солнце, стало жарко. Представитель обкома всматривался в обветренные лица цахкомцев.
– Фашисты второй день бомбят наши города. Мы привезли приказ о мобилизации, – капитан повысил голос.
Люди умолкли, насторожились: это еще что?
– Да как же так?
– А договор с Гитлером?
– Что делать, говорите!
– Мы готовы воевать.
В разговор вступил гость из города, снял плащ, перекинул через руку.
– Гитлер нарушил договор, и вчера на рассвете без объявления войны фашистские войска произвели разбойничий налет на Советский Союз. Гитлер бросил против нас самолеты, танки, артиллерию… Красная Армия дает врагу решительный отпор. От нас, товарищи, требуется понимание обстановки. Мирная жизнь временно прервалась… Мы не знаем, когда закончится война, но думаю, что скоро. По приказу Советского правительства Красная Армия самоотверженно защищает социалистическое государство. Мы вынуждены вести справедливую войну против германского фашизма. Эта борьба потребует много металла, горючего, машин, зерна, мяса… Областной комитет и Совет Народных Комиссаров республики призывают трудящихся Северной Осетии к организованности. Каждый на своем рабочем месте должен повышать производительность труда, перевыполнять государственные задания. Всем нам надо самоотверженно трудиться на оборону нашей страны. Враг будет разбит, дорогие товарищи!
Капитан раскрыл планшетку, вынул нужную бумагу, пробежал ее глазами, после чего протянул Тасо.
– Объявите список мобилизованных в ряды Красной Армии.
Все видели, как задрожала рука Тасо. Шевеля губами, прочитал про себя: «Ахполат Тамиров», а затем произнес ледяным голосом:
– Ахполат Тамиров… Ты считаешься мобилизованным.
Взгляды собравшихся скрестились на высоком плечистом мужчине. Он озирался, словно ослышался, и аульцы почувствовали себя неловко, старались не смотреть на него: у него была больна жена.
– Дзантемир Габисаев. Ты тоже мобилизованный.
Тасо тряхнул в воздухе списком.
Широколицый, подстриженный под запорожского казака, молодой мужчина обнажил два ряда белых крепких зубов.
– Бола…
Тасо поискал кого-то глазами, тихо добавил:
– Бола Даргоев, тебе идти на войну!
Бола – отец четверых детей, кивнул, будто его приглашали на кувд.
– Буту Сандроев, – окрепшим голосом сказал Тасо: теперь он знал, что говорить и делать.
Капитан наклонился к нему, прошептал:
– Буту Сандроева в списке нет, ты ошибся.
Люди услышали и ждали, что ответит Тасо.
– Мне лучше знать. Буту мой сын, и он возьмет винтовку вместо меня. Ты сам сказал, что враг перешел границу.
Помолчав, Тасо пробежал глазами длинный список: одиннадцать человек только из Цахкома.
Выходит, вся страна встала под ружье.
В финскую кампанию ни одного цахкомца не призвали.
Значит, с немцами война будет долгой, тяжелой… Одиннадцать…
Тасо сложил список вчетверо, но капитан не взял его.
– Передашь список в сельсовет.
Капитан снял фуражку, провел ладонью по пыльному околышу:
– Ну что ж, война не ждет, собирайтесь. С этой минуты названные товарищи считаются мобилизованными в ряды Красной Армии. Сбор через полчаса!
Аульцы все еще топтались на месте.
– Ну вот что… – вперед выступил коренастый, крепко сбитый Сандир, – запиши-ка меня в свой список, бригадир.
Дернув плечом, Тасо вопросительно посмотрел на приезжих, но те хранили молчание.
– Почему ты просишь меня?
Бригадир сунул список в карман гимнастерки и застегнул пуговицу.
– Ты наш бригадир, а они здесь гости.
Сандир набил самосадом трубку, помолчав, добавил:
– Ты же знаешь, что я в революцию был пулеметчиком..
– Сколько тебе лет, Сандир Кантиев? – спросил капитан.
– Столько, сколько надо, чтобы пойти на войну, – сказал Сандир закуривая. – Вот так… Прощайте, добрые люди, пойду.
– Внеси Кантиева и Сандроева в список, – согласился капитан. – Только укажи, что они сами добровольно изъявили желание идти в армию. Товарищи, после восьми часов, мы не задержимся ни минуты, – устало сказал капитан. – Собирайтесь.
Люди поняли, что война – действительность.
В ясное, солнечное утро налетел ураган, все вздыбил, закружил, вокруг посуровело. И скалы, и крутые склоны, и голубое небо, и снежные вершины – все посуровело.
Повиснув на шее отца, Фатима тихо всхлипывала.
– Боюсь, дада, страшно.
– А кто мне читал про рыбешку: «Жил – дрожал, умирал – дрожал»?
Сандир провел кончиками пальцев по гладко причесанным волосам дочери.
Растерянная мать Фатимы тыкалась во все углы с пустым хордзеном, причитала:
– О, что теперь будет с нами?
Тут Дзаге не выдержал, стукнул палкой о пол:
– Вы что, покойника оплакиваете, сгори дом вашего врага!
Сандир никогда не слышал, чтобы отец повышал голос, а тут, видно, не выдержал – сдали нервы. Присел Сандир рядом с ним, чего он прежде не мог позволить себе.
– Дзантемир, Бола, Ахполат, Буту… – перечислял он, загибая пальцы, – настоящие мужчины.
Дочь оторвала от стола голову, насторожилась, соображая что-то, встала и на цыпочках вышла. Догадался Сандир, куда она ушла. Ему было видно в окно, как дочь перебежала двор, выскочила на улицу, оставила открытой настежь калитку, понеслась по улице к дому Буту.
В душе Сандир одобрил ее, а вслух сказал:
– Не успели мы породниться с Сандроевыми. Честный человек Тасо, и сын похож на него.
Отец смотрел прямо перед собой, не мигая, сосредоточенно думая о чем-то своем.
– Вот что, скажи, пусть отнесут на нихас араку и турий рог, – велел он, встал и пошел.
– Хорошо, – ответил сын, проводил отца, а потом вернулся распорядиться.
К приходу Дзаге на нихас здесь уже собрались аульцы от мала до велика, окружили мобилизованных. Кто-то украдкой утирал слезы, кто-то возбужденно подбадривал других.
Люди расступились перед Дзаге, и старик оказался в центре собравшихся, все взгляды устремились на него. Он успел заметить, что Фатима стоит рядом с Буту, прикасаясь к нему плечом.
– Добрые люди, – громко сказал Дзаге. – Пусть никого не пугает война. Я видел турков, японцев и, как видите, живой. Не все погибают в бою. Поверьте мне… А разве те, кто останутся в ауле, будут жить вечно? Умереть в бою – честь для мужчины! Смерть за славу достойна славы. Так говорили наши деды. Не будем говорить о смерти.
Сандир наполнил рог аракой и подал отцу.
– Сегодня труднее всего матери, но вы не услышите от нее воплей. Мать сильного – не рыдает. Пусть рыдает родившая труса. А в Цахкоме таких нет! Спросите матерей, что они желают вам, и каждая скажет: «Победи врага и возвращайся с победой домой!» Героем, а другим ты ей не нужен. Кто-то из вас не вернется… Это верно. Его имя будет жить в народе, – сломался голос Дзаге, скатилась по щеке слеза, спряталась в усах, – на скале вырубят ваши имена. Вечная слава лучше вечной жизни!
Он пил из рога, пока голова не запрокинулась назад.
Скорого возвращения пожелали все старшие, каждый пил до дна. Но вот Дзаге поднял руку.
– Слышали вы, что Сандроевы пожелали породниться с нами? Тогда я сказал сватам: подождем, пока Фатима станет ученым человеком.
Стало тихо на нихасе, люди не знали, куда клонит старик.
– Знайте, сегодня Сандроевы и Кантиевы породнились!
Прошел гул одобрения.
– Фатима будет ждать сына Тасо.
Старик направился к Буту, приподнялся на носках, дотянувшись, полуобнял за плечи.
– Вернешься с войны – устроим свадьбу.
Затем пожал руки всем уходившим на фронт, и сыну Сандиру…
Припала девушка к Буту, дернулись у нее плечи.