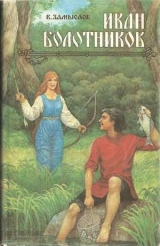
Текст книги "Иван Болотников"
Автор книги: Валерий Замыслов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 47 страниц)
ЧАСТЬ III
МОСКВА
Глава 1 ГОНЦЫ
Наконец-то, разорвав темные лохматые тучи, поднялось над селом солнце. На второй день, опробовав подсохшие загоны, мужики вышли засевать пашню ячменем, овсом, горохом да просом. Болотниковым хватило семян лишь на одну десятину, а другим – и того меньше.
Собрались крестьяне поутру возле гумна, завздыхали:
– Пропадем нонче, братцы. Нечем сеять. Все жито на княжьем поле оставили. Зимой с голодухи помрем…
Крестьяне глянули на Исая. Благообразный, древний, седовласый Акимыч обратился от всего мира:
– Пораскинь головой, Исаюшка, как нам быть.
Исай Болотников, опустив густую черную бороду на
колени, помолчал, перемотал онучи и, вздохнув, высказал:
– Худое наше дело, мужички. Приказчику кланяться – проку нет – полторы меры по осени сдерет. К мельнику идти – и того больше запросит. А урожаишки наши – сам-сам.
– Нешто помирать ребятенкам, Исаюшка?
Исай поднялся, выпрямился во весь рост, разгладил бороду и после долгого раздумья промолвил:
– Норовил я как-то к князю прийти да нуждишку нашу ему высказать. Припоздал. Отбыл князь в белокаменную.
– Эх, Исаюшка. Плоха на князей надежа. Добра от них не жди, – махнул рукой Акимыч.
– А вы послушайте, православные. Чем князь крепок? Мужиком. Без миру князю не барствовать. Мужик его и кормит, и обувает, и мошну деньгой набивает. Об-рок-то немалый ему от мужика идет. А теперь смекайте, что с князем приключится, коли страдная нива впусте лежать станет да бурьяном зарастет. Лошаденки без корму придохнут, мужики разбредутся, вотчина захиреет. И не будет князю – ни хлеба, ни денег. Вот и мыслю я – гонца слать к князю немедля. Просить, чтобы жита из амбаров своих на посев миру выделил.
– А, пожалуй, дело толкуешь, Исаюшка, – промолвил Акимыч. – Да токмо поспешать надо. Вишь – солнышко как жарит. Коли денька через три не засеем – вовсе без хлебушка останемся. Высохнет землица.
– И о том ведаю, Акимыч. С севом мы нонче припозднились. Но коли выбрать коня порезвей да молодца проворного – за два дня из Москвы можно обернуться. Кого посылать будем, мужики?
После недолгих споров порешили послать гонцом в Москву Иванку.
– Разумен. Конь ему послушен. Хоть и молод, но за мир постоять сумеет, – сказали мужики.
Исай Болотников поклонился селянам в пояс. Хотя старый крестьянин и был рад за сына, но все же засомневался:
– Дерзок Иванка мой бывает. Чу, и на мельнице шум затеял. Кабы и в Москве не сорвался.
– Как порешили – тому и быть. Снаряжай сына, Исай, – степенно сказал белоголовый Акимыч.
– На моем Гнедке далеко не ускачешь. Заморен конь.
Теперь резвую лошаденку нам по всему селу не сыскать.
– Что верно, то верно, – отощали лошаденки, – снова озадаченно завздыхали мужики.
– Мир не без добрых людей, православные, – вмешался в разговор Афоня Шмоток. – Есть и в нашем селе скакуны.
Все повернулись к бобылю, а тот скинул с головы колпак и пошел по кругу.
– Кидайте по полушке – будет вам конь, и не один, а два.
– Пошто два, Афоня?
– На другом я поскачу. Без меня Иванка в Москве сгинет. Чуть зазевался – и пропадай головушка. Москва бьет с носка, особливо деревенских. А мне не привыкать. Почитай, пять годков по Москве шатался.
– А что, хрещеные? Мужик он бывалый, верткий, пущай с Иванкой едет, – проговорил Акимыч.
– Где коней добудешь? – спросил Исай.
– У князя одолжу, – подмигнул селянам Шмоток. – Княжьему конюху челом ударю, денег дадите – винцом угощу, уломаю Никиту. Господские кони сытые, зажирели на выгоне, одначе до Москвы промнутся.
Уезжали вечером, тайно: дознается приказчик, что без спроса без ведома к князю собираются – ну и быть беде. В железа Калистрат закует, либо в вонючую яму кинет ослушников.
Коней Афоня и в самом деле раздобыл. Полдня у Никиты в избе высидел, ендову хмельной браги с ним выпил. Никита долго отнекивался, бородой тряс.
– На гиль меня подбиваешь, Афоня. За оное дело не помилуют. Да и на дороге теперь пошаливают. В един миг под разбойный кистень 50 50
Кистень – старинное оружие в виде короткой палки, на одном конце которой подвешен на коротком ремне или цепочке металлический шар.
[Закрыть]угодите. Два коня больших денег стоят. Вовек с князем не расплатиться. Нет уж, уволь. Поищи коней в ином месте.
Но не таков Афоня, чтобы отказом довольствоваться. Битых три часа Никиту улещивал, даже на колени перед ним встал и слезу проронил.
Покряхтел, покряхтел Никита, да так и сдался. Встал перед божницей, молитвы забормотал, прося у господа прощения. Затем повернулся к бобылю.
– За мир пострадаю, Афоня. Коли что – выручайте. Большой грех на душу примаю. У самого жита нет. Может, и окажет князь милость.
… За околицей, когда совсем стемнело, гонцов провожали Исай и Акимыч. Отец благословил сына, облобызал троекратно, напутствовал:
– Удачи тебе, Иванка. Ежели князь смилостивится – пусть грамотку приказчику отпишет. Гордыню свою запрячь, я тя знаю… В Москве по сторонам не глазей. Остепенись, дело разумей. Все село тебя – ох, как ждать будет.
Акимыч протянул Иванке полтину денег, перекрестил дрожащей сухой рукой:
– Прими от селян, молодец. Сгодится в дороге. Езжайте с богом…
Ездоки спустились к реке, обогнули взгорье и сосновым перелеском стали выбираться на проезжую дорогу.
Ехали молча. В Болотникове еще не улеглось радостное волнение. Еще бы! Из всего села его гонцом к князю выбрали. Такой чести удостоили и на серьезное дело снарядили, шутка ли. Это тебе не борозду в поле прокладывать.
Но вскоре в душу закралась и тревога: князь Телятевский спесив да прижимист, не легко к нему будет подступиться. Да и Пахом не зря сказывал, что на Руси праведных бояр нет.
Дорога шла лесом. Темь непроглядная, а по небу – золотая россыпь звездная. Тихо, уныло.
У ездоков за спиной по самопалу, за кушаками – по кистеню да по ножу охотничьему. Чего в дороге не бывает!
Нагулявшиеся, сытые кони, как только вышли на дорогу, звонко заржали и сразу же понеслись вскачь.
Афоня, едва удерживаясь в седле, закричал на молодого рысака:
– Тпру-у-у, окаянный! На пень с тобой угодишь.
Болотников усмехнулся:
– А брехал, что на коне горазд сидеть. Лежал бы на полатях. С тобой и за неделю не управишься. Кину тебя в лесу, а сам поскачу.
Иванка потрепал коня за гриву, натянул повод и взмахнул плеткой. Рысак послушно умчал наездника в
темноту. А вдогонку испуганно, на весь лес пронеслось:
– Иванушка-а-а, постой, милай!
Болотников осадил коня, подождал Афоню. Шмоток начал оправдываться:
– Годков пять на лошаденку не садился. Ты не серчай, Иванка. Я обыкну…
Болотников досадно махнул рукой: послал господь наездника. Однако вскоре пришлось ехать не торопясь. Чем дальше лес, тем теснее обступали дорогу ели, цепляясь колючими лапами за вершников. Бор тянулся непроницаемой черной стеной, мрачно шумел, нагонял тоску.
Над самой головой вдруг громко и протяжно ухнул филин. Афоня ойкнул, втянул голову в плечи, погрозил в темноту кулаком:
– У-у, разбойник.
– Чудной ты мужик, Афоня. Пошто в Москву напросился? Князь у нас крут на расправу да и приказчик за самовольство не помилует.
– Наскучило мне на селе, парень. Человек я бродяжный. В белокаменной давненько не бывал. Охота по Москве пройтись, на бояр посмотреть, хлеба-соли покушать, красного звону послушать. А кнута я не боюсь, кожа у меня дубленая. Бывало, неделями на правеже 51 51
Правеж – принудительный порядок взыскания долга с ответчика в русском государстве в XV – начале XVIII вв. Правеж заключался в том, что ответчика, в случае невыполнения им судебного решения об уплате долга деньгами или имуществом, ежедневно, кроме воскресений, в течение нескольких часов били батогами по обнаженным икрам ног перед приказной избой. Указом 1718 г. Петр I заменил правеж принудительными работами.
[Закрыть]за недоимки простаивал, батогами нещадно пороли.
– Нелегко в Москве жилось, Афоня.
– По Руси я много хаживал и всюду простолюдину худо. А в Москве в ту пору особливо тяжко. Грозный царь Иван Васильевич ливонца воевал. Великую рать Русь на иноземца снарядила. А ее обуть, одеть да накормить надо. Я в те годы в вотчине князя Василия Шуйского полевал. Сбежал в Москву с голодухи. К ремесленному люду пристал, хомуты зачал выделывать. В Зарядье старик к себе в избенку пустил – добрая душа. На торгах стал промышлять. Думал на Москве в люди выбиться, драную сермягу на суконный кафтан сменить да еже-день вдосталь хлебушком кормиться. Ан нет, парень. Хрен редьки не слаще. На Москве черному люду – маята, а не жизнь. Замучили подати да пошлинные сборы. Целовальники собирают по слободам деньги кабацкие, дерут деньги ямские. Окромя того, каждый месяц выкупные деньги собирают на людей, что в полоне у иноземца. На войско стрелецкое и деньгами и хлебушком платили.
Избенка у нас с дедом была крохотная и землицы во дворе самая малость. Пару кадок капусты насаливали, а оброчные деньги взимали с огородишка немалые. Ох, как худо жили. В Москве я вконец отощал. Сам посуди, Иванка. В нашей слободке поначалу государевы сборщики сотню тяглецов насчитывали, а затем и трех десятков не осталось. Разбежались людишки от нужды.
А нам все это по животу било. Мастеровой люд разбежался, а с нас все едино по старой записи подати взимали, за прежние сто дворов. Откуда эких барышей наберешься?
В должниках ходил, за недоимки всего батогами испороли… Помолился на Пожаре 52 52
п о ж а р – Красная площадь. Первоначально площадь называлась «Торгом» или «Пожаром» (за частые пожары), во второй половине XVII в. получила название «Красная», то есть красивая.
[Закрыть]у храма Василия Блаженного да и подался из стольного града. И снова зачал по матушке Руси бродяжничать, христовым именем кормиться…
Афоня тоскливо вздохнул, сплюнул в темноту и замолчал.
Иванка тронул бобыля за плечо, спросил:
– В лицо князя Василия Шуйского видел?
– А то как же, паря. Неказист князь, на козла, прости господи, обличьем схож. Росту малого, бороденка жидкая, но сам хитрющий, спесив не в меру и скупой, как наш мельник.
– И к тому же христопродавец. Готов святую Русь басурману за полушку отдать, – добавил Болотников.
– Это отчего же, паря? – заинтересовался Афоня.
Болотников не ответил, а про себя подумал: «Великую
силу в себе Пахомова грамотка таит. Может, открыться Телятевскому? Сказывают в народе, что крепко наш князь с Шуйским не ладит. Поведаю ему о потайном столбце – глядишь и добрей станет да жита селянам взаймы даст».
Глава 2 У КРЕПОСТНОЙ СТЕНЫ
На рассвете выехали к Яузе. Над тихой застывшей рекой курился, выползая на низкие берега, белесый туман.
Иванка кинул взгляд на открывшуюся Москву и молвил весело:
– Глянь, Афоня, на чудо-крепость. По осени мы с отцом на торг приезжали. Тогда каменных дел умельцы только до Сретенки новой стеной город опоясали, а нонче уже и на Васильев луг башню подвели. Растет Белый город.
– Мать честная! А башни-то, башни-то какие возвели! Зело грозны и неприступны, – всплеснул руками бобыль.
– Теперь ворогу Кремля не достать, через три кольца каменных ни крымцу, ни свейцу, ни ливонцу не пробиться.
Афоня вертелся на лошади, вставал на стремена и все изумленно ахал:
– И всего-то пять годков в белокаменной не бывал. Тут за Яузой еще лес шумел, а топерь слободы раскинулись. Вот те на!
Афоня спрыгнул с лошади, опустился на колени, скинул шапку и принялся истово креститься на златоверхие купола церквей.
– Матушка Москва белокаменная, златоглавая, православная, прими сирот своих с милостью и отпусти с добром.
Иванка повернулся к лесу, залитому теплыми лучами солнца, толкнул Афоню.
– Айда в бор, самопалы спрячем.
– И то верно, Иванка. По Москве оружному простолюдину запрещено ходить. Мигом в Разбойный приказ сволокут.
Под старой корявой сосной засыпали самопалы землей, бурьяном прикрыли и вернулись к реке. Верхом на конях миновали деревянный мост и выехали на Солянку.
В приземистых курных избенках ютились черные люди – государевы тяглецы. Несмотря на ранний час, от изб валил дым. Он клубами выходил из волоковых оконцев и смрадными тучами повисал над жухлыми соломенными крышами.
По улице сновали в полотняных сарафанах девки и бабы с бадейками, хмурые бородатые мужики с заступами, топорами и веревками.
– Москва завсегда рано встает, Иванка. Эгей, мужичок, куда спозаранку снарядился? – окликнул бобыль тяглеца.
Посадский перекинул с плеча на плечо топор и огрызнулся.
– Очумел, козел паршивый. Аль не видишь, чирей те в ухо!
Афоня хихикнул.
– Востер мужичок. Здесь не зевай, народ бедовый. Однако, куда это людишки спешат?
– Помолчи, Афоня!
Вдоль крепостной стены словно в муравейнике копошились сотни работных людей: заступами копали ров, железными кирками долбили белый камень, в бадейках, кулях и на носилках подтаскивали к стене песок и глину, поднимались по деревянным настилам на башни. Тут же сновали десятки конских подвод с обозниками, каменных дел мастера, земские ярыжки 53 53
Ярыжка – низший полицейский служитель.
[Закрыть], объезжие слободские головы с нагайками.
Пыльно, душно. Ржание лошадей, свист нагаек и шумная брань земских ярыжек, досматривавших за нерасторопным и нерадивым людом.
К гонцам подъехал объезжий голова, свирепого вида мужик в малиновом кафтане, при сабле. Спросил дерзко:
– Чего рты разинули? Что за народ?
– Из деревеньки мы, батюшка. В Москву нам надобно, в соляную лавку. Щти хлебаем пустые без соли, – молвил Афоня.
– Слезай с коней. Айда глину месить, камень таскать, – приказал голова.
– Дело у нас спешное. Должны вскоре назад обернуться, сев в вотчине, – сказал Болотников.
Объезжий сунул два пальца в рот и оглушительно по-разбойному свистнул. Мигом подлетели с десяток земских ярыжек в темных сукманах 54 54
Сукман – суконный кафтан особого покроя.
[Закрыть].
Голова вытащил из-за пазухи затасканный бумажный столбец, ткнул под козлиную бороденку Афони.
– Царев указ не слышал? Всякому проезжему, прохожему, гулящему скомороху, калике аль бродяге, что меж двор шатается, государь повелел по едину дню на крепости быть и с превеликим радением цареву силу множить. Так что слезай с коней, деревенщина.
Иванка чертыхнулся. В селе мужики гонцов как Христа дожидаются, мешкать и часу нельзя. Но пришлось смириться: против государева указа не пойдешь.
Объезжий голова подвел гонцов к Яузским воротам, над которыми каменных дел мастера возводили башню. Черноглазый детина в кожаном запоне 55 55
3 а п о н – фартук.
[Закрыть], весь перепачканный известкой, мелом и глиной, прокричал:
– Давай их сюды, Дорофей Фомич! У меня работных людей недостает.
Дорофей Кирьяк согласно мотнул бородой. Афоня ухватил его за полы кафтана:
– При лошадушках мы, батюшка. Дозволь возле реки коней стреножить. Тут рядышком, да и нам отсель видно будет, не сведут. Мало ли лиходеев кругом.
Кирьяк оценивающе взглянул на рысаков и милостиво разрешил.
По шаткому настилу Иванка поднялся на башню, где каменных дел мастера выкладывали «шапку». Черноглазый парень шагнул к Болотникову и шутливо, но крепонь-ко ткнул его кулаком в грудь. Иванка ответил тем же. Парень отлетел к стене и зашиб плечо, однако незлобно отозвался:
– Здоров, чертяка! Словно гирей шмякнул. Тебе только с конем тягаться. Шумилкой Третьяком кличут меня, а тебя?
– Иван Болотников. Что делать укажешь?
Шумилка кивнул на старого мастера.
– Пущай раствор носят, – сказал тот.
Внизу, у подножья башни, с десяток мужиков в больших деревянных корытах готовили раствор для каменной кладки. Возле них суетился маленький сухонький седоватый старичок в суконной поддевке. Он поминутно ворчал, и видно было, что мужики побаивались его.
– Водицы помене плескай. Спортишь мне месиво. Не печь в избе делаем, а крепость возводим. Разумей, охламон, – наступал старичок на угрюмого костистого посадского.
– На башню подымайтесь сторожко. Бадейки не разлейте. Раствору цены нет, вся сила в нем, – строго напутствовал мастер.
Иванка носил бадейки на башню играючи, хотя и весили они до двух пудов, а вот Шмоток вскоре весь взмок и закряхтел. Третьяк, выкладывая кирпичи в ряду, зубоскалил на Афоню:
– Порты не потеряй, борода. Ходи веселей!
– Тебе смешно, а мне до сердца дошло. Веселье в пазуху не лезет, – как всегда нашелся Афоня.
Часа через два вконец измотавшийся бобыль подошел к Болотникову и шепнул на ухо.
– Мочи нет бадьи таскать. Сунем гривну объезжему, может, и отпустит в город.
– Держи карман шире. Ты за конями лучше досматривай. Смекаю, не зря голова на реку поглядывает, глаза у него воровские.
На счастье Афони вскоре на звоннице церкви Дмитрия Солунского ударили к обедне. Работные люди перекрестились и потянулись на Васильев луг, где вдоль небольшой и тихой речушки Рачки раскинулись сотни шалашей.
Гонцы подошли к коням, развязали котомки. Болотников разломил надвое горбушку хлеба, протянул Афоне. Тот, горестно вздыхая, забормотал:
– Угораздило нас Солянкой ехать. Надо было в Садовники, а там через плавучий мост, Москворецкие ворота – ив Китай-городе. Там князь живет. Заждутся теперь мужики…
Болотников доел горбушку, поднялся и неторопливо пошел вдоль речушки. Работные люди сидели возле шалашей и молча жевали скудную снедь. Иванка видел их изможденные серые лица, тоскливые, отрешенные глаза, и на душе у него становилось смутно.
На берегу речушки, возле самых камышей, сидел высокий, сухощавый старик в рваной сермяге, с жидкой седой бородой и слезящимися глазами. Хватаясь за грудь, он хрипло и натужно кашлял. Иванка прошел было мимо, но старик успел ухватить парня за порты.
– Нешто, Иванка?
Болотников в недоумении подсел к работному. А старик, задыхаясь от кашля, все норовил что-то вымолвить, тряс нечесаной седой бородой. Наконец, он откашлялся и глухо произнес:
– Не признаешь своих-то?
Иванка пристально вгляделся в сморщенное землистое лицо и ахнул:
– Ужель ты, Герасим?
Герасим печально улыбнулся.
– Чай, помнишь, как нас, бобылей, из вотчины в Москву повели? Сказывали, на одну зиму берем. Да вот как оно вышло. Пятый год здесь торчим. Было нас семеро душ из вотчины. Четверо с гладу да мору преставились, двое норовили бежать. Один-то удачно сошел, а Зосиму поймали, насмерть батогами забили. На Егория вешнего схоронили его. Я вот одряхлел. Все жилы крепость вытянула. А мне ведь еще и пятидесяти нет, Иванка.
Болотников хмуро слушал Герасима и диву давался, как за пять лет из крепкого, проворного мужика тот превратился в дряхлого старца.
– Тюрьма здесь, Герасим. В неволе царь народ держит. Пошто так?
– Э-э, нет, Иванка. Ты царя не трожь. Блаженный он и народом чтим. Тут на ближнем боярине Борисе Годунове грех. Сказывают, что он повелел новую крепость возводить и мужиков в неволе томить без выходу, – понизив голос, произнес Герасим и снова весь зашелся в кашле; отдышавшись, виновато развел руками. – Надорвался я тут, Иванка. Внутри жила лопнула. Кровь изо рта идет, помру скоро. На селе мужикам поклонись, да проси батюшку Лаврентия помолиться за меня, грешного. Сам-то как угодил сюда?
– Гонцом к князю мир снарядил. Засевать яровые нечем. Буду у Телятевского жита просить. Да вот застрял здесь. Повелели день отработать.
– Это тоже по указу ближнего царева боярина. Норовят через год крепость к Китай-городу подвести. Тут и замкнется каменное колечко. Тыщи людей здесь примерли. Зимой в город деревенских мужиков не пущают. В землянках живем-маемся. Шибко мерзнем. Хворь всех одолела. Ежедень божедомы усопших в Марьину рощу отвозят да в ледяную яму складывают, а в Семик хоронят. Вот житье-то наше… Ох и стосковался я по землице отчинной, по сохе-матушке. Хоть бы перед смертью по селу пройтись да на мужиков взглянуть, к старикам на погост наведаться. – Герасим смахнул со щеки слезу и продолжал. – Князь-то наш строг да прижимист. На Москве хлебушек дорогой. Мнится мне – откажет селянам князь…
Около часу сидели Иванка и Герасим возле речки. Старик пытливо выспрашивал о мужиках, родит ли земля, по скольку ден крестьяне на боярщину ходят, да велик ли оброк на князя дают, много ли страдников в бегах укрывается и кого бог к себе прибрал. Болотников не спеша рассказывал, а Герасим, вспоминая родное село, ронял слезы в жидкую седую бороденку и поминутно кашлял.
Возле Яузских ворот ударили в сигнальный колокол. Работные люди неторопливо потянулись к крепости.
– Ну прощевай, Иванка. Более не свидимся. Исаю от меня поклон передай, – с тихой грустью высказал Герасим.
К речке подъехал объезжий голова, гаркнул сердито:
– Подымайся, старик. Аль оглох!
Герасим просяще молвил:
– Уж ты прости меня, батюшка. Силушки нет, дозволь денька два отлежаться. В ногах ослаб, грудь разломило.
– Будя врать, козел паршивый. А ну, поднимайся! – прокричал Кирьяк и хлестнул старика нагайкой.
Болотников шагнул к обидчику.
– Пошто старого бьешь? Хворый он, вот-вот ноги протянет.
Кирьяк сошел с коня, недобро усмехнулся и больно полоснул Иванку нагайкой.
Болотников вспыхнул, гневно сверкнул глазами, подступил к Кирьяку, оторвал от земли и швырнул в речку.
Работные люди, проходившие мимо, остановились. Один из них зло высказал:
– Дорофей – зверь лютый. Десятки мужиков насмерть забил. Совсем утопить бы его, братцы. У-у, ирод!
К речке начали сбегаться земские ярыжки. Объезжий голова по самую грудь завяз в тине. С налитыми кровью глазами выбрался на берег и в бешеной злобе двинулся на дерзкого парня, вытянув из ножен саблю.
«Сам пропал и мирское дело загубил», – с горечью подумал Болотников.








