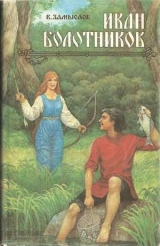
Текст книги "Иван Болотников"
Автор книги: Валерий Замыслов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 42 (всего у книги 47 страниц)
Глава 3 ЖЕНИХ ДА НЕВЕСТА
Запала в душу Васюты краса-девица, крепко запала! Ни дня, ни ночи не ведает сердце покоя. Тянет к Любавушке! Сам не свой ходит.
«И что это со мной? Без чарки хмелен. Сроду такого не было. Ужель бог суженой наградил?» – млел Васюта.
Обо всем забыл казак: о Парашке из Угожей, с которой два налетья миловался, о сенных воеводских девках из засечного городка, о татарке-полонянке, убежавшей с набегом ордынцев в степь. Будто их и не было, будто не ласкал горячо да не тешился.
«Любавушка! Лада ясноглазая… Желанная!» – стучало в затуманенной голове.
Только татары отхлынули, еще и в себя казаки не пришли, а Васюта уж подле соседского куреня. Улыбается каждому встречному да Любаву поджидает.
Глянул на него как-то Григорий Солома и головой покачал:
– Чумовой.
А Васюте хоть из пушки в ухо: ни людей не видит, ни речей не слышит.
– Чего стоишь-то? – подтолкнул казака Солома. – Или в сторожи нанялся?
– А че?
– Рожа у тебя глуподурая, вот че, – сказал есаул и, махнув на Васюту, шагнул в курень.
Выйдет Любава, Васюта и вовсе ошалеет. На что весел да говорлив, а тут будто и язык проглотил. Ступит к казачке, за руку возьмет и молча любуется. Любава же постоит чуток, рассмеется – и вновь в курень. Васюта – ни с места, глаза шалые, улыбка до ушей. Стоит, покуда с соседского базу не окликнут:
– Васька, дьявол! Аль оглох? Бери топор, айда на стены!
Васюта идет как во снях, как во снях и топором стучит. Казаки подшучивают:
– Никак спятил, донец.
– Вестимо, спятил!
– Не пьет, не ест, ни чары не примает.
– Худо, братцы, пропадем без Васьки. Придем в станицу, а рыбные тони указать некому. Беда!
А Васюта и ухом не ведет, знай себе улыбчиво тюкает; ему и невдогад, что казаки давно о его зазнобушке прознали. А чуть вечер падет, торопко бежит молодой казак к заветному куреню. Отсюда его и вовсе арканом не оттащишь: ждет-пождет, пока Любава не выйдет.
– Ну что ты все ходишь? – сердито молвит она.
А Васюта, положив ей ладони на плечи, жарко шепчет:
– Любушка ты моя ненаглядная. Побудь со мной… Люба ты мне, зоренька.
И вот уж Любава оттает, сердитого голоса как и не было. Прижмется к Васюте и сладко замрет на груди широкой. Полюбился ей казак, теперь из сердца не выкинешь. Да и как не полюбить такого добра молодца? И статен, и весел, и лицом красен, и на стенах храбро ратоборствовал. Всем казакам казак!
Уйдут под вербы и милуются. Васюта зацелует, за-голубит, а потом спрашивает:
– Пойдешь ли за меня?
– Не пойду, – отвечает Любава, а сама к парню тянется, к сладким устам льнет.
Вскоре не вытерпел Васюта и заявился в новую есаульскую избу. Григорий Солома вечерял с домашними за широким дубовым столом. Васюта перекрестил лоб на божницу, поясно поклонился хозяину и его семье.
– Здоровья вам!
– Здоров будь, Василий. Проходи, повечеряй с нами, – молвил Солома и кивнул Домне Власьевне, чтоб та поставила еще одну чашку. Любава же вспыхнула кумачом, очи потупила. Васюта оробело застыл у порога.
– Чего ж ты, казак? Аль снедь не по нраву?
Васюта грохнулся на колени.
– Не вечерять пришел, Григорий Матвеич… По делу я… Мне бы словечко молвить.
Солома оторопел: казак, видно, и впрямь свихнулся. Когда это было на Дону, чтоб казак перед казаком на колени падал!
– Ты чего в ногах валяешься, Василий? А ну встань! Негоже так.
– Не встану… Не огневайся, Григорий Матвеич… Отдай за меня дочь свою.
Солома поперхнулся, заплясала ложка у рта. Глянул на зардевшуюся Любаву, на жену и вдруг в сердцах брякнул ложкой о стол.
– Да ты что, парень, в своем уме?.. А ну прочь из избы! Прочь, гутарю!
Васюта понуро вышел на баз.
«Из дому выгнал! Не люб я ему… .Как же, из домовитых. Я же гол как сокол… Ну, да один черт, не будет по-твоему, Григорий Матвеич. Любаву на коня – ив степи!»
Побрел к вербам. Час просидел, другой, а когда закричали первые петухи, услышал за спиной тихий шаги. Оглянулся. Любава!
– Голубь ты мой!
Кинулась на грудь, обвила шею горячими руками.
– Все-то ждешь. А мне батюшка выйти не дозволил, в горницу отослал. Тайком вышла.
– Увезу тебя Любавушка. В Родниковскую станицу увезу!.. Ты погодь, за конем сбегаю. Я скоро, Любушка! – Васюта метнулся было к Федькиному базу, но его удержала Любава.
– Да постой же, непутевый!.. Батюшка, может, тебе и не откажет. Строг он, старых обычаев держится. Он хоть и казак, но по-казачьи дела вершить не любит. Ты бы прежде сватов заслал.
– Сватов?.. А не выставит за порог? У меня ни кола, ни двора. Батюшка же твой к богатеям тянется.
– И вовсе не тянется. Просто неурядливо жить не хочет. Уж ты поверь мне, Васенька. Зашли сватов.
– Ладно, зашлю, – хмуро проронил Васюта. – Но коль откажет – выкраду тебя. Так и знай!
Первым делом Васюта заявил о своем намерении Болотникову. Тот в ответ рассмеялся:
– Да ты холостым-то, кажись, и не хаживал. А как же ясырка твоя? Давно ли с ней распрощался?
– Ясырка ясыркой. То нехристь для забавы, а тут своя, донская казачка. И такая, брат, что не в сказке сказать…
– Ужель Любава тебя присушила? А я-то думал, вовек не быть тебе оженком, – продолжал посмеиваться Болотников.
– Все, Иван, отгулял. Милей и краше не сыскать… Да вот как на то Солома глянет? Казак он собинный. Вечор меня из дому выгнал. Ложкой об стол… Ты бы помог мне, Иван.
– Солома – казак серьезный.
Болотников, перестав улыбаться, искоса, пытливо посмотрел на Васюту.
– Давно ведаю тебя, друже. Славный ты казак, в товариществе крепок, да вот больно на девок падок. Побалуешься с Любавой и на другую потянет. А казачка она добрая. Как же мне потом с Соломой встречаться?
– Да когда ж я тебя подводил! – вскричал Васюта и, распахнув драный зипун, сорвал с груди серебряный нательный крест. – Христом-богом клянусь и всеми святыми, что до смертного часа с Любавой буду!
– Ну, гляди, друже. Будь своему слову верен… Дойду до Соломы, но коль откажет – не взыщи. Я не царь и не бог, тут, брат, дело прлюбовное.
С раздорским есаулом родниковский атаман покалякал в тот же день. Повстречал его у Войсковой избы.
– Ваську Шестака ведаешь? – без обиняков приступил к разговору Болотников.
– Как не ведать, – хмыкнул Солома. – Он что у тебя совсем рехнулся? На стенах, кажись, без дуринки был.
– Кровь в казаке гуляет, вот и ходит сам не свой. Любава твоя дюже поглянулась, жениться надумал.
Солома насупился, над переносицей залегла глубокая складка, глаза построжели.
– О том и гутарить не хочу. Одна у меня Любава. Нешто отдам за Ваську дите малое?
– Видали мы это дите. Не Любава ли лихо ордынца била?
– Все били – и стар, и мал.
– Вестимо, но Любаву твою особо приметили. А ты – «дите».
– Рано ей замуж, – еще более нахохлился Григорий Солома.
Любил он дочь, пуще жизни любил. Сколь годов тешил да по-отечески пестовал! Сколь от беды и дурного глаза оберегал! Души в Любаве не чаял, был ей отцом, и заступником, и добрым наставником. Часто говаривал:
– Ты, дочка, на Дону живешь. А житье наше лихое, казачье. Сверху бояре жмут, с боков – ногаи и турки, а снизу татаре подпирают. Куда ни ступи – всюду вражья сабля да пуля. Вот и оберегаю тебя от лиха.
– А ты б, батюшка, к коню меня прилучил да к пистолю. Какая ж из меня казачка, коль в избе сидеть буду, – отвечала отцу Любава.
– Вестимо, дочка, та не казачка, что к коню не прилучена, – молвил Григорий Солома и как-то выехал од-вуконь с Любавой за крепость. Через неделю она вихрем скакала по ковыльной степи. Озорная, веселая, кричала отцу:
– Славно-то как, тятенька! Ох, как славно!
Научил Григорий дочь и аркан метать, и стрелу пускать, и пистолем владеть. Наблюдая за Любавой, довольно поглаживал каштановую бороду.
– Хлопцем бы тебе родиться. Да храни тебя бог!
Хранил, оберегал, лелеял.
И вот как снег на голову – ввалился молодой казак в избу и бухнул: «Отдай за меня Любаву!» Это богоданную-то дочь увести из родительского дома? Ишь чего замыслил, вражий сын!
– Не пора ей, Болотников, ты уж не обессудь, – стоял на своем Солома.
Болотников глянул на есаула и по-доброму улыбнулся.
– Ведаю твое горе. Дочку жаль. Да ведь не в полон отдавать, а замуж. Как ни тяни, как в дому ни удерживай, но девке все едино под венец идти. Самая пора, Григорий. Любаве твоей восемнадцать минуло. Не до перестарок же ей сидеть.
– Любаве и дома хорошо, – буркнул Солома.
Гутарили долго, но так ни к чему и не пришли. Солома
уперся – ни в хомут, ни из хомута. Знай свое гнет: не пора девке, да и все тут!
– Худо твое дело, Васюта, – молвил Шестаку Болотников. – Солому и в три дубины не проймешь.
Васюта и вовсе пригорюнился. Черная думка покоя не дает: «Не по душе я домовитому казаку. Отдаст ли Солома за голутвенного… Так все едино по ему не быть. Увезу Любаву, как есть увезу! Пущай потом локти кусает».
А Солома не спал всю ночь. Кряхтел, ворочался на лавке, вздыхал. Всяко прикидывал, но ни на чем так и не остановился. Утром глянул на Любаву, а та бродит как потерянная, невеселая, аж с лица спала.
– Что с тобой, дочь? Аль неможется?
– Худо мне, тятенька, – со слезами ответила Любава и замолчала.
– Отчего ж худо тебе? Не таись.
– Ты Василия прогнал… Люб он мне.
– Люб? Ужель чужой казак милее отца-матери?
– И вы мне любы, век за вас буду молиться. Но без Василия мне жизнь не мила. Он суженый мой.
Пала перед отцом Любава на колени, руками обвила.
– Пожалей, тятенька! Не загуби счастье мое. Отдай за Васеньку, Христом тебя прошу!
Никогда еще Солома не видел такой дочь; глаза ее умоляли, просили участия и сострадания. И Солома не выдержал: украдкой смахнул слезу, протяжно крякнул и, весь обмякнув, поднял дочь с коленей.
– Люб, гутаришь, Васька?
– Люб, тятенька. Уж так люб! Благослови.
Григорий, глянул на Любаву, тяжко вздохнул и молвил печально:
– Я твоему счастью, не враг, дочь… Ступай за Василия. Кличь мать.
Глава 4 СВАДЬБА
И начались хлопоты!
Первым делом выбрали сваху и свата. О свахе долго не толковали: ею согласилась быть Агата. А вот на свате запнулись. Выкликали одного, другого, третьего, но все оказались в этом деле неумехи.
– Тут дело сурьезное, – покручивая седой ус, важно гутарил дед Гаруня. – Надо, чтоб и хозяевам был слюбен, и чтоб дело разумел, и чтоб язык был как помело.
– Да есть такой! – воскликнул Нечайка Бобыль. – Тут и кумекать неча. Устимушка наш. Устимушка Секира!
– Секира? – вскинув брови, вопросил Гаруня.
– Секира? – вопросили казаки.
И все примолкли. Устим с отрешенным видом набивал табаком трубку. Дед Гаруня, продолжал крутить ус оценивающе глянул на Секиру и проронил:
– А что, дети, Устимко – хлопец гарный. Пусть идет к Соломе.
– Как бы лишнего чего не брякнул. Солома могет и завернуть экого свата, – усомнился казак Степан Нетяга.
– А то мы Секиру спытаем. Не наплетешь лишку, Устимко?
Секира раскурил от огнива трубку, глубоко затянулся и, выпустив из ноздрей целое облако едкого дыма, изрек:
– Не пойду сватом.
– Як же так? – подивился Гаруня. – То немалая честь от воинства.
– Ступай, Устимка, раз казаки гутарят, – произнес Мирон Нагиба.
– Не пойду, коль мне доверья нет, – артачился Секира.
– Тьфу, дате неразумное! – сплюнул Гаруня. – Да кто ж то гутарил? Я того не слышал. А вы слышали, дети?
– Не слышали! – хором закричали казаки.
– Добрый сват Секира!
– Любо!
Гаруня поднял над трухменкой желтый прокуренный палец.
– Во! Чуешь, Устимко, как в тебя хлопцы верят?
– Чую, дедко! – рассмеялся Секира, и лицо его приняло обычное плутоватое выражение. – Пойду свашить. Да вот токмо наряд у меня небоярский.
Вид у казака был и в самом деле неважнецкий. Не кафтан – рубище, шапка – отрепье, сапоги развалились.
– Ниче, – спокойно молвил Гаруня. – Обрядим. А ну, хлопцы, беги по Раздорам. Одолжите у домовитых наряд. Прибоярим Устимку!
И прибоярили! Часу не прошло, как стал казак хоть куда. Нашли для Секиры голубой суконный кафтан, расшитый золотыми узорами, новехонькую шапку, отороченную лисьим мехом, белые сапожки из юфти с серебряными подковами.
Но еще краше вышла к казакам Агата. Была она в багряной атласной шубке с круглым горностаевым воротом, в кокошнике из золотой ткани, богато расшитом мелким жемчугом. Статная, чернобровая, белолицая – глаз не отвести! Глянула лучистыми глазами на Болотникова, улыбнулась радостно. А Болотников будто только теперь увидел ее необычно яркую красоту, влажный блеск ласковых глаз, и какая-то смутная тревога пала на сердце.
«Славная же у Федьки женка», – невольно подумалось ему.
Осенив крестом свата и сваху, дед Гаруня повелел им шествовать к Соломе, но Секира вдруг почему-то повернул вспять.
– Ох, недобрая примета. Расстроит нам свадьбу Ус-тимко! – досадливо махнул рукой Гаруня. – Ты чего, хлопчик?
– Кочергу с помелом забыл. Без того свашить не ходят, – отвечал Секира.
– Гарно, хлопец! – одобрил Гаруня. – Слышал о таком деле.
Вновь пошли: Агата – с хлебом-солью, Секира – с помелом да кочергой наперевес.
Григорий Матвеич свахой остался доволен: Агата всегда была ему по душе. А вот Секиру принял с прохладцей.
«Баюн и бадяжник 200 200
Бадяжник – шут, затейник, весельчак.
[Закрыть]. Ужель другого казака не сыскали?» – с недовольством подумал он.
Однако сват оказался настолько почтительным, настолько степенно и толково свашил, что Григорий Матвеич начал помаленьку оттаивать. Понравились ему и кочерга с помелом, и хлеб-соль, и на диво обстоятельный разговор. Все-то вел Устим по чину да по обычаю, нигде палку не перегнул, нигде лишнего слова не вывернул. Будто век в сватах ходил. И Агата постаралась. Голос ее, нежный, да ласковый, умилил й Григория Матвеича, и Домну Власьевну.
Когда хозяева отведали хлеба-соли, Секира облегченно вздохнул: дело к согласию.
– г Хлеб-соль принимаем, а вас под образа сажаем, – молвил по обычаю Григорий Матвеич, легким поклоном указав свату и свахе на красный угол.
Тут Секира и вовсе возрадовался, да и Агата заулыбалась. Трижды земно поклонились они хозяевам и чинно пересели под образа. Домна же Власьевна горько и безутешно заплакала, но Григорий Матвеич прикрикнул:
– Буде, мать!
Домна Власьевна умолкла: была она тиха и покорна, но до конца уже сидела в затуге великой. Тяжко ей было Любавушку в чужие руки отдавать: тяжко было и Григорию Матвеичу, но тот все крепился, и чтоб не тянуть больше разговор и не травить душу, молвил:
– Противу божьей воли грешно идти… Подавай, мать, рядную грамотку.
Поднялась Домна Власьевна, малый столбец из-за божницы вынула, поднесла мужу с поклоном. Тот принял, усадил жену обок.
– Любава у нас не сиротой росла. Приданое припасли. Что бог дал, то и купцу-молодцу жалуем.
– Да купец и без приданого возьмет! – забыв про обычай, весело вскричал Секира.
Григорий Матвеич нахмурился.
– Не нами заведено, сваток, не нам и заповедь рушить. Мы, чать, с матерью не нищеброды.
Солома придвинулся с рядной к оконцу и начал не спеша вычитывать приданое. И казакам и жениху «по тому приданому» невеста «полюбилась». Теперь дело было за смотринами. Долго судили да рядили, кого выбрать в смотрилыцицы, и наконец остановились на бабе казака Степана Нетяги.
– Женка Настасья видная, дородная, и разумом господь не обидел. Пусть идет к невесте, – постановили донцы.
Но больше всего споров выпало о «родне и гостях», которые должны были сопровождать Настасью. Родни у жениха не оказалось, а вот в «гости» набивалась, почитай, вся станица. Знали: будет у Соломы угощение с чарой. Поднялся такой галдеж, что аж у Войсковой избы стало слышно. Прибежал казак от атамана Васильева.
– Что за свара?
Казаки не отвечали и продолжали перебранку. С трудом поняв, в чем дело, «посол» захохотал и вернулся к Васильеву.
Пришлось унимать казаков Болотникову.
– Тихо, други! Как бы мы ни кричали, как бы мы ни бранились, но всей станице в избу Соломы не влезть. Да такое и на Руси не водится. На смотрины ходят малым числом. А посему пойдет невесту глядеть десяток донцов. И чтоб боле спору не было – кинем жребий. Любо ли?
– Любо, батько!
Вскоре десять счастливцев, вкупе со сватом, свахой и смотрилыцицей направились к невесте. Их никто не встречал: на смотринах хозяева из избы не выходили, однако для гостей стол накрывали. Вошедшие, перекрестив лбы, поклонились хозяевам и, по слову Григория Матвеича и Домны Власьевны, уселись на лавки. Перемолвившись несколькими обрядными словами, Настасья произнесла напевно:
– О купце-молодце вы наслышаны. Охота бы нам теперь куницу-девицу глянуть.
– Можно и глянуть, – кивнул Григорий Матвеич.
Любава вышла в голубом, расшитом шелками, сарафане, в легких чеботах красного бархата, тяжелую русую косу украшали жемчужные нити. Смущенно зардевшись, глянула на казаков и низко поклонилась, коснувшись ладонью пола.
Казаки довольно загутарили:
– Добра невеста! Гарная дивчина!
Но тут донцов оборвала строгая смотрилыцица:
– С лица не воду пить. А ну-ка, голубушка, пройдись да покажи свою стать.
Любава еще больше застеснялась, застыла будто вкопанная. Нечайка Бобыль, оказавшийся рядом с Настасьей, заступился:
– Да полно девку смущать. Не хрома она и не кривобока. Чать, видели, нет в ней порчи.
– Цыц! – прикрикнул на дружка сват Секира. – Не встревай, коль обычая не ведаешь. Пройдись, Любава.
И Любава прошлась тихой поступью. Гибкая, рослая, с высокой грудью, глаза васильковые. Царь-девка!
– И-эх! – сладко вздохнул Нечайка.
Настасья же сидела с застывшим каменным лицом, а потом молвила:
– Не хвались телом, а хвались делом. Красой сыт не будешь. Пекла ли ныне пироги, девка?
– Пекла, Настасья Карповна. Пирог на столе.
Настасья придирчиво оглядела пирог, понюхала и разрезала на малые куски.
– Откушайте, гостюшки.
Гостюшки давно уже примеривались к румяному пирогу: почитай, и вовсе забыли запах пряженого. А пирог был на славу: из пшеничной муки, жаренный в масле, с начинкой из курицы. Ели, похваливали да пальцы облизывали. Настасья же пирога отведала самую малость.
– Сама ли пекла, девка? Не матушка ли Домна Власьевна тесто месила, да не она ли в печь ставила?
– Сама, Настасья Карповна.
– Ну, а коль сама, молви нам, что можно хозяйке из муки сготовить? – пытала девку Настасья.
– Всякое, Настасья Карповна. Первым делом, хлеб ржаной да пшеничный. Из муки крупитчатой выпеку калачи, из толченой – калачи братские, из пшеничной да ржаной – калачи смесные. Напеку пирогов, Настасья Карповна, подовых из квасного теста да пряженых. Начиню их говядиной с луком, творогом да с яйцами…
– Так-так, девка. А сумеешь ли мазуньей казака накормить?
– Сумею, Настасья Карповна! Тонехонько нарежу редьки, надену ломтики на спицы и в печи высушу. Потом толочь зачну, просею через сито и патоки добавлю, перчику да гвоздики. И все это в горшок да в печь!
– Любо! – закричали гостюшки, поглядывая на сулею с горилкой, к которой еще не приступали: за главного козыря была смотрилыцица, и только после ее сигнала можно было пропустить по чарочке. Но та знай невесту тормошит:
– И как муку сеять и замесить тесто в квашне, как хлеб валять и печь, как варить и готовить всяку еду мясную и рыбную ты, девка, ведаешь… Да вот по дому уряд-лива ли? Не срамно ли будет к тебе в избу войти?
– Не срамно, Настасья Карповна. Все вымою, вымету, и выскребу. В грязное погодье у нижнего крыльца сено или солому переменю, у дверей же чистую рогожинку или войлок положу. Грязное же прополоскаю и высушу. И все-то у меня будет чинно да пригоже, чтоб казак мой как в светлый рай приходил.
– Любо! – вновь крикнули донцы, и все глянули на смотрилыцицу: хватит-де невесту мучать, Настасья. Не девка – клад!
Сдалась смотрилыцица.
– Доброй женой будешь князю Василию. За то и чару поднять не грех, казаки.
И подняли!
После малого застолья довольные сват, сваха и гости пошли к жениху. Григорий же Матвеич, оставшись с дочерью, умиротворенно промолвил:
– Ну, мать, теперь готовь свадебку.
– Да, поди, допрежь сговор, отец. С чего ты вдруг заторопился?
Поспешить со свадьбой упросил есаула Болотников: родниковцы надумали идти в поход, да помешала Васютина женитьба.
– Велишь обождать две недели. Долго-то, Григорий, засиделись мы в Раздорах. От всей станицы просьба великая – не тяни со свадьбой!
Соломе были хоть и не по сердцу такие речи, но на сей раз он не очень упирался. Понимал: как ни тяни, как ни удерживай, а дочь выдавать придется. Да и станица просит.
– Ладно, Болотников, поспешу. Но свадьбу буду играть по стародавнему обычаю. Потешу Любаву в последний раз. Но для того помощь нужна, Иван. Для свадьбы много всего надо. А прежде всего – хлеба да вина. Без пирогов и чарки за столы не сядешь.
– Раздобудем, – твердо пообещал Болотников.
В тот же день сотня родниковцев выехала в степь. Повел ее Мирон Нагиба. Два дня пропадали донцы и наконец веселые, крикливые, опьяненные вылазкой и степью, прибыли в Раздоры.
– Повезло, батько! В степи с купцами заморскими столкнулись. Из Казани шли. Пришлось тряхнуть купчишек. Глянь, какой обоз захватили.
Болотников глянул и похвалил казаков:
– Удачен набег. Есть чем молодых поздравить.
Посаженным отцом Васюты согласился быть дед Гаруня, а посаженной матерью – Настасья Карповна. Правда, по обычаю смотрилыцицы не ходили в посаженных, но лучшей «матери» казаки не сыскали. Тысяцким донцы выкликнули Федьку Берсеня, а меньшими дружками – Нечайку Бобыля да оправившихся от ран Юрко и Деню. Наиболее степенные казаки были выбраны в «сидячие бояре». Молодые же угодили в «свечники» и «каравайни-ки». Ясельничим, по воле родниковского круга, стал есаул Мирон Нагиба. Он должен был оберегать свадьбу от всякого лиха и чародейства.
А в доме Григория Соломы хлопотали пуще прежнего. Досужие казачки, пришедшие к Домне Власьевне на помощь, выметали, скребли, мыли и обряжали избы, варили, жарили, парили и пекли снедь, готовили на столы пиво, меды, вина.
Вскоре пришел час и девичника. Любава, собрав подружек, прощалась с порой девичьей. Закрыв лицо платком, пригорюнившись, пела печальные песни. Глянув на мать, запричитала:
– Матушка, родимая! Чем же не мила тебе стала, чем же душеньке твоей не угодила? Иль я не услужлива была, иль не работница? Аль я сосновый пол протопала, дубовы лавки просидела?..
Домна Власьевна всхлипывала да молчала. Девки же, расплетая Любавину косу, приговаривали:
– Не наплачешься за столом, так наревешься за муженьком. Погорюй, погорюй, подруженька.
– Уж не я ли пряла, уж не я ли вышивала? Не отдавай, матушка, мое дело-рукодельице чужим людям на пору га ньице, – еще пуще залилась слезами Любава.
– Пореви, пореви, подруженька. Пореви, краса-девица. День плакать, а век радоваться, – говорили девки, распуская невестины волосы по плечам.
В сенцах вдруг послышался шум; распахнулась дверь, и в светлицу вступил добрый молодец, принаряженный малый дружка Нечайка Бобыль. Поклонился Домне Власьевне, поклонился Любаве, поклонился девкам и молвил:
– Молодой князь Василь Петрович кланяется молодой княгине Любаве Григорьевне и шлет ей дар.
Любава поднялась с лавки, поклонилась дружке и приняла от него шапку на бобровом меху, сапожки красные с узорами да ларец темно-зеленый. Шапка да сапожки Любаве понравились, однако и виду не подала, продолжая кручиниться.
– А что же в ларце, подруженька? – спросили девки.
– Ох, не гляжу, не ведаю. Не надо мне ни злата, ни серебра, ни князя молодого, – протяжно завела Любава.
– Открой, открой, подруженька! – закричали девки.
Любаве же самой любопытно. Подняла крышку и принялась выкладывать на стол украшения: перстни, серьги, ожерелье… Девки любовались и ахали:
– Ай да перстенек, ай да сережки!
Но вот девки примолкли: Любава вытянула из ларца тонкую, гибкую розгу.
– А это пошто?.. – осердилась Любава и обернулась на застывшего у дверей Нечайку.
Дружка ухмыльнулся и важно, расправив богатырскую грудь, пробасил:
– А это, княгинюшка, тебя потчевать.
– Меня?.. За какие же грехи?
– За всяки, княгинюшка. Особливо, коль ленива будешь да нравом строптива.
– Не пойду за князя! – притопнула ногой Любава. – Не пойду! Так и передай Ваське, – забывшись, не по обряду добавила она.
Но Домна Власьевна тотчас поправила:
– Уж так богом заведено, Любавушка. Муж жене – отец, муж – голова, жена – душа. Принимай розгу с поклоном.
– Уж коль так заведено, – вздохнула Любава и отвесила дружке земной поклон. – Мил мне подарок князя.
Чуть погодя наряженную Любаву, под покрывалом, повели под руки из светелки в белую избу и усадили на возвышение перед столом, накрытым тремя скатертями. Подле уселись Григорий Матвеич и Домна Власьевна, за ними – сваха, «сидячие боярыни», каравайники, свечники «княгинины» подружки.
Поднялась сваха, молвила:
– Ступай к жениху, дружка. Пора ему ехать за невестой.
Дружка тотчас поспешил к «князю». Тот ждал его в своем курене. Посаженный отец Гаруня и посаженная мать Настасья Карповна, с иконами в руках, благословили жениха и повелели ему идти к невесте. У «княгининых» ворот пришлось остановиться: они были накрепко заперты.
– Пропустите князя ко княгинюшке! – закричал набольший дружка Болотников.
– Уж больно тароваты! – закричали за воротами девки. – Много ли вас да умны ли вы?
– Много, молодец к молодцу. И умны!
– Ах, хвастаешь, дружка! Возьмем и узнаем, в разуме ли ты. Ну-ка разгадай: стоит старец, крошит тюрю в ста-венец.
Первую загадку дружка угадал легко:
– Светец да лучина, девки!
– Вестимо… А вот еще: родился на кружале, рос, вертелся, живучи парился, живучи жарился: помер – выкинули в поле; там ни зверь не ест, ни птица не клюет.
Над второй загадкой дружка призадумался. Минуту думал, другую и наконец молвил:
– Горшок, девки!
– Вестимо… А ну-ка последнюю: сивая кобыла по торгу ходила, по дворам бродила, к нам пришла, по рукам пошла.
Над третьей загадкой дружка и вовсе задумался. А девки стоят за воротами да посмеиваются:
– Как в лесу тетери все чухари, так наши поезжане все дураки.
Повернулся дружка к поезду: авось кто и разгадает; но поезжане носы повесили. Мудрена загадка! Так бы и довелось дружке срам принять, да тут сваток выручил; молча соединил он руки кольцом и затряс из стороны в сторону.
– Сито, девки!
Девки перестали насмехаться, выдернули засов, распахнули настежь ворота. Поезжане прошествовали к белой избе. Свахи обменялись пряником и пивом, а набольший дружка поднес «княгине» одежду.
– Что говорено, то и привезено.
Жених с поклоном ступил к свахе, сидевшей рядом с невестой.
– Прими злат ковш, сваха, а место опростай!
– Ишь ты, – улыбнулась сваха. – Уж больно ты проворен, князь. У меня место не ковшевое, а столбовое.
Жених вновь повторил свою просьбу, но тут ему ответил один из невестиных дружек:
– Торгуем не атласом, не бархатом, а девичьей красой.
– Славно, дружка! Сказывай, сколь стоит девичья краса? Не поскуплюсь!
– Куницу, лисицу, золотую гривну да ковш вина! – хором закричали дружки, каравайники, свечники и «сидячие боярыни».
– Для такой красы ничего не жаль. А ну, дружки, одари княгиню! – весело прокричал «князь».
И одарили!
Сваха Агата уступила место жениху. Два казачонка протянули между новобрачными красную тафту, чтоб прежде времени друг друга не касались. На стол же подали первое яство. Батюшка Никодим начал молитву, а Григорий Матвеич и Домна Власьевна благословили чесать и «укручивать» невесту.
Сваха Агата заплела невестины волосы в косы, перевив их для счастья пеньковыми прядями. Молвила строго да торжественно:
– Кику княгине!
Кику подали «сидячие боярыни». Сваха приняла и надела ее на голову невесты.
А за столами становилось все гомонней. Посаженный отец Гаруня похваливал молодых да все чаще и чаще прикладывался к чарке.
– Гарная у тебя будет жинка, князь. Живи да радуй-с я. Мне б твои лета. Лихой я был парубок, ох, лихой!
Васюта и снеди не пробовал, и к чарке не прикасался, и в разговоры не вступал: все это дозволялось лишь после венца. А теперь сиди молчком, поглядывай на гостей да красуйся.
– Да ты и теперь хоть куда! – подтолкнув деда, молвил сват Секира.
– Э, нет, хлопец, не тот стал Гаруня. Помни, Устим-ко: до тридцати лет греет жена, после тридцати – чарка вина, а после и печь не греет. От старости зелье – могила, – сокрушенно высказал Гаруня.
– Складно речешь, дед, – крутнул головой Секира. – Так-то уж никто тебя и не греет?
– Никто, хлопец.
– А чего ж чару тянешь?
– А як же без чары, хлопец? – подивился дед. – Чара – последняя утеха. Один бес, помирать скоро.
– Вестимо, дед. Помирать – не лапти ковырять: лег под образа да выпучил глаза, и дело с концом. Помирай, дедко!
– Цыц, собачий сын! – осерчал Гаруня. – Я ишо тебя переживу, абатура! Не тягаться тебе со мной ни вином, ни саблей. Башку смахну – и глазом не моргнешь. Айда на баз, вражина!
Секира захохотал, крепко обнял деда.
– Вот то казак, вот то Муромец! Люб ты нам, дедко. Так ли, застолица?
– Люб! – закричали казаки.
Гаруня крякнул и вновь потянулся к чаре.
Как только подали на стол третье яство, сваха Агата ступила к родителям невесты.
– Благословите, Григорий Матвеич да Домна Власьевна, молодых вести к венцу.
Застолица поднялась. Григорий Матвеич и Домна Власьевна благословили молодых иконами и, разменяв «князя» и «княгиню» кольцами, молвили:
– Дай бог с кем венчаться, с тем и кончаться.
У крыльца белой избы стояли наготове свадебная повозка и оседланные кони. Повозка нарядно убрана, дуга украшена лисьими и волчьими хвостами, колокольцами и лентами. Невеста и свахи уселись в повозку, а жених, его дружки и отец Никодим взобрались на верховых лошадей. Они поехали в храм впереди «княгини». Никодим ехал и сетовал:
– Сказывал: храм надобен. Не послушали, святотатцы, стены рубить кинулись. А где ж я буду молодых венчать? Экой грех, прости, господи!
– Не горюй, отче. У себя в дому обвенчаешь, – успокаивал батюшку Болотников.
– Да то ж не храм, сыне! Ни врат, ни алтаря, ни аналоя! Нет в дому благолепия. Срамно мне молодых венчать, неслюбно им будет.
– Это им-то неслюбно? Да они в чистом поле рады повенчаться. Не горюй, отче! – весело произнес Болотников.
Ясельничий Нагиба стоял у «храма» и сторожил, чтоб никто не перешел дороги меж конем жениха и повозкой невесты. А батюшка уже был в своей избе, уставленной свечами и иконами. Глянул на венчальное подножие и аналой, сделанные наспех, вздохнул и застыл в ожидании у «врат».
Любава, в сопровождении свах, вышла из повозки и, по-прежнему закрытая покрывалом, направилась к «храму».
– Про замок не забудь, – тихонько подсказала сваха.
– Не забуду, Агатушка, – улыбнулась невеста.
Любава подошла к «вратам», опустилась на колени и
принялась грызть зубами «церковный» замок. Молвила обычаем:
– Мне беременеть, тебе прихоти носить.
Свадебные гости принялись кидать под венчальное
подножие гроши и полушки.
– Быть молодым богатыми! Жить полной чашей. Жить не тужить!
Отец Никодим приступил к обряду венчания. «Сидячие боярыни» набожно крестились и глаз не спускали с молодых. Под венцом стоять – дело собинное, чуть оплошал – и счастья не видать. Обронил под венцом обручальное кольцо – не к доброму житью; свеча затухнет – скорая смерть. А кто под венцом свечу выше держит, за тем и большина.








