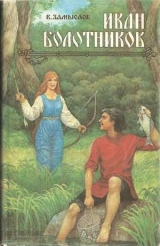
Текст книги "Иван Болотников"
Автор книги: Валерий Замыслов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 35 (всего у книги 47 страниц)
Глава 5 АГАТА
К вечеру изрядно захмелели; сидели в обнимку и горланили песни. А потом Федька позвал парней в светлицу.
– К девкам, други! Разговеемся!
В светлице девки сидели за прялками; увидев воеводу, встали и поясно поклонились.
– Киньте прялки! Гулять будем! – гаркнул Берсень.
В одной руке его кувшин, в другой – серебряная чарка.
Девки потупились, будто к полу приросли. Лишь одна из них, статная и синеглазая, смотрела на воеводу спокойно и без всякой робости.
Федька налил вина в чарку и поднес крайней девке.
– Жалую тебя, Фекла!
Девка вновь поклонилась, чарку приняла, но не пригубила, замешкалась: уж больно дело-то диковинное, в кои-то веки боярин холопке вино подносил.
– Пей! – прикрикнул Федька.
Девка не ослушалась, осушила чарку и заморщилась, замахала рукой.
– Крепко зеленое. Ниче… А ну целуй ее в уста, Васька! Это вместо закуси. Целуй! – захохотал Федька.
Васюта тут как тут. Облапил ядреную девку, крепко поцеловал. А Берсень ступил дальше, к статной и синеглазой.
– Жалую, Агата!
Но Агата чарки не приняла.
– Спасибо за честь, воевода. Однако ж прости, не пью я.
– Не пьешь?.. Так одну чарку, ладушка. Не откажи.
– Богу зарок дала, воевода. Не неволь и не гневайся, – с легким поклоном молвила Агата.
– Так и не будешь? – пьяно качнулся Федька.
– Не буду, воевода, – тихо, но твердо сказала Агата.
Федьке упрямство девки не понравилось, в темных глазах его полыхнул огонь.
– Не будешь? Это мне-то перечить? Кинь гордыню, Агата, силом заставлю. А ну-ка, Иван, помоги ей выпить!
Болотников глянул на девку, та стояла отчужденная и неприступная; большие синие глаза были холодны. Тяжелая русая коса легла на высокую грудь.
«Будто Василиса моя», – невольно подумалось Ивану.
– Чего ж ты, друже? – подтолкнул Федька.
– Оставь ее, воевода. Зачем же силком?
Агата благодарно глянула на Болотникова, но к ней тотчас подскочил Васюта, полез целоваться.
– Приголублю тебя, молодушка.
Иван оттолкнул Шестака от девки, но тот опять полез. Тогда почему-то обозлился Федька.
– Прочь! Убью, Васька!
Отшвырнул Шестака к стене, опустил тяжелую руку на турецкий пистоль.
– Порешу за Агату… То лада моя. Крепко запомни, Васька.
– Ошалел, воевода, – потирая ушибленный затылок, незлобиво вымолвил Васюта. – Твоя так твоя. Для меня ж и Феклуша в утеху. Так ли, любушка?
Подошел к девке, ущипнул за крутой зад. Фекла хихикнула, игриво блеснула влажными глазами.
– Грешно, батюшка.
– Без греха веку не изживешь, без стыда рожи не износишь, Феклушка. Где грех, там и сладость, – вывернул Васюта и потянул девку в темные сени.
Болотников молчаливо пошатывался возле прялки; голова была тяжелой, плясали трепетные огоньки свечей в затуманенных глазах.
– Прилягу я, воевода.
– Почивай, Иван… Палашка! Проводи молодого князя в покои.
– Провожу, батюшка-воевода, – охотно кивнула девка и шагцула следом за Болотниковым.
Федька тяжело плюхнулся на лавку, повел мутными очами по светлице. Девки все еще стояли, ожидая воеводского слова.
– И вы почивайте. Ступайте в подклет… А ты побудь здесь, Агатушка, побудь, голубица.
Девки вышли, и в светлице стало тихо. Слышалась лишь веселая возня из сеней, где миловался с Феклой Васюта.
Берсень поднял хмельную голову. Агата, опустив руки, стояла, все так же спокойно и отрешенно посматривая на Федьку.
Берсень протянул к ней руку, усадил подле себя.
– Когда ласкова ко мне будешь, Агатушка?
– Не ведаю, воевода.
– Аль что худое тебе содеял?
– Нет, воевода. До самой смерти за тебя буду молиться, что от злых басурман вызволил. Мыкать бы мне горе на чужой сторонушке.
– Мыкать, Агатушка. Надругались бы над тобой поганые, ох, надругались. Вон ты какая ладная… Хочешь, златом, серебром тебя одарю?
– Ничего мне не надобно, воевода, – с грустью молвила Агата. – Отпустил бы ты меня из терема. В родную отчину к матушке хочу.
– К матушке ли? – насупился Федька. – А, может, к суженому? Не он ли тебе сердце иссушил?
– Нет у меня суженого, воевода. По матушке соскучилась, по подружкам веселым да игрищам. Тут же скучно у тебя, воевода. Кручина меня гнет. Отпусти!
– Кручина гнет? – поднялся с лавки Федька. – Да я тебя враз развеселю! Девок-песенниц соберу, скоморохов кликну. Прикажи, Агатушка!
– Мне ли, крестьянской девке, боярину приказывать, – улыбнулась краешками губ Агата.
– Боярину? Да кой я боярин, – рассмеялся Федька, но тотчас опомнился, согнал ухмылку с лица. – Воевода я, Агата. Над крепостью и ратниками государем поставлен.
Придвинулся к Агате, положил руки на плечи, заглянул в глаза.
– Аль не мил я тебе, лебедушка?
Агата очей не опустила, глаза ее были пристальны.
– Сильный ты и отважный. Зрела, как басурман мечом разил. А вот каков ты душой – не ведаю.
– А ты полюби и поведаешь. Не так уж и плох я, Агатушка. Народ в крепости мною доволен. Жалую я простолюдина, а приказных мздоимцев кнутом потчую. Аль не слышала?
– Наслышана, батюшка. Праведно воеводствуешь. Ратный люд к тебе льнет.
– Вот-вот. Одна лишь ты, Агатушка, меня сторонишься. А ты полюби, согрей душу мою.
Федька прижался к Агате, поцеловал в губы. Но та не ответила на ласку, отстранилась, встала под божницу.
– Не надо, воевода. Богом тебя прошу!
Федька тяжко вздохнул и молча вышел из светлицы.
…Перед святой Троицей мать послала Агату в соседнюю деревню Якимовку.
– Добеги, дочка, до сестрицы. Пущай к нам на Троицу придет.
– Добегу, матушка, покличу.
До Якимовки версты три. Дорога тянулась боярской пашней, по которой сновали мужики с лукошками. Страдники сеяли яровые.
В Якимовке Агата бывала часто: там жила ее родная тетка. Были в деревне и задушевные подружки, с которыми Агата гуляла не одно красное лето.
Вечером девки и парни собрались на околице; качались на качелях, вели хороводы. Вдруг от березового перелеска послышались пронзительные гортанные выкрики. Парни и девки примолкли, повернулись к зеленому перелеску.
– Татары! – испуганно ахнула Агата.
До Якимовки рукой подать, однако добежать не успели: татары молнией неслись на резвых длинногривых конях. Настигли у самых изб. Парни выхватили из плетня по орясине, но тотчас были зарублены острыми кривыми саблями. Девок же повязали ремнями.
С ветхой деревянной колокольни ударили в набат. С вилами и топорами выскочили мужики из изб, отчаянно преградили путь ордынцам. Но схватка была короткой: уж слишком много татар навалилось на деревню. Все мужики были перебиты, в избах остались лишь одни дряхлые старики и старухи, но и их не пощадили ордынцы.
Деревню разграбили, спалили, а девок повели в далекий полон. Агата, привязанная арканом к седлу, брела подле низкорослой лохматой лошади и горько думала:
«Беда-то какая, господи! Даже малых не пожалели. Жестокие люди! Ох, не зря ж говорят: нет злей и свирепей степного ордынца». Вот он сидит на лошади. Желтолицый, узкоглазый, с длинной жильной плетью в руке. Хищно скалит в кривой улыбке крепкие зубы, говорит татарину в лисьей шапке:
– Якши, девка. Якши!
– Тот кивает и что-то долго говорит, издавая резкие звуки. Потом спрыгивает с лошади и подходит к Агате. Губы слюнявые, глаза быстрые и похотливые.
– Якши.
Вскидывает за подбородок лицо Агаты, откровенно любуясь синевой больших глаз, а затем тянется жадной, липкой ладонью к высокой девичьей груди.
– Якши, ясырка! Якши!
Агата с силой отталкивает ордынца прочь. В ответ – злобный выкрик и хлесткий удар плетью по спине. Татарин взмахивает на лошадь и пускает ее легкой рысью. Агате приходится бежать, иначе аркан стискивает шею, а ордынец, ощерив рот, все понукает и понукает коня. Так продолжается до тех пор, пока вконец обессиленная Агата не падает в горький полынный бурьян.
Несколько дней гнали полонянок по знойной степи. Потрескались ступни босых ног, почернели от жаркого солнца осунувшиеся лица. Мучила жажда. Татары возвращались в Бахчисарай Муравским шляхом и берегли воду. Лишь раз в сутки они подводили ясырок к бурдюкам, по три-четыре глотка теплой протухшей воды еще больше увеличивали жажду.
Ордынцы спешили в Бахчисарай, там они получат отдых, чистую родниковую воду и деньги за русских полонянок. Набив карманы золотыми монетами, они вновь разъедутся по своим кочевьям, покуда какой-нибудь мурза, князек или сам хан не позовет их в новый набег.
На седьмой день, когда ордынцы остановились на ночлег в одном из скрытных урочищ, из-за холмов, внезапно скатились казаки в зипунах и кафтанах, с саблями, мечами и копьями наперевес. Натиск их был страшен, ни один ордынец не выбрался живым из урочища.
Полонянки со слезами радости кинулись к своим избавителям.
– Родные!.. Желанные! – заголосили девки, обнимая казаков.
Предводителем войска был Федька Берсень. Еще в самый разгар сечи заприметил он рослую синеокую полонянку. Та подхватила саблю убитого ордынца, перерезала аркан и той же саблей зарубила двух татар, наседавших на Берсеня.
– Ай да девка, ай да молодица! Так их, дьяволов! – весело кричал Федька, сокрушая очередного татарина.
Когда схватка кончилась, Берсень, раскрасневшийся и возбужденный, спрыгнул с коня, сбросил с головы шапку и порывисто шагнул к Агате.
– Люба ты мне!
Прижал к груди и крепко расцеловал. Агата потупилась. Один из казаков подтолкнул ее локтем.
– То воевода наш, Тимофей Егорыч. Кланяйся.
Агата поклонилась, отвесили поклон и остальные девки. Воевода довольно рассмеялся.
– Что, натерпелись страху? Теперь не бойтесь. На засеку вас заберу, на служилых женю. А кто захочет домой возвернуться, пусть идет с богом.
Вскоре прибыли в засечную крепость. Федька пригнал в город огромный табун татарских коней и тысячную отару овец, молвил:
– С конями и с мясом будем, служилые!
Воеводу и войско торжественно встретили оставшиеся в городе стрельцы, пушкари и казаки. Кидали вверх шапки, кричали:
– Слава воеводе! Слава Тимофею Егорычу!
Поход был удачен. Федька закатил большой пир. Приказал достать из воеводского погреба пять бочонков вина и меду хмельного. Служилые пили да воеводу похваливали:
– Добр и отважен Тимофей Егорыч.
Якимовские девки надумали остаться в городе. Да и
что делать? Деревня разорена, родители полегли под басурманскими саблями. Ждет на родной сторонушке один лишь черный пепел от сгоревших изб. А тут веселье, озорные молодцы проходу не дают, один другого краше.
Одна Агата не захотела остаться в крепости. Днем и ночью перед ее глазами были Малиновка с матушкой ласковой да подружками задушевными.
– Уйду я, девоньки. В Малиновку хочу.
– Осталась бы, – уговаривали девки. – В крепости нас приветили. И воевода жалует. А тебя особливо, глаз не сводит.
– Нет, подруженьки. Уйду я, – твердо решила Агата.
Собрала узелок, простилась с девками, горячо помолилась и пошла из крепости.
Воротные сторожа помехи не чинили: ведали воеводский указ – выпускать из крепосницы девок, ежели они того пожелают. Увидели Агату, головами покачали.
– Дй да краса-девица. Шла бы вспять.
Но Агата молча ступила мимо. Шла до сутеми по одинокой угрюмой дороге и тихо шептала молитву:
– Помоги, матерь божья, до родительского дома добраться. Порадей, пресвятая богородица и заступница наша…
Вскоре услышала позади дробный стук лошадиных копыт. Оглянулась – и отпрянула в сторону, прижавшись к ели.
Трое верховых осадили коней, спрыгнули наземь, подошли к Агате.
– Ты что, девка, умом рехнулась! Куды ж ты одна на ночь глядя? – закричал один из вершников.
– В Малиновку, люди добрые, – ответила Агата. – В деревеньку свою, к матушке.
«В деревеньку, к матушке», – передразнил наездник. – Да ведаешь ли ты, неразумная, где твоя деревенька?
– Как же не ведаю. Малиновка наша одна, – простодушно молвила Агата.
– Это на Руси-то? – хмыкнул вершник. – У меня, вон, свояк в Малиновке живет. Так то под Новгородом. А ты какова уезду?
– Елецкого, люди добрые. Там наша Малиновка.
Вершники рассмеялись.
– Учудила, девка! До Ельца, поди, полтыщи верст. Да и дорог ты не ведаешь. Туды и на коне лихо. Разбой кругом да татары рыщут. Куды ж ты, шалобродная! Чу, ночь наступает. Лес дремуч, тут лешак на лешаке. Тьфу, пронеси силу окаянную!
Вершник, пожилой крутоплечий мужик в багряном кафтане, истово перекрестился и, придерживая коня за повод, добавил:
– Не дело удумала девка. Не дойти те до Ельца…
Вершник вдруг поперхнулся, захлопал глазами и застыл с открытым ртом.
– Глянь, робята, – тихо выдавил он. – Глянь на дорогу.
Впереди, саженях в десяти, поднялся на задние лапы огромный, в бурой шерсти медведь.
Служилые оробели, а медведь стоял средь дороги и разглядывал людей. Агата похолодела, и будто только сейчас увидела она дикий, наугрюмленный лес, и таинственный колдовской сумрак надвигавшейся ночи, и длинные замшелые коряги, тянувшиеся к ней цепкими, высохшими, узловатыми руками.
«Господи! Да что ж это я… Куда ж снарядилась, непутевая», – запоздало опомнилась она.
Старший из вершников, не сводя настороженных глаз с медведя, вытянул из кожаных ножен саблю, а двое других выхватили из-за кушаков пистоли.
Косолапый, почуяв недоброе, рявкнул и не спеша убрел в чащу.
– Ну так что, девка, – утер вспотевшее лицо старшой. – Дале пойдешь али с нами вернешься?
– А вы куда ж?
– Так мы за тобой посланы. Велено на воеводский двор доставить.
– На воеводский?.. Пошто я понадобилась воеводе? – озадачилась Агата.
– О том нам не ведомо. Одно лишь скажу. Как прознал Тимофей Егорыч про твой уход, так тотчас повелел догнать тебя и вернуть. Вот так-то, девка. А теперь взбирайся на моего коня да держись покрепче. Поспешать надо, – строго произнес старшой.
С того дня Агата оказалась в воеводской светелке. Тимофей Егорыч заходил по три раза на дню, садился на лавку, веселый и слегка захмелевший, улещал:
– Забудь о Малиновке, Агатушка. Поди, и ее ордынцы порушили. Никто тебя в деревне не ждет. Не горюй. Слезами беды не избыть. Ты меня послушай. Кинь из головы кручину да повеселись вволю. Жизнь-то больно пригожа, глянь за окно. Птицы и те радуются, ишь как в саду заливают. А вон девки на игрище собрались. Ступай-ка к ним, развей кручинушку. Ты ж не черница какая. Вон как поганых сабелькой уважила. Ступай в сад!
Агата либо отмалчивалась, либо отвечала коротко:
– Посижу я, воевода. Не неволь.
Воевода супился и послушно уходил. А затем появился этот могучий, плечистый парень с густыми черными кудрями, падающими на загорелый лоб. Был он замкнут и неразговорчив, будто что-то тревожило его в этом воеводском доме. Тимофей Егорыч называл его своим «другом собинным». Несколько раз он поднимался с ним в светлицу, норовя развеселить Агату. Но Иван больше помалкивал и все о чем-то раздумывал, хмуря темные брови, и Агате почему-то было беспокойно от его отрешенно-задумчивых глаз.
«Вот и ему не сладко в хоромах. А ведь содруг воеводы. Чего бы лучше – пей, веселись да девок голубь… Васюта не таков. Тот весь день рта не закрывает, и девки к нему льнут. Бедовый!.. Иван же, как туча черная. С чего бы это?» – раздумывала Агата.
Как-то поутру, сидя у окна в светелке, Агата услышала со двора чей-то басовитый, охрипший голос:
– Кой седни день, Марья?
– Середа, батюшка. Аль запамятовал? – отвечал женский голос.
– Запамятовал, баба.
– Да где ж те припомнить, коль из погреба не вылазишь. Поди, бочонок вылакал. Вот донесу ужо воеводе.
– Нишкни, баба!.. Кой седни день?
– Вот ить до чего назюзюкался. Середа, идол!
– Я те, дура!.. А по счету кой?
– Шешнадцатый!
– Шешнадцатый?.. Так ить мне седни в карауле стоять. От, дура! И че не упредила! Сотник по морде съездит.
Баба звучно сплюнула и ушла. Служилый же, почесав затылок, что-то невнятно забурчал и вновь полез в погреб.
Девки глядели из окна, смеялись. Агата же невольно охнула. Шестнадцатое! Сейчас идет травень-месяц. Молвила:
– Седни у меня день ангела. Совсем забыла, девоньки.
Подружки поднялись из-за прялок и кинулись к Агате,
принялись обнимать.
– То день собинный.
– Грех именины забывать.
– Надо бы воеводе молвить.
– Ой, не надо, подруженьки. Идемте в сад. На качели хочу! – загорелась Агата, но потом вновь остыла. – Ой, нет. Поначалу о матушке помолюсь. Пойду в крестовую, а уж потом и на гульбище.
Агата спустилась в молельную, а девки все же упредили воеводу. Тот как услышал, так и возрадовался:
– Добро, девки. Будет вам седни праздник. Всех кличу на пир честной!
Шумно стало в хоромах, то и дело слышались громкие воеводские приказы:
– Лучшие вина и закуску ставьте! Ничего не жалейте!
– Купцов ко мне немедля! Скоморохов!
Более двух часов провела Агата в молельной. Вышла в сад спокойной и умиротворенной, будто тяжкую ношу с себя скинула. Глаза ее лучились, на лице блуждала улыбка.
– Вот и я, подруженьки. Примите в хоровод.
Пока девки гуляли в саду, в хоромах вовсю готовились к пиру. Суетня продолжалась до самого вечера. Потом в сад явился «гонец». То был Васюта Шестак, одетый в синий бархатный кафтан с золотыми застежками. Ступил к Агате, молодцевато тряхнул кудрями и картинно поклонился, коснувшись рукой земли.
– Пожалуй в терем, Агата Степановна.
Подружки лукаво заулыбались, подхватили Агату под
руки и повели в хоромы. На красном крыльце стоял сам воевода. На нем белый атласный кафтан с жемчужным козырем, белая шапка, отороченная соболем, желтые сафьяновые сапоги с золотыми подковами. Нарядный и статный, сбежал с высокого крыльца, поклонился степенно, в пояс.
– Пожалуй за стол, Агата Степановна. Чем богаты, тем и рады.
Девки ахнули: экая честь Агате! Сам воевода встречает. Будто боярышня. Вон и слуги оторопели.
Агата и сама немало подивилась. Смутилась, кровь прилила к щекам. Людей полон двор, а воевода дочь крестьянскую чествует. Господи, скорее бы в светлице спрятаться! Вон как рыжий сотник выпялился. А глаза злые, рожу кривит.
Воевода взмахнул рукой, и к Агате подскочили две сенные девки в шелковых голубых сарафанах. В руках одной из них – девичий венец, усыпанный дорогими каменьями.
– Облачись, голубушка.
Агата еще больше засмущалась, хотелось сквозь землю провалиться. Но тут набежали девки и принялись осыпать ее тюльпанами.
А потом все было будто в сказочном сне, все поплыло перед глазами – люди, цветы, подарки, которыми щедро одаривал воевода. Мелькали сарафаны и летники, телогреи и шубки, венцы и кокошники, башмаки и сапожки… Затем началась шумная, веселая застолица с шутами и скоморохами в пестрых потешных одеждах. Все крутилось, пело, плясало, кувыркалось, ухало, перемежаясь с задорной, разудалой музыкой гуслей, рожков и дудок.
Обычай требовал, чтоб именинница трижды выпила с гостями, и Агата осушила три малые серебряные чарки. Все забылось: и Малиновка с белой березовой рощей, и ласковая матушка с улыбчивыми глазами. Все исчезло, улетучилось, уступив место сладкому, туманному опьянению. Она не помнила, как затем очутилась в светелке. Чьи-то крепкие, сильные руки подхватили ее, понесли по темным сеням и легко опустили на мягкое ложе.
– Агатушка!.. Лада моя, – услышала она жаркий шепот.
– Ты, воевода, – тихо молвила она, задыхаясь от горячих объятий.
Глава 6 БЕГСТВО
Два дня Федька Берсень не выходил из опочивальни, а когда наконец появился на людях, то не замечал ни слуг, ни стрельцов, ни Ивана с Васютой.
– Ошалел на радостях, – посмеивался Шестак, – Экую кралю обабил. У-ух, девка!
Болотников же становился все угрюмее. Давно схлынула радость встречи с «воеводой», и вот уже другую седмицу угнетали его невеселые мысли.
«Бежал на простор, в степи, а угодил в боярский терем – к Федьке-самозванцу. Ежедень пиры да обжорство. Но надолго ли барская жизнь? Вскроется обман – и к палачу на плаху».
Как-то сказал об этом Федьке:
– Уходить надо. Мыслю, близок конец твоему воеводству.
Берсень же отмахнулся беззаботно:
– Напрасно каркаешь. Сижу я в городке крепко. Народ за меня живота не пощадит. А про воеводу Тимофея Егорыча донести царю некому. Всех стрельцов порубали, никто не дознается. Любо мне в крепости!
Но Болотникова Федькины слова не убедили. Он часто слонялся по городу и видел немало недовольных. То были десяцкие, целовальники и ярыжки, купцы, приказчики и торговые сидельцы, подьячие и приказный люд. Все они тихо роптали.
Как-то после обеда он лежал в саду под развесистой яблоней и вдруг невольно подслушал чей-то приглушенный, из-за кустов, разговор:
– Неладно в городке, Меркул Назарыч. Много воли черни дали. Срам, что деется. Меньшие над лучшими людьми измываются. Слова поперек не молви.
– Кабы слово. У меня вон пять мешков хлеба из амбара снесли. Средь бела дня! Да еще мироедом облаяли. Кинулся в приказ, а там ратники с саблями, те, что с воеводой в город пришли. От народ нечестивый! И на порог не пустили.
– Охальные людишки.
– Охальные. На твой-де век, борода, хлеба хватит. А коль жалобиться станешь – все амбары повытрясем. Ступай вон!
– Вот-вот. И на меня намедни ополчились. Ввалились в лавку и давай кафтаны хватать. Добрые кафтаны, суконные, с меховой опушкой. Десять кафтанов унесли, а денег всего полтину кинули. Я вдогонку, так саблей замахнулись. «Башку снесем, пес брюхатый! Хватит с тебя и полтины». Тотчас к воеводе побежал, подстерег его у терема, в ноги упал, о воровстве молвил. Воевода обещал управу найти на служилых. Однако чую, нет ему веры. Стоит да посмеивается, будто по нраву ему мои убытки. Четыре седмицы прошло, а о деле моем ни слуху, ни духу. Пропали денежки.
– Вестимо пропали. Гиль в городе. А вся поруха от воеводы. Мирволит черни.
– А пошто? Ему-то какой прибыток?
– Вот тут-то и диво… Царю надо бы отписать.
– Уж отписали. Да токмо дело то долгое. Тут, брат,– человек понизил голос, но Болотников все же расслышал, – тут иное замышляют, что поскорей да понадежней…
А дальше все оборвалось: помешал неожиданно появившийся Васюта.
– Вот ты где! – весело крикнул он и повалился на Болотникова.
Иван сердито зашикал, но Васюта, не замечая предостерегающих знаков, продолжал хохотать и волтузить Болотникова.
Иван озлился, скинул с себя Шестака и кинулся в кус-гы. Но незнакомцев и след простыл. Не мешкая, пошел к Федьке. Но его ни в приказе, ни в тереме не было.
– У пушкарей воевода, – подсказал один из стрельцов.
Пришлось идти через весь город; попадалось много бражников, шли в одиночку и толпами, горланили песни и славили воеводу.
Болотников усмехнулся. На «воеводскую казну» гуляют. Сейчас боярятся, а как пропьются да без денег останутся – и прощай Федькина слава.
Город гудел, бражничал, выплескивая за дубовый тын удалые песни.
«Все это добром не кончится. Горькое похмелье ждет крепость, а Федька того не ведает. Одними подачками воеводство не удержишь. Вокруг купчишки, боярские холуи да приказные. Каково их притянуть? Аркана не хватит. За свое добро горло перегрызут. Но как быть?.. Может, казнить всех к дьяволу! Утопить в крови… Тут казнить, а потом и в других городах. Оставить один честной народ. Долой приказных и купчишек! Долой… Но без торговли Руси не быть. Кому-то надо и в лавках стоять. Но не мужику же, где ему товаров набраться? Выходит, опять понадобятся купцы..; А земскими делами кому ворочать? Кому в приказах пером строчить? Опять же без приказных не обойтись. Однако же без обману и мздоимства ни купцы, ни приказные жить не могут… Но как же тогда Русью править, как?» – мучительно раздумывал Болотников, но так и не находил ответа.
Стрелецкий сотник Лукьян Потылицын с первых же дней охладел к воеводе. Охладел, а потом и возненавидел. Уж больно ретив да прыток оказался Тимофей Егорыч, уж больно не по-воеводски себя вел. Что ни день, то новая причуда, да такая, что и слыхом не слыхано. Взять хотя бы государеву казну. Когда это было, чтоб стрельцы, пушкари и городовые казаки жалованье за год вперед получали? Никогда того не было, ни при одном царе, ни при одном воеводе. А тут на тебе – всю казну в один день по ветру пустил. Да разве так можно? Сколь среди служилых беглых? Сиганет в степь – и поминай как звали. Плакали царевы денежки и хлеб. А хлеб ноне в великой цене, на Руси голод. Воеводе же – трын-трава. Опустошил житницу – и радешенек. Пусть-де служилые потешатся. А чем потом платить? Царь-де так повелел. Но почему без государевой грамоты? Ужель царь казны не бережет? Сомнительно. При старом воеводе не только вперед жалованье не выдавали, но и придерживали по году. Так-то разумней, иначе стрельцы да пушкари и про службу забудут. А ионе что? Все с деньгами, все с хлебом, все в гульбу ударились, из кабака не вытащишь. До службы ли теперь. И сотник им не указ. Ни кнута, ни батогов не боятся. Воевода-де отменил. Вот уж отчудил, так отчудил! Служилого оставить без порки. Да на батоге и мордобитии вся служба держится. Съездишь этак пару раз по харе, зубы высадишь – и наука. Вдругорядь не ослушается. Теперь же ходи вокруг него и гавкай, глотку дери. А он и в ус не дует. Брань – не батог, не кусается. Какая ж то наука? Тьфу!
Служилые за воеводу горой. Только о нем и разговоров, разбойные души! И впрямь разбойные. Взяли да с воеводой в Дикое Поле снарядились. Поехали татар задорить. А задорить ноне не время. Государь повелел сидеть тихо, чтоб крымчаки с улусов не снялись. Воевода же и тут своеволит, царев указ рушит… Нет, тут что-то неладно. Так бояре не поступают.
Дня через три тайный лазутчик сотника донес:
– В кабаке был, Лукьян Фомич. Диковинные речи довелось услышать.
– Чьи речи?
– Воеводских стрельцов, батюшка, тех, что с Веденеевым в город пришли. Шибко запились они в кабаке, едва целовальника не побили. А тот возбранился: «Вы государевы люди, за порядком должны досматривать, а не бражничать. Вина вам боле не будет». Молвил так – и яндову со стола. Но тут один из стрельцов саблю выхватил да как закричит: «Это нам-то не будет! Казакам донским не будет!» Целовальник глаза вытаращил: «Энто каким казакам, милочки?» Стрелец тотчас примолк, а сотоварищи его к себе потянули, да еще по загривку треснули. Целовальник за стойку убрел, а меня оторопь взяла. Что, мыслю, за «донские казаки»? Сижу дале за столом, покачиваюсь. Мычу да слезу роняю, как последний питух, а сам уши навострил. Авось еще что-нибудь услышать доведется. И довелось, Лукьян Фомич. Стрельцы и вовсе назюзюкались, пьяней вина. Один белугой ревел: «В степи хочу, надоело тут. Пущай нас Федька Берсень на вольный Дон сведет». Не диковинно ли, батюшка?
После такого донесения сотник и вовсе изумился:
«Вот те и стрельцы! Донских воров привел с собой воевода».
Но все это надлежало проверить. Стрельцы в кабаке могли наболтать и напраслину. В тот же день Лукьян По-тылицын разослал своих истцов по всему городу. Наказал:
– Ходите по площадям, кабакам и торговым рядам. Суйтесь повсюду, где толпятся воеводские стрельцы. Спаивайте вином. Доподлинно выведайте, что за служилые прибыли в крепость. Но чтоб таем, усторожливо.
Вскоре сотнику стало известно, что в город пришли донские казаки. Но большего узнать не удалось. Осталось неясным, кто был Федька Берсень, и зачем привел в крепость донских казаков воевода.
Вечером Потылицын собрал на тайный совет своих доверенных людей. На совете порешили: схватить ночью одного из «стрельцов» и учинить ему пытку с огнем и дыбой. В пыточной были свои люди.
– Да похилей хватайте, чтоб после первого кнута все выложил, – предупредил сотник.
Воеводского стрельца повязали после полуночи, когда тот пьяненький пробирался от молодой, горячей вдовушки из Бронной слободки. Стрелец оказался и в самом деле неказистым: маленький, невзрачный, с реденькой белесой бороденкой. В пыточной ему развязали руки, вынули кляп изо рта и толкнули к палачу.
Стрелец непонимающе оглядел жуткий застенок. По углам, в железных поставцах, горели факелы, освещая багровым светом холодные сырые каменные стены. Вдоль стен – широкие приземистые лавки, на которых навалены ременные кнуты из сыромятной кожи и жильные плети, гибкие батоги и хлесткие нагайки, железные хомуты и длинные клещи, кольца, крюки и пыточные колоды. Подле горна с раскаленными до бела углями, стоит кадка с рассолом. Посреди пыточной – дыба, забрызганная кровью.
Стрелец угрюмо повел глазами на сотника, опустившегося на табурет, вопросил:
– Пошто в застенок привели? Какая на мне вина?
– А вот сейчас и изведаем. Как звать, стрельче?
– Пятунка, сын Архипов.
Сотник, прищурясь, вгляделся в стрельца.
– Молодой… Гулять бы да гулять.
– А и погуляю, – высморкавшись и обтерев пальцы о суконные порты, произнес Пятунка.
– А то, милок, будет от тебя зависеть. Может, погуляешь, а может, нонче и дуба дашь. Поведай-ка нам, служилый, как ты из донского казака в стрельца обернулся.
С тщедушного Пятунки разом весь хмель слетел.
«Ах, вот оно что, – мелькнуло в его голове. – Сотник что-то пронюхал».
Однако простодушно заморгал глазами.
– Чудишь, Лукьян Фомич. Я стрелец. На кой ляд мне казаки сдались.
– А не врешь?
– Ей-богу, – стрелец перекрестился.
Сотник кивнул палачу.
– А ну-ка, Адоня, всыпь ему пару плетей.
Кат тяжело шагнул к Пятунке.
– Сымай кафтан, стрельче.
Пятунка не шелохнулся.
– Стрелец я. Пошто плети?
– Сымай, сымай!
Адоня грубо толкнул стрельца, а затем сорвал с него темно-синий кафтан и белую полотняную рубаху. Пятунка забрыкался, но дюжий кат схватил его в охапку и пригвоздил к скамье, связав руки тонким сыромятным ремешком.
Сотник поднялся с табурета и плюнул на спину Пятунки.
– Худосочен, служилый. У палача же рука тяжелая.
Давай-ка миром поладим. Рано тебе на тот свет. Поведай мне о донцах да атамане Федьке Берсене, и я тебя к вдовице отпущу.
– Стрелец я, – упрямо сжал губы Пятунка.
– А Федька кто?
– Такого не ведаю.
– Приступай, Адоня.
Палач взял с лавки кнут, дважды, будто разминаясь, рассек воздух, а затем широко отвел назад руку и с оттяжкой полоснул Пятунку по узкой худой спине.
Пятунка вскрикнул, зашелся от боли.
– То лишь запевочки, – хихикнул Адоня и стегнул Пятунку еще трижды, вырезая на спине кровавые, рваные полосы. Пятунка заскрежетал зубами.
«Щас проболтается. Много ли надо экому сверчку», – усмехнулся сотник и схватил Пятунку за волосы.
– Не люб кнут, стрельче? То-то же. Стоило страдать. Плюнь! Чать, жизнь-то дороже.
Голос Потылицына был елейно мягок.
– Адоня, подай-ка кувшин с вином. Опохмель донца, глядишь и полегчает.
Кат развязал Пятунке руки, налил из кувшина полную медную чару.
– Дуй, паря. Лукьян Фомич милостив.
Пятунка с великим трудом поднялся, глянул злыми глазами на палача и сотника, принял дрожащими руками чару, выпил.
– Ну, а теперь сказывай, милок.
– Стрелец я, Федьки не ведаю, – стоял на своем Пятунка.
Сотник озлился, выхватил у палача кнут и принялся хлестать непокорного донца.
– Не ве-е-даешь! Не ве-е-даешь!
Пятунка упал на холодный пол, а сотник все стегал и стегал, пока не услышал голос палача:
– Сдохнет, кой прок.
Потылицын опомнился, швырнул кнут. Кат прав: мертвый донец никому не нужен.








