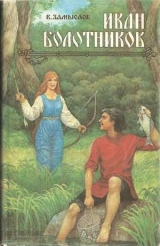
Текст книги "Иван Болотников"
Автор книги: Валерий Замыслов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 47 страниц)
Глава 7 КНЯЗЬ АНДРЕЙ ТЕЛЯТЕВСКИЙ
Князь поднялся рано. Звякнул колокольцем. Тишина. Спит старый управитель, не слышит медного трезвона.
Князь зевнул, толкнул дверь ногой в соседнюю палату.
– Эгей, Захарыч!
В княжью палату вошел управитель с опухшим, заспанным лицом. Ему за пятьдесят – низенький, кругленький, с лопатистой пегой бородой.
– Звал, батюшка?
– Горазд ты спать, однако… Медведь в подклете?
– Там, батюшка Андрей Андреевич. Чево ему соде-ится. Кормлю справно. Выпустить бы его на волю, все запасы приел.
– Довольно ворчать, Захарыч. Зверь мне надобен… Князь Масальский не поднялся?
– Почивает, батюшка. Да и ты бы отдыхал, государь мой. Дороженька была дальняя, утомился, поди.
– Много спать – мало жить, Захарыч. Ступай – буди медведя, бороться буду.
Управитель вздохнул, молча, осуждающе покачал головой и удалился.
Зверя держали в нижнем просторном подклете. Год назад князь охотился в подмосковных лесах и рогатиной свалил матерую медведицу. Медвежонка пожалел и повелел забрать на свой двор. Наезжая в село, князь Андрей часто забавлялся с молодым зверем.
В тереме шумно: князь бодрствует! Мечутся по узорчатому красному крыльцу и темным переходам дворовые холопы – ключники, спальники, повара и сытники, конюхи и чашники. Упаси бог спать в сей час!
Шум и гам разбудили князя Масальского. Вскочил с пуховиков, глянул на двор через слюдяное оконце, хмыкнул. Уж не пожар ли приключился? Раскрыл оконце, курчавую длинную бороду свесил, крикнул:
– Чего по двору снуете?
Сухопарый плечистый холоп остановился возле крыльца, снял войлочный колпак и отозвался, озорно тряхнув русыми кудрями:
– Князь Андрей Андреич поднялся! У нас завсегда так. Топерь медвежья потеха будет. Спущайся и ты, князь.
Василий Федорович кинул на парня колючий взгляд. Ишь ты, как с князем разговаривает. Хотел погрозить кулаком, но холоп надвинул на голову колпак и заторопился в подклет.
Масальский прошел внутрь палаты, присел на пуховики, раздумывая – лечь спать или начинать облачаться. А со двора раздалось:
– Митька-а-а! Чево застрял, дубина! Айда на князя мотреть!
Масальский рассмеялся. Чудит Андрей Андреевич, скоморошью игру затеял, дворовых спозаранку согнал.
В палату просунул широкую бороду старый княжий спальный холоп.
– Подавай кафтан, Ивашка, – решил Василий Федорович.
– Не Ивашка я, батюшка. Мя сызмальства Михей-кой кличут, – поправил князя дворовый с низким поклоном.
– Все едино холопья рожа. Одевай да языком не мели. На потеху пойду.
В подклете полумрак. Управитель приказал засветить слюдяные фонари. Медведь лежал в углу, привязанный короткой цепью к железному кольцу, вделанному в дубовый стояк.
Князь Андрей – без шапки, в крепком суконном кафтане и кожаных рукавицах. Высокий, плечистый, русая борода коротко подстрижена, глаза цепкие, гордые. Стоит посмеивается, любуясь зверем.
– Спускайте косолапого.
Двое холопов освободили медведя от привязи. Молодой зверь поднялся на задние лапы, рявкнул. Дворовые прижались к стене, сгрудились возле двери.
– Не зашиб бы зверь, батюшка. Подрос он за зиму, одичал, озорной стал, – предостерег князя управитель.
Телятевский и сам видел, что медведь заметно вырос, но отступать было поздно. И тем более – в дверях показался князь Василий Масальский, давнишний друг Андрея Андреевича, любитель медвежьей потехи.
Князь Андрей шагнул к зверю, потрепал его рукой за шею.
– Здоров будь, Михайло. Соскучал по тебе. Зело ты вымахал.
– Возьми кинжал, Андрей Андреевич. Неровен час, – предложил другу Василий Федорович.
– Не к чему, князь. Мы с Михайлой мирно живем, вымолвил Телятевский и обхватил медведя руками.
Князь и зверь затоптались на месте. Телятевский сразу же попытался свалить косолапого на землю, но не тут-то было. Зверь упирался и сердито урчал, отталкивая князя передними лапами.
Наконец Телятевский изловчился, вплотную приник к медведю, наступил сапогом на лапу и опрокинул косолапого наземь.
– Однако горазд ты, Андрей Аидреич! – восторженно проговорил Масальский, поднимаясь с князем в верхние терема.
Телятевский, пряча в густой бороде довольную улыбку высказал:
– Люблю, князюшка, утречком размяться. Зело пользительное дело. Прошлым летом ежедень с косолапым братался.
Князь Андрей скинул с себя разодранный кафтан и приказал управителю:
– Снедь подавай, Захарыч. Да повеселей. Зело мы с князем голодны.
– Укажи крестовую горницу, Андрей Андреевич. Помолюсь я вначале, – вымолвил Масальский.
– Рядом со спальней твоей, князь Василий. Ступай к господу, а я обожду в горнице.
– А сам-то чего же моленную обходишь? Поди, негоже так.
– Грешен, князюшка, плохой стал богомолец. После всенощной лишь богоматери челом бью.
– Не зря тебя Шуйский в ереси уличает, – погрозил перстом Василий Федорович и удалился в моленную.
Завтракали князья в столовой палате. Чашники подавали на стол щи с бараниной, уху язевую, жареного гуся с гречневой кашей, пироги из говядины с луком, с творогом и яйцами, оладьи с сотовым медом да патокой, икру-осетрец с уксусом, перцем и мелким луком, белые грузди в рассоле да сморчки.
Запивали князья снедь винами заморскими – мушка-телью, романеей да своей двойной боярской водкой…
После третьей чарки друзья разговорились.
– Прослышал я в Москве, что Шубник новый поклеп царю на тебя возводит.
Шубником в стольном граде прозвали князя Василия Шуйского: его ремесленные люди снабжали всю Москву полушубками.
При упоминании Шуйского лицо Андрея Андреевича помрачнело, глаза вспыхнули недобрым огнем.
– Без ябеды Васька Шуйский жить не может. Слава богу, царь Федор не в батюшку пошел, а то бы пришлось в Пыточной на дыбе повисеть… Знаю, князюшка, о его затеях. Надумал Шуйский очернить меня перед государем, я-де в Новых Холмогорах 24 24
Новые Холмогоры – с 1613 г. переименованы в Архан гельск.
[Закрыть]с иноземными купцами из Ливонии дело имею, тайну о порубежных крепостях им выдаю. Изменщик-де Телятевский. Эк, куда хватил, пакостник.
– Я вот все думаю, князь Андрей Андреевич, отчего на тебя так Шуйский взъелся? Ведь не с руки ему с тобой враждовать. За всех князей и родовитых бояр Шуйский цепко держится. Вспомни, как он противу покойного Ивана Васильевича козни свои плел. Всех князей подбивал, чтобы государя с престола выдворить. А на тебя всюду наушничал, наговаривал да сторонился. Отчего князь?
Телятевский откинулся в кресле. По его лицу пробежала тень. Он долго сидел молча, зажав в кулаке недопитую чарку с вином, а затем раздумчиво молвил:
– Угодил как-то мне Шуйский в капкан. ХитркЬщий зверь, но попался. Тогда бы ему не выбраться из него, да случай помог. Выскользнул, как гадюка, и с той поры жалить стал.
– Не пойму я тебя, князь. Загадками говоришь.
– Ты уж прости меня, Василий Федорович, но ответить на твой вопрос покуда не в силах. Придет время – все обскажу.
– Ну-ну, князь. Чужой язык не вывернешь, – обидчиво уколол Василий Федорович.
– Не серчай, князюшка. Давай-ка выпьем еще по чарочке да и на поля наведаемся. На мужиков глянуть надо. Нынче смерд не тот стал. В твоей вотчине все ли тихо?
– Куда там, князь. Бунтуют мужики. В одной деревеньке приказчика побили. Помрет теперь, поди. Другие в бега подались. Вот и еду смерда усмирять. Ох, и непутевое времечко.
– Доподлинно сказываешь, князь Василий. Мужика в крепкой узде держать надлежит. Царь Иван Васильевич обыкновенно говаривал, что народ сходен с его бородою: чем чаще стричь ее, тем гуще она будет расти.
– Вестимо так, князь Андрей. Пойдем, однако, на ниву. Погляжу твоих мужичков.
Глава 8 НА ПАШНЕ
На другой день, утром, пахали страдники второе княжье поле. Новый загон был много тяжелее, каменистее. Лошади быстро уставали, выбивались из сил. Мужики отчаянно ругались, ходили злые.
Незадолго до обеда крестьянин Семейка Назарьев выпряг своего тощего поджарого мерина, освободил его от сохи и вывел на межу.
Утирая рукавом домотканой рубахи пот с прыщеватого лица, Семейка жалостливо смотрел на свою захудалую лошаденку и, чуть не плача, сказал:
– Не тянет Савраска, вконец замаялся.
Подскочил приказчик. Вчера вечером встречал он в хоромах князя, а спозаранку уже бегал по загону.
– Ты чегой-то, Семейка, не при деле? Все на борозде, а ты на межу выбрался. Негоже эдак, сердешный.
Зная, что от приказчика теперь так просто не отделаться, мужик взмолился:
– Помилуй, Егорыч. Задохся конь. Того гляди ноги протянет. А мне еще свои три десятины поднимать. Что хошь делай – невмоготу.
– Мокеюшка, подними-ка мужика с землицы. Вижу, до княжьего дела нет у него радения, – приказал своему телохранителю приказчик.
Мокей шагнул к пахарю, поднял его за ворот рубахи на ноги, притянул к себе и страшно ударил Семейку по лицу. Страдник грохнулся наземь. Изо рта хлынула кровь, обагряя белую, взмокшую от пота рубаху.
– Глянь, что делает паук мирской, – побледнев, выдавил из себя Исай, пахавший загон неподалеку. – Так и насмерть зашибить недолго.
– Пойду заступлюсь, батя, – оторвался от лошади Иванка.
Мокей, широко расставив ноги в зеленых ичигах, склонился над Семейкой и стегал его кнутом.
Молодой Болотников подбежал к Мокею и оттолкнул его от поверженного пахаря.
Детина вознегодовал. Его глаза вспыхнули злым огнем; широко отвел руку назад, взмахнул кнутом. Но Иванка успел перехватить его руку.
Мужики ахнули. Могутный детина, как ни старался, но пересилить сына крестьянского не мог.
А Иванка все давил и давил на волосатую кисть, покуда кнут не выпал из пальцев Мокея.
– Зело силен сей молодец. Кто таков?
Иванка повернулся и обмер: перед ним стоял сам князь – Андрей Андреевич Телятевский в легком малиновом кафтане.
Пахарь ответил с поклоном:
– Иванка Болотников, сын Исаев. Мокей неправедно Семейку забижает, князь.
Калистрат Егорыч повалился перед князем на колени и пояснил:
– Мокешка мужика маленько учил. Не хочет загон твой пахать, батюшка князь.
Семейка Назарьев с трудом поднялся с земли и, сплевывая кровь, проговорил:
– Второй день твою зеМлю пашу, государь. Завсегда на барщину хожу справно, а седни беда приключилась. Лошаденка захудалая, соху не тянет.
– Верно мужик сказывает, батюшка князь. Коль передышки не дать – падет Савраска, – вступился за Семейку Исай Болотников.
Телятевский молча взирал на хмурую толпу мужиков, на вспаханное поле, а затем, пронзив взглядом приказ-чикова стража, вдруг порешил:
– Без коня мне мужик не угоден. Кой прок от безлошадного. Вижу – конь заморен, пускай отдохнет. По-што, Егорыч, крестьянина увечишь?.. А ну-ка, Семейка, подь сюда.
Селянин шагнул к князю, опустил кудлатую голову.
– А ты подними глаза, мужичок. Возьми кнут да ответь тем же Мокею.
Семейка недоуменно глянул на князя.
– Бей, говорю, кнутом обидчика. Выполняй мой княжий приказ.
Назарьев замялся, но кнут взял и шагнул к Мокею, застывшему с открытым ]ртом.
– Воля твоя, государь. Сполню как сказано. Примай, Мокейка!
Свистнул в воздухе кнут и с силой опустился на дородную спину телохранителя.
– За что-о-о! – взревел Мокей, стараясь увернуться от ударов.
А страдник вошел в раж, хлестал да хлестал, вымещая на Мокее годами накопленную злобу.
Наконец Мокей не выдержал и пустился наутек, обронив на поле войлочный колпак.
Князь Телятевский смеялся, а Василий Федорович переминался с ноги на ногу и, не понимая поступка князя, раздумывал: «За столом о людишках одно сказывает, а в народе другую песню поет. Чудит князюшка».
Калистрат Егорович так и стоял на коленях, подобострастно взирал на господина и тоненько хихикал.
– А тебе зубы скалить нечего. Задним умом стал крепок. Коней губить впредь не велю, – оборвав смех, строго произнес Телятевский.
Приказчик разом присмирел и виновато развел руками:
– Прости, батюшка. Я чаял борзей ниву вспахать, а оно вона как…
Телятевский, не слушая Калистрата, повернулся к Болотниковым.
– Крепкое чадо вырастил, Исай. После страды в дружину твоего сына заберу.
– Пахарь он, батюшка князь, не воитель, – произнес Исай.
– О том мне решать, – отрезал князь и пошел вдоль загона.
Когда уходили с поля, Василий Федорович ворчливо осуждал князя:
– Чего же ты, Андрей Андреевич, мужика привечаешь. Гляди, своевольничать станут, с нивы побегут. Вот тебе и «бороду стричь».
– Не сбегут, князь. Я их цепко держу. Где кнутом, а где и медком. Одной плетью из мужика добра не выжмешь. А выжимать мне нонче много надо. Надумал я, князь, запашку свою удвоить. Потрясу мужичков, кои по порядным да кабальным грамоткам задолжали. Денег не дадут – землю на себя запишу. Зерно теперь в большой цене. За морем да и в Москве купчишки нарасхват хлебушек забирают.
– Однако, хитер ты, князюшка. А я вот все по старинке живу – хозяйствую, с купчишками не знаюсь. Непристойно родовитым людям по торгам шататься. А где же наша честь княжья?
– Не в бороде честь, борода и у козла есть, – шутливо отозвался Телятевский, а затем уж раздумчиво, серьезно добавил: – Ныне новые времена приходят, князь. Русь торговая, аршинная. И в ней вся сила вскоре станется.
– Ох, не понять мне тебя, Андрей Андреич, – вздохнул Масальский.
В тереме Василий Федорович начал собираться в свою вотчину.
– Погостил бы еще, князь. На охоту сходим. В моих лесах зело всякого зверя водится.
– Прости, Андрей Андреич, дела ждут. Мужики бунтуют, не ведаю, засеют ли мою землицу нонче. На обратном пути заеду.
– Ну, с богом, князь.
Глава 9 В КНЯЖЬЕМ ТЕРЕМЕ
К вечеру досеяли мужики второй княжий загон. Исай пошел поглядеть свое поле, а Иванка взвалил соху на телегу, запряг лошадь и пошагал рядом с Гнедком в деревню. По дороге догнал незнакомого захудалого старика в рваной сермяге, с котомкой за плечами и суковатой палкой.
– Садись, отец, подвезу, – предложил прохожему молодой пахарь.
– Сам коня бережешь, а меня усаживаешь. Спасибо, чадо. Село рядом, топерь дойду.
– Да ты садись, отец. Ишь ноги еле волочишь.
– Спасет тя Христос, – вымолвил Пахом, взбираясь на телегу. Старик зорко вгляделся в парня и вдруг всплеснул руками. – Мать честная! Ей-богу, Болотников! Вылитый отец, поди, Исаев сын будешь?
– Глаза у тебя зрячие, дед. Угадал. А я вот тебя не примечал в нашем селе.
– Все обскажу. Дозволь токмо на батюшку твоего взглянуть… Ну и детинушка же у Исая вымахал. Как звать-то, молодец?
– Отец еще в поле. Скоро придет в избу, там и свидишься. А меня Иванкой кличут.
Перед крайней избой села Пахом кряхтя сошел с телеги и встал на колени, обратившись лицом к храму Ильи Пророка. По его щеке скользнула в рыжую бороду слеза.
– Привел, осподи, на родную землю ступить. Почитай, два года шел до отчего края. Прими, мати земля, раба божия.
Помолившись, Пахом поднялся и неторопливо зашагал вдоль улицы, останавливаясь возле каждой избы и жадно выспрашивая у Иванки о крестьянах.
Возле церковной ограды прохожий сказал:
– Я покуда на отцову могилку наведаюсь. Двадцать годков батюшка меня в земле ждал.
– Изба наша вторая от взгорья, – пояснил Иванка.
Во дворе он распряг лошадь, накрыл ее попоной и
повел к озеру.
Допоздна горела лучина в избе Болотниковых. Исай хоть и устал на ниве, но был рад встрече. Когда-то с Пахо-мом были они закадычными друзьями, делились горем и радостью, вместе пахали пашню, сеяли и убирали хлеб на своих пяти десятинах.
Пахом долго рассказывал о своем житье-бытье: татарском полоне, удалых походах и битвах, о скитаниях по Руси.
– А вот теперь на родной земле. Избы нет, старики мои померли. Дозволь, Исай, на ночлег остаться.
Болотников глянул на Прасковыо, на сына и порешил:
– Жить у меня будешь, Пахом. В тесноте, да не в обиде. Прокормимся.
Князь сидел в кресле в атласном зипуне нараспашку поверх кумачовой рубахи. Перед ним – Калистрат с толстой книжицей, оболоченной бархатом с медными застежками. Приказчик, водя узким худым пальцем по витиеватым строчкам, доносил князю:
«…серебреник Евсейка Колпак задолжал по кабальной записи девять рублев, семь алтын да четыре деньги 25 25
Деньга или денежка – мелкая монета в полкопейки.
[Закрыть], Семейка Назарьев – восемь рублев да три деньги, старожилец Исайка Болотников – шесть рублев, девять алтын да пять денег…»
Читал Калистрат долго, чуть нараспев, дрыгая реденькой козлиной бородкой.
– Беглых мужиков много ли, Егорыч?
– Винюсь, батюшка, не усмотрел. Пятеро сошли, а куда – неведомо.
– Какова земля за ними?
– Пятнадцать десятин, батюшка князь. Запустела топерь землица.
– А бобылей безлошадных?
– Десять дворов нынче бобыльских. За ними двадцать шесть десятин лежат впусте. Не пашут, не сеют, окаянные. Один разор от них, батюшка.
– А теперь скажи мне, Егорыч, сколько всего мужичков мне задолжали да велика ли земля за ними?
– Покумекать мне, батюшка, надо. Невмоготу сразу счесть, – замешкался и разом взмок приказчик.
– Вижу, не велик ты грамотей.
Приказчик шевелил губами, бормотал про себя, загибая пальцы, потом изрек:
– Пять десятков с шестью, батюшка Андрей Андреевич, а землицы за ними почитай двести десятин.
– «Почитай, почитай», – передразнил приказчика князь. – Мне до вершка знать надобно.
Однако лицо князя заметно повеселело. Он крутнул ус, придвинулся к столу и взялся за перо гусиное. Исписал белый лист цифирью и откинулся в кресло довольный.
– Тысячу пятьсот четей хлеба, Егорыч. Да ежели за море!
– Чево, батюшка? Невдомек мне.
– После Юрьева дня поймешь.
– Недоимки сейчас прикажешь взимать, батюшка князь?
– Зачем же, Егорыч. Пусть мужички вначале свои десятины засеют. А я обожду, окажу им свою княжью милость. Землю беглых и бобылей, кои не пашут, на себя забираю. Пошто ниве пустовать. Прикажи мужикам засеять на меня те загоны.
– Все сполню, батюшка Андрей Андреич. Да токмо жита где взять?
– Потряси мужичков.
– Не у всех селян жито сыщется, возропщут людишки.
– А ты по-иному спытай. Многие недовольствуют, что землей их князь обижает. Так вот и кинь среди них клич – кому земли своей не хватает. Кто из крестьян затребует – у тех и жито. Вот так-то, Егорыч.
– И то верно, батюшка князь, – высказал Калистрат и замялся у двери. – В хоромы мужика одного доставили, кажись, старик беглый. До твоей милости просится, чевой-то донести хочет.
– Впусти, Егорыч.
Приказчик удалился, а в княжью палату просунул черную бороду Мамон.
– Дозволь, государь мой, челом тебе бить.
Князь кивнул, пытливо глянул на своего пятидесятника, оставленного в вотчине для присмотра за крестьянами и охраны хором.
– Доброго здравия тебе, князь Андрей Андреич. Пошли господи тебе…
– Благословлять меня отец Лаврентий придет, а ты лучше о вотчине поведай, – строго оборвал дружинника князь и добавил. – Мужики в деревеньках пашню бросают, многие в бегах шатаются. В Подушкине, слышал, старосту побили. А ты здесь пошто сидишь с малой дружиной? Завтра холопей своих на сев погоню, вот и тебе там быть впору.
Мамон виновато склонил голову, мял шапку в руках, черные глазищи упер в стену.
– Прости, князь, не устерег. Ночами возле деревенек и погостов дозоры ставил. Ан нет – из Богородского в бегах пятеро, из Василькова трое, из Лопатина…
– Всего много ли сошло по вотчине? – снова прервал понурую Мамонову речь князь.
– Два десятка, князь, – кашлянув в бороду, удрученно выдавил пятидесятник.
– Вот тебе и сев! – Телятевский грохнул кулаком по столу. Лицо его помрачнело, глаза наполнились гневом. – Тебя на сохе пахать заставлю за всех беглых. Не в меру грузен стал, ишь какое брюхо наел. Бездельничать привык да с девками блудить. До мужиков ли тебе, чертов кобель!
Голос Телятевского загремел по хоромам. В сенях испуганно застыли холопы. В палату просунул было голову приказчик, но тотчас тихонько прикрыл дверь.
Ведал Мамон, что князь страшен в гневе, чего доброго самолично кнутом отстегает и с дружины прогонит; поспешил господина заверить:
– Мыслю, далеко не ушли мужики. Слух идет – по лесам шастают. Снаряжу дружину и выловлю всех до единого.
– А по сей день что делал?
Мамон еще ниже склонил голову.
Князь заходил по палате. Бежит смерд, по Руси разбредается. Сколь пудов хлеба потеряно!.. Уж не Шубника ли сюда рука протянулась?
– Людишек Василия Шуйского в вотчине не было?
– Не заезжали, князь, – ответил Мамон.
Однако сказал неправду. Доподлинно знал пятидесятник, что из трех деревенек переманили к себе семерых крестьян люди князя Шуйского, но сказать правду боялся. Уж чего-чего, а этого Телятевский ему не простит. Шибко Андрей Андреевич на Шуйского серчает.
– Ну, гляди у меня, пятидесятник. Собирай дружину – ив лес. Без мужиков вернешься – в холопы пойдешь. Вот тебе мой сказ, – холодно произнес Телятевский и звякнул колокольцем.
Вошли в палату приказчик с Пахомом. Скиталец поставил в угол посох, помолился на правый угол с киотом и поклонился князю.
– Чего хочешь мне молвить, старик?
Пахом покосился на пятидесятника, и ему не по себе стало. Приказчик дернул старика за рукав домотканой рубахи.
– Спасибо тебе, князь, что в хоромы свои допустил. Не всякий боярин в палату мужика впущает. Зовут меня Пахомкой Аверьяновым.
При этих словах Мамон, стоявший позади князя, тихо охнул.
– Сам я тутошный, твой пахарь, князь. Избенка моя когда-то возле взгорья стояла. А потом орда напала, избенку спалили, стариков, женку и ребятенок малых смерти предали, а сам в полон угодил к басурманам.
– Орда, говоришь, напала? – раздумчиво переспросил мужика Андрей Андреевич.
– Поди, сам помнишь, князь, как хан Девлет-Гирей на матушку Русь навалился.
– Помню, пахарь, – сказал князь и, поднявшись из кресла, подошел к Пахому. – А не видел ли ты, старик, мою сестрицу Ксению в полоне татарском?
Если бы .в эту минуту князь обернулся назад, то не узнал бы своего пятидесятника. Мамон побледнел, правая рука его невольно опустилась на рукоять сабли.
– Видел твою сестрицу, князь, – вздохнув, молвил Пахом.
Телятевский возбужденно схватил Аверьянова за плечи:
– Говори, старик, что с ней! Может, жива еще или погибла в полоне?
– Не тешь себя надеждой, князь. Загубили татары княжну. Крымцы из-за нее драку затеяли, а под Рязанью обесчестили и в Оку кинули, – участливо проговорил Пахом, метнув взгляд на Мамона.
Князь Андрей с мрачным лицом заходил по палате; подошел к оконцу, распахнул. С улицы раздался удар колокола. Звонарь храма Ильи Пророка благовестил к ранней обедне 26 26
Обедня – церковная служба у христиан, совершаемая утром или в первую половину дня.
[Закрыть]. Андрей Андреевич сотворил крестное знамение и долго смотрел на розовеющие в лучах солнца золотистые маковки храма. Наконец он повернулся и высказал:
– Ступайте. А ты, старик, здесь обожди.
Приказчик и пятидесятник Мамон покло1Гились и тихо
удалились из Палаты.
– А как сам из полона ушел? – резко спросил князь.
Пахом уже в который раз рассказал о своей горемычной жизни в неволе, о том, как угодил к лихому воинству – казакам.
– Говоришь, в Диком поле был? – лицо князя несколько просветлело. Телятевский сам несколько лет воевал в Ливонии, ходил в походы и неоднократно был отмечен самим государем Иваном Васильевичем за ратные поединки с чужеземным ворогом.
– Лицо твое в шрамах, вижу. Никак, с погаными бился лихо? Поведай мне о том, старик. А перед началом чарку вина испей, чтобы веселей сказывал, – проговорил Телятевский и подошел к поставцу, на котором стояли ендовы и сулейки с водкой и винами.
Пахом недоуменно поглядел на Телятевского. Где это на Руси видано, чтобы князь бродягу-мужика вином угощал. Однако чарку принял.
– Спасибо за честь, князь.
Когда Андрей Андреевич вдоволь наслушался бывалого старика, то спросил:
– Ко мне в крестьяне пойдешь, казак? Денег на избу и лошаденку дам.
– Уволь, князь. Стар я, немощен, раны зудят. Плохим страдником буду. Так что прости мужика, в кабалу не пойду. Займусь ремеслом кой-каким, чтобы прокормиться, а там и помирать время.
– А ты смел, старик. Ни полон, ни Дикое поле, ни батюшка мой покойный с боярщины тебя не отпускали. Помни – покуда жив – ты смерд княжий. Ну, да будь по-твоему. Старый ратник – не пахарь, но ремесло тебе Ка-листрат укажет. Платить тебе оброк бобыльский. Ступай, Пахомка.
Внизу возле узорчатого красного крыльца Аверьянова ожидал Мамон. Как только Пахом сошел со ступенек, пятидесятник надвинулся на скитальца.
~ Ну-у, чего князю доносил? – тяжело выдавил он, приблизив бородатое лицо к Пахому и ухватив старика за ворот пестрядинной рубахи.
– Не замай, – сердито оттолкнул дружинника Пахом и зашагал вдоль села, ссутулив худую длинную спину.
Мамон проводил его злобным взглядом, отвязал от крыльца своего коня, поставил ногу на стремя, прислушался.
Тихо в княжьих покоях, оконце распахнуто, но голоса Телятевского не слышно.
Но вот послышались шаги, распахнулась дубовая дверь, звякнув железным кольцом. Пятидесятник поспешно взмахнул на коня, натянул поводья, готовый ринуться прочь со двора.
На крыльце стоял Калистрат, блестя лысиной, при-щурясь взирал на Мамона.
– Чего ты, Ерофеич, нахохлился? Али хворь одолела?
– Князь меня не кликал, Егорыч? – в свою очередь спросил Мамон.
– Ничево, сердешный, не сказывал. Собирается князь в церкву богу помолиться. Должно, по покойной сестрице своей.
Мамон перекрестился и, облегченно вздохнув, тронул коня. Ехал селом, думал: «Слава те, господи, знать, пронесло. Не выдал Пахомка меня князю. Все едино не жить ему теперь…»








