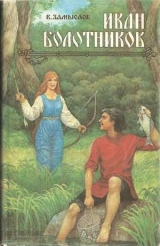
Текст книги "Иван Болотников"
Автор книги: Валерий Замыслов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 47 страниц)
Глава 9 МАМОН И КСЕНИЯ
– Заждался я тебя, сердешный. Бунт в вотчине, – лежа на пуховиках, постанывая, промолвил приказчик.
– Что приключилось, Егорыч?
– Мужики отказались на княжий двор в Москву жито везти. Холопей избили, на меня крамольную руку подняли, а амбары с зерном пограбили и по своим избам хлеб растащили.
– Ну и дела, Егорыч, – изумленно ахнул пятидесятник. – Кто гиль на селе затеял?
– Поди, сам смутьянов ведаешь. Старшой-то подох намедни, так звереныш остался.
– Иванка Болотников?
– Он самый, Ерофеич. Кнутом меня ударил, сиволапый. А вместе с ним Семейка Назарьев горлопанил.
– Так-так, Егорыч.
Мамон, поглаживая бороду, прошелся по избе, не спрашивая хозяина, налил себе чарку вина из ендовки, выпил и присел на лавку.
– Ивашке теперь не жить, Егорыч. За ним не только бунт, но и другие грехи водятся. За такое воровство князь усмерть забьет.
Приказчик, недоумевая, поднял на пятидесятника голову.
– Не зря я по лесам три недели скитался. На днях семерых беглых мужиков изловил, а одного из ватажки
Федьки Берсеня. Спрос с него учинил. Поначалу молчал, а потом, когда огнем палить его начал, заговорил нищеброд. Поведал мне, что сундучок с грамотами Ивашка Болотников с Афонькой выкрали.
– А грамотки кабальные где? – встрепенулся приказчик.
– О грамотках беглому неведомо. Никак, наши смутьяны припрятали… Афонька вернулся в село?
– Вернулся, Мамон Ерофеич. Обрадовал ты меня. Выпей еще чарочку, сердешный, да к пыткам приступай. Ивашку не забудь в железа заковать.
– Не забуду, Егорыч. Ночью схватим, чтобы бунташ-ные мужики не видели. Обоих пытать зачну. У меня не отвертятся. Заживо спалю, а правду добуду.
– Кто из беглых тебе о сундучке поведал?
– Евсейка Колпак. Он князю десять рублей задолжал. Неподалеку от Матвеевой заимки его поймал.
– Бортника давно на дыбе растянуть надо. Извечно вокруг его заимки воровские люди шатаются.
– Не миновать ему дыбы, Егорыч. Темный старик и, чую, заодно с разбойной ватагой якшается. Хотел у него девку вчера в село увести. Не вышло. Припрятал Василису, старый пень. Никуда не денется. Я возле заимки оруж-ных челядинцев оставил, будет по-моему. Старика – на дыбу за лихие дела, а девку – на потеху, хе-хе… Где у тебя Авдотья прячется?
– Осерчал я на бабу непутевую, Ерофеич. Из-за ее, дурехи, сундучок выкрали. Не допускаю к себе. На верху с кошками дрыхнет.
– Поотощал я в лесах, Егорыч. Пущай хозяюшка снеди на стол поставит, а уж потом и за пыточные дела примусь.
– Пойду покличу, сердешный. Рад экому гостеньку угодить. Уж чем богаты, – промолвил приказчик, поднимаясь с пуховика.
Оставшись в горнице один, Мамон скинул с себя кафтан и остался в легкой кольчуге. Усмехнулся, хитровато прищурив глаза:
«Придется чарочкой полечить приказчика».
Мамон стянул через голову кольчугу и бросил ее на лавку под киот. Глянул на образа, перекрестился и вдруг сердце его екнуло. Из-за божницы выставился край темнозеленого ларца.
«Уж не тут ли приказчик денежки свои прячет?» – подумал пятидесятник и, воровато оглянувшись на сводчатую дверь, вытянул из-за киота ларец.
Дрожащими пальцами поднял крышку и, с досадой сплюнув, задвинул ларец на место.
«Проведешь Егорыча. Деньги, поди, в землю закопал, а в шкатулку всего две полушки бросил. Вот хитрец!»
Пятидесятник устало развалился на лавке, пробубнил:
– А ларец-то на княжий схож…
И вспомнился Мамону давний крымский набег.
В тот день, когда ордынцы ворвались в хоромы, Мамон находился в княжьем саду, возле просторной господской бани с двумя челядинцами. Холопы топили мыленку для старого больного князя. Готовили щелок и кипятили квас с мятой, в предбаннике на лавках расстилали мягкую кошму, на полу раскидывали пахучее молодое сено. В самой бане лавки покрывали мятой и душистыми травами.
А Мамон сидел под цветущей яблоней и скучно зевал, поглядывая на оконца девичьих светелок.
Вдруг на усадьбе раздались встревоженные голоса че-лядинцев, резкие гортанные выкрики и пальба из самопалов.
– Татары-ы-ы! – в ужасе разнеслось по усадьбе.
Холопы кинулись от бани к хоромам, а дружинник
нерешительно застыл под яблоней, прикидывая, куда ему скрыться от дико орущих, свирепых кочевников.
Увидел, как по саду, в одном легком шелковом сарафане бежала юная княжна с темно-зеленым ларцем в руках. Заметив Мамона, Ксения кинулась к нему и, прижимая шкатулку к груди, проговорила, едва сдерживая рыдания:
– Поганые там… Тятеньку саблей зарубили. За девками гоняются… А у меня ларец. Сберечь его братец Андрей наказывал.
Мамон схватил испуганную Ксению за руку.
– Спрячемся в бане, княжна. Поспешай!
В мыленке присели на лавку. Ксения, печально всхлипывая, доверчиво прижалась к Мамону, зашептала молитву. Подавленная страхом и горем, Ксения не заметила, что у нее расстегнулись золотые застежки сарафана, приоткрыв белую грудь.
Мамон соскользнул с лавки на пол, устланный мягким душистым сеном, и потянул к себе Ксению.
– Что ты, что ты! – вдруг догадавшись, испуганно и громко закричала княжна.
– Молчи, княжна! – прохрипел Мамон и широкой тяжелой ладонью прикрыл Ксении рот…
Затем челядинец поднялся, опустился на лавку и взял в руки ларец. Раскрыл и вытянул из шкатулки две грамотки. Придвинувшись к оконцу, поспешно прочел оба столбца, на миг задумался и положил бумаги в ларец.
И в эту минуту в баню, широко распахнув двери, вбежал долговязый рыжеватый мужик, видимо, решивший также укрыться в мыленке. Глянув на лежавшую в беспамятстве княжну и на растерявшегося дружинника, Па-хомка Аверьянов молвил возмущенно:
– Ох, и паскудник же ты, Мамон.
Челядинец больно пнул мужика в живот и, забыв о шкатулке, выскочил как угорелый из бани, бросившись в густые заросли сада.
А Пахомка закорчился на полу; едва отдышавшись, опустился возле княжны и наткнулся коленями на шкатулку. Увидев в ней грамотки, решил:
«Не зря, поди, Мамон хотел ларец выкрасть. Знать, важные тут грамотки лежат. Припрятать надо».
Засунув ларец за пазуху, метнулся к церковной ограде, находящейся неподалеку от господской бани…
Мамон спохватился в глубине сада. Чертыхнулся и начал выбираться назад, намереваясь пристукнуть княжну и Пахомку, а шкатулку с собой забрать.
Раздвинув заросли, дружинник увидел, как Пахомка, запахнув на Ксении сарафан, несет ее на руках, направляясь в густой цветущий вишняк, почти навстречу Мамону.
Челядинец, выхватив из сапога длинный острый нож, затаившись, подумал:
«Вот здесь-то я вас и прикончу…»
Но в тот же миг на Пахомку и Ксению с диким визгом набежали татары. А Мамон пополз в заросли…
Глава 10 В ДИКОЕ ПОЛЕ!
В оконце постучали – громко, настойчиво. Мать слабо простонала с полатей, а Иванка поднялся с лавки и пошел в сени. Вслед за ним, перекрестившись на икону с мерцающей лампадкой, потянулся к выходу и Пахом Аверьянов, почуяв в ночном стуке что-то неладное.
Возле избы чернелась неясная фигура.
– Кто? – окликнул с крыльца Болотников, зажав в руке двухствольный пистоль.
Незнакомец поспешно приблизился к Иванке.
– Слава те, осподи! Жив еще…
– Ты, Матвей? Что стряслось? С Василисой беда? – встревожился Болотников.
– Кругом беда, родимый. Бежать тебе надо и немедля.
Запыхавшийся бортник присел на крыльцо:
– На заимке у меня княжьи люди остановились. Василису успел припрятать. О том закинь кручину. Другое худо, родимый. Изловил Мамон семерых вотчинных мужиков, а среди них Евсейку Колпака из Федькиной ватаги. Отбился от Берсеня и в лапы пятидесятника угодил. Пытал его Мамон крепко. Под огнем сболтнул о грамотках кабальных. На тебя с Афоней указал.
– Как о том изведал, отец?
– После обеда княжьи люди ко мне заявились. Злые, голодные. В подполье залезли. Медовуху с настойкой вытащили. Напились изрядно. Меж собой и проговорились о сундучке.
– Колпака видел?
– Богу душу отдал. Замучил его на пытке Мамон. Поспешай, родимый, беги из вотчины.
– Весь изъян на крестьян. Вот горюшко! – тоскливо вздохнул Пахом.
Иванка помрачнел. После недолгого раздумья проронил:
– Пойду Афоню вызволять.
Матвей всплеснул руками.
– Немыслимое дело затеял, родимый. В самое пекло лезешь. Туда сейчас княжьи люди нагрянут. Пытать Шмотка начнут.
– Тем более, отец. Афоню палачам не кину, – сурово проговорил Иванка и, засунув пистоль за кушак, решительно шагнул в темноту.
– Ох, бедовый!.. Исай-то как, Захарыч?
– Помер Исай. Два дня назад схоронили, – понуро вымолвил Пахом.
– Осподи Исусе! Да что ты, что ты, родимый! – ахнул бортник. Размашисто перекрестился и метнулся в избу к Прасковье.
Пахом, прихватив со двора веревку с вилами, побежал догонять Иванку.
– А ты пошто, Захарыч?
– Помогу тебе, Иванка. Нелегко будет ШмотЛа выручать.
– Ну, спасибо тебе, казак.
Подошли к княжьему тыну.
– Высоконько, парень. Забирайся мне на спину. Спрыгнешь вниз, а меня на веревке подтянешь, – тихо проговорил бывалый воин.
Так и сделали. Когда очутились за тыном, постояли немного, прислушались.
Застенок – позади хором. Возле входной решетки топтался дружинник с самопалом и рогатиной.
– Возьмем его тихо. А то шум поднимет, – прошептал Болотников.
Дождавшись, когда караульный повернется в другую сторону, Иванка, мягко ступая лаптями по земле, подкрался к челядинцу, рванул его на себя и стиснул горло.
– Рви рубаху на кляп, Захарыч.
Связанного караульного оттащили в сторону и подошли к решетке. На засове замка не оказалось. Иванка нашарил его сбоку на железном крюке и молвил сокрушенно:
– Выходит, припоздали мы с тобой, Захарыч. В Пыточной – люди.
– Ужель на попятную?
– Была не была, Захарыч. Бери самопал. Айда в Пыточную, – дерзко порешил Болотников.
В застенке находился Мокей. Раздосадованный мужичьей поркой, холоп еще час назад заявился в Пыточную, чтобы выместить свою злобу на узнике.
Афоню на дыбу он еще не вешал, а истязал его кнутом.
– Брось кнут! – крикнул Болотников, спускаясь с каменных ступенек.
Мокей оглянулся и, узнав в полумраке Иванку, выхватил из жаратки раскаленные добела клещи и в необузданной ненависти бросился на своего ярого врага.
Бухнул выстрел. Мокей замертво осел на каменные плиты. Болотников, выхватив из поставца горящий факел, наклонился над Афоней.
– Жив ли, друже?
Бобыль открыл глаза и слабо улыбнулся.
– Жив бог, жива душа моя, Иванушка.
Иванка швырнул факел в жаратку и подхватил бобыля на руки.
Бортник ожидал Болотникова возле двора. Долго оста» ваться в избе было опасно: вот-вот должны княжьи люди нагрянуть.
Иванка до самого крыльца нес Афоню на руках. Подошедшему Матвею молвил:
– Добро, что нас дождался. Просьба к тебе великая, отец. Спрятал бы в лесу Афоню.
Матвей призадумался, бороду перстами погладил. Наконец промолвил:
– Нелегко будет, но в беде не оставлю. Укрою в Федькиной землянке. В ней и Василиса нонче прячется. Там не сыщут… Но туда сейчас по реке следует плыть. Челн надобен, родимый.
– Возьми наш челн, отец.
Спустились к Москве-реке. Афоня крепился, но перед самым челном протяжно простонал.
– Крепенько избил меня, собачий сын. Все нутро отбил, лиходей.
– Крепись, родимый, не горюй. Старуха моя тебя поправит. Нам бы только до землянки успеть добраться.
– Выдюжу, голуба.
Иванка усадил Афоню в челн, крепко поцеловал.
– Будь молодцом, друже. Даст бог – свидимся.
– Удачи тебе, – тихо проропил бобыль.
Болотников повернулся к Матвею.
– Василисе передай – вернусь я. Пусть ждет меня. Береги ее, отец… Плывите с богом.
Пахом Аверьянов вывел навстречу Иванке коня, протянул меч в ножнах и узелок со снедью.
– Торопись, Иванка.
Болотников шагнул в избу, склонился над матерью, молча поцеловал и, проглотив горький комок в горле, вышел во двор.
– Не кручинься, сынок. За матерью я присмотрю. Прокормимся как-нибудь.
– Тяжело тебе будет, Захарыч. Мамона остерегайся. В случае чего – грамотками припугни. На меня сошлись. Скажи, что потайной ларец я с собой увез. Ну, давай прощаться.
– Далек ли путь твой, Иванка?
– В Дикое поле, к казакам, Захарыч.
– Праведную дорогу выбрал, сынок. Скачи!
Обнялись, облобызались, и Болотников взмахнул на коня.
Около своей полосы Иванка спешился и ступил к по-жиночному снопу, подле которого три дня назад нашли мертвого Исая.
Болотников снял шапку. Лихой, разгульный ветер буйно взлохматил кучерявую голову, обдал пьяняще-горьким запахом надломленной поникшей нивы…
ЧАСТЬ VIII
ПО РУСИ
Глава 1 БАГРЕЙ
Верный гривастый конь мчал наездника по лесной дороге. Вершник, надвинув шапку на смоляные брови, помахивал плеткой и зычно гикал:
– Эге-гей, поспешай, Гнедок!.. Эге-гей! Гулкое отголосье протяжно прокатывалось над бором и затихало, запутавшись в косматых вершинах.
Возле небольшого тихого озерца наездник спешился и напоил коня; распахнув нарядный кафтан, снял шапку, вдохнул полной грудью.
Вершник молод – высокий, плечистый, чернокудрый. Небольшая густая бородка прикрывает сабельный шрам на правой щеке.
Передохнув, наездник легко взмахнул на коня.
– В путь, Гнедок!
Вскоре послышался тихий перезвон бубенцов. Но вот перезвон приблизился и заполонил собой лес. Вершник насторожился: «Никак обоз».
Только успел подумать, как перед самым конем с протяжным стоном рухнула ель, загородив дорогу. Из чащобы выскочила разбойная ватага с кистенями, дубинами, рогатинами и обрушилась на обоз.
Трое метнулись к наезднику – бородатые, свирепые. Вершник взмахнул саблей; один из лихих, вскрикнув, осел наземь, другие отскочили.
А из чащобы – зло и хрипло:
– Стрелу пускай. Уйдет, дьявол!
Гнедок, повалившись на дорогу, заржал тонко и пронзительно. Стрела вонзилась коню в живот. Наездник успел спрыгнуть; с обеих сторон на него надвинулись разбойники.
– Живьем взять!
– Чалому голову смахнул… К атаману его на расправу.
Детина, сурово поблескивая глазами, отчаянно крикнул и бросился на ватажников. Зарубил двоих.
– Арканом, пса!
Аркан намертво захлестнул шею.
– Будя, отгулял сын боярский!
С обозом покончено. Мужики не сопротивлялись, сдались без боя. Дородный купчина, в суконной однорядке, ползал на карачках, ронял слезы в окладистую бороду.
– Помилуйте, православные! Богу за вас буду молиться. Отпустите!
– Кинь бога. Вяжи его, ребята.
– Помилуйте!
– Топор тя помилует, хо-хо!
Атаман пьян. Без кафтана, в шелковой голубой рубахе, развалился на широкой, крытой медвежьей шкурой, лавке. Громадный, глаза дикие, черная бородища до пояса. Приподнялся, взял яндову 133 133
Я н д о в а – большая открытая чаша с рыльцем, употребляемая в древней Руси для вина.
Четь, четверть – московская четверть в XVI-XVII вв. равнялась 6 пудам ржи или 5 пудам ржаной муки.
[Закрыть]со стола; красное вино залило широченную волосатую грудь.
Есаул обок; сидит на лавке, качается. Высокий, сухотелый, одноухий, лицо щербатое. Глаза мутные, осоловелые, кубок пляшет в руке.
Медная яндова летит на пол. Атаман, широко раскинув ноги, невнятно бормочет, скрипит зубами и наконец затихает, свесив руку с лавки. Плывет по избе густой переливчатый храп.
«Угомонился. Трое ден во хмелю», – хмыкает есаул.
Скрипнула дверь. В избу ввалился ватажник.
– До атамана мне.
– Сгинь!.. Занемог атаман. Сгинь, Давыдка.
– Фомка днище у бочки высадил. Помирает.
– Опился, дурень… Погодь, погодь. Ключи от погреба у атамана.
– Фомка замок сорвал. Шибко бражничал. Опосля к волчьей клети пошел, решетку поднял.
– Решетку?.. Сучий сын… Сдурел Фомка.
Одноух поднялся с лавки, пошатываясь, вышел из избы. Ватажник шел сзади, бубнил:
– Мясом волка дразнил, а тот из клети вымахнул – и па Фомку. В клочья изодрал, шею прокусил.
– Сучий сын! Нешто всю стаю выпустил?
– Не, цела стая… Вот он, ай как плох.
Фомка лежал на земле, часто дышал. Кровь бурлила из горла. Узнал есаула, слабо шевельнул рукой. Выдавил сипло, из последних сил:
– Помираю, Одноух… Без молитвы. Свечку за меня… Многих я невинных загубил. Помоли…
Судороги побежали по телу, ноги вытянулись. Застыл.
– Преставился… Атаману сказать?
– Не к спеху, Давыдка.
К вечеру разбойный стан заполнился шумом ватажников. Их встречал на крыльце Одноух.
– Велика ли добыча?
– Сто четей 1хлеба, семь бочонков меду, десять рублев да купчина в придачу, – отвечал разбойник Авдонька.
– Обозников всех привели?
– Никто не убег. Энтот вон шибко буянил, – ткнул пальцем в сторону чернокудрого молодца в цветном кафтане. – Троих саблей посек. Никак, сын боярский.
Глаза Одноуха сузились.
– Разденьте его. Нет ли при нем казны.
Боярского сына освободили от пут, сорвали кафтан и сапоги с серебряными подковами. Обшарили.
– Казны с собой не возит. Куды его, Ермила?
Ермила Одноух сгреб одежду, рукой махнул.
– В яму!
Боярского сына увели, а Ермила продолжал выпытывать:
– Подводы где оставили?
– На просеке.
– Хлеб-то не забыли прикрыть. Чу, дождь собирается.
– Под телеги упрятали. Чать, не впервой.
– Подорожную 134 134
Подорожная – проездное свидетельство.
[Закрыть]нашли?
– Нашли, Ермила. За пазухой держал.
– Давай сюда… И деньги, деньги не забудь.
Ватажник с неохотой протянул небольшой кожаный
мешочек.
– Сполна отдал? Не утаил, Авдонька?
– Полушка к полушке.
– Чегой-то глаза у тебя бегают. Подь ко мне… Сымай сапог.
Авдонька замялся.
– Не срами перед ватагой, Ермила. Нешто позволю?
– Сымай! А ну, мужики, подсоби.
Подсобили. Одноух вытряхнул из сапога с десяток серебряных монет.
– Сучий сын! Артельну казну воровать?! В яму! Ватажники навалились на Авдоньку и поволокли за
сруб; тот упирался, кричал:
– То мои, Ермила, мои кровные! За что?
– Атаман будет суд вершить. Нишкни!
– Что с купцом и возницами, Ермила? – спросил Да-выдка.
– В подклет. Сторожить накрепко.
Яма. Холодно, сыро, сеет дождь на голову. Боярский сын в одном исподнем, босиком, зябко повел плечами. Наверху показался ватажник, ткнул через решетку рогатиной.
– Жив, боярин? Не занемог без пуховиков? Терпи. Багрей те пятки поджарит, хе-хе.
Багрей! На душе боярского сына стало и вовсе смутно: нет ничего хуже угодить в Багрееву ватагу. Собрались в ней люди отчаянные, злодей на злодее. На Москве так и говорили: к Багрею в лапы угодишь – и поминай как звали.
– Слышь, караульный.
Но тот не отозвался: надоело под дождем мокнуть, убрел к избушке.
Багрей проснулся рано. За оконцами чуть брезжил свет, завывал ветер. Возле с присвистом похрапывал есаул. Пнул его ногой.
– Нутро горит, Ермила. Тащи похмелье 135 135
Похмелье – одно из известных изделий русской кухпи. Оно состояло из нарезанных ломтиков холодной баранины, перемешанных с искрошенными солеными огурцами, уксусом, огуречным рассолом и перцем.
[Закрыть].
Одноух, позевывая, побрел в сени. Вернулся с оловянной миской, поставил на стол.
– Дуй, атаман.
Багрей перекрестил лоб, придвинул к себе миску; шумно закряхтел, затряс бородой.
– Свирепа, у-ух, свирепа!
Полегчало; глаза ожили.
– Сказывай, Ермила.
Одноух замешкался.
– Не томи. Аль вести недобрые?
– Недобрые, атаман. Худо прошел набег, троих ватажников потеряли. Боярский сын лихо повоевал.
– Сатана!.. Сбег?
– На стан привели. В яме сидит.
– Сам казнить буду… Что с обозом? Много ли хлеба взяли?
Одноух рассказал. Доложил и об Авдоньке. Багрей вновь насупился.
– Не впервой ему воровать. Ужо у меня подавится. Подымай, Ермила, ватагу.
– Не рано ли, атаман? Дрыхнет ватага.
– Подымай!
Разбойный стан на большой лесной поляне, охваченной вековым бором. Здесь всего две избы – атаманова в три оконца и просторный сруб с подклетом для ватажников. Чуть поодаль – черная закопченная мыленка, а за ней волчья клеть, забранная толстыми дубовыми решетками.
В ватаге человек сорок; пришли к атамановой избе недовольные, но вслух перечить не смели.
Обозников и купца привели из подклета; поставили перед избой и Авдоньку с боярским сыном.
Одноух вышел на крыльцо, а Багрей придвинулся к оконцу, пригляделся.
«Эх-ма, возницы – людишки мелкие, а купчина в теле. Трясца берет аршинника. Кафтан-то уже успели содрать… А этот, с краю, могутный детинушка. Спокоен, сатана. Он ватажников посек… Погодь, погодь…»
Багрей даже с лавки приподнялся.
«Да это же!.. Удачлив день. Вот и свиделись».
Тихо окликнул Одноуха.
– Дорогого гостенька пымали, Ермила. Подавай личину 136 136
Личина – маска.
[Закрыть].
– Аль знакомый кто?
– Уж куды знакомый.
Когда Багрей вышел на крыльцо вершить суд и расправу, возницы и купец испуганно перекрестились. Перед ними возвышался дюжий кат 137 137
К а т – палач.
[Закрыть]в кумачовой рубахе; лицо под маской, волосатые ручищи обнажены до локтей.
Купчина, лязгая зубами, взбежал на крыльцо, обхватил Багрея за ноги, принялся лобзать со слезами.
– Пощади, батюшка!
А из-под личины негромко и ласково:
– Никак, обидели тебя мои ребятушки. Обоз пограбили, деньги отняли. Ой, негоже.
Купчина мел бородой крыльцо.
– Да господь с ними, с деньгами-то. Не велика обида, батюшка, не то терпели. Был бы тебе прибыток, родимый.
– Праведные слова, борода. Прибыток карман не тянет! – гулко захохотал Багрей, а затем ухватил купца за ворот рубахи, поднял на ноги. – Чьих будешь?
– Князя Телятевского, батюшка. Торговый сиделец 138 138
Сиделец – приказчик, продавец в лавке, за стойкой в кабаке.
[Закрыть]Прошка Михеев. Снарядил меня Ондрей Ондреич за хлебом. А ныне в цареву Москву возвращаюсь. Ждет меня князь.
– Долго будет ждать.
Пнул Прошку в живот; тот скатился с крыльца, ломаясь в пояснице, заскулил:
– Помилуй, батюшка. Нет за мной вины. Христом богом прошу!
– Никак, жить хочешь, Прошка? Глянь на него, ребятушки. Рожей землю роет.
И вновь захохотал. Вместе с ним загоготали и ватажники. Багрей ступил к Авдоньке.
– Велика ли мошна была при Прошке?
– Десять рублев 139 139
На один рубль в XVI веке можно было купить лошадь.
[Закрыть], атаман. А те, что Ермила нашел…
– Погодь, спрячь язык… Так ли, Прошка?
– Навет, батюшка. В мошне моей пятнадцать рублев да полтина с гривенкой, – истово перекрестился Прошка. – Вот, как перед господом, сызмальства не врал. Нет на мне греха.
– Буде. В клеть сидельца.
Прошку потащили в волчью клеть, Авдонька же бухнулся на колени.
– Прости, атаман, бес попутал.
Багрей повернулся к ватажникам.
– Артелью живем, ребятушки?
– Артелью, атаман.
– Казну поровну?
– Поровну, атаман.
– А как с этим, ребятушки? Пущай и дале блудит?
– Нельзя, атаман. Отсечь ему руку.
– Воистину, ребятушки. Подавай топор, Ермила.
Авдонька метнулся было к лесу, но его цепко ухватили
ватажники и поволокли к широченному пню подле атамановой избы. Авдонька упирался, рвался из рук, брыкал ногами. Багрей терпеливо ждал, глыбой нависнув над плахой.
– Левую… левую, черти! – обессилев, прохрипел Авдонька.
– А правую опять в артельную казну? Хитер, бестия, – прогудел Багрей и, взмахнув топором, отсек по локоть Авдонькину руку. Ватажник заорал, лицо его побелело; люто глянул на атамана и, корчась от боли, кровеня порты и рубаху, побрел, спотыкаясь, в подклет.
Багрей, поблескивая топором, шагнул к боярскому сыну.
– А ныне твой черед, молодец.
Из волчьей клети донесся жуткий, отчаянный вопль Прошки.








