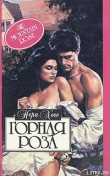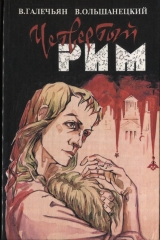
Текст книги "Четвертый Рим"
Автор книги: В. Галечьян
Соавторы: В. Ольшанецкий
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 48 страниц)
В клубах дыма посреди купе восседал на столике Пузанский, полуобняв за плечи Василия. Слева и справа от них замерли шестеро китайцев, а если точнее сказать, китаянок в одинаковой длины синих шелковых платьях. Каждая в руках держала маленькую рюмочку с водкой, а Пузанский командовал.
– На третий счет, не пролив ни капли, поднести ко рту и выпить. Ать, два, три...и в дамки.
Китаянки согласно щелкнули челюстями и, не поморщившись, снова неподвижными глазами уставились на педагога. Тот из-за спины достал початую примерно на треть бутылку и стал разливать, стараясь не попасть китаянкам на колени. Учитель был строг и абсолютно пьян.
– Вот мальчик бедный, – сказал, входя за Луцием, китаец, – не пьет, девочек не... – и он повторил точь в точь сказанное с теми же самыми грамматическими ошибками.
Василий, увидев брата, с жалобным писком попытался встать, но тяжелая рука педагога его не пускала.
– Ать, два, три... и в дамки! – снова проревел учитель, и уже семеро рук послушно поднялись ко ртам и щелкнули семеро пар зубов.
А китаянки-то прехорошенькие", – подумал Луций.
Пузанский повернул к нему красное, залитое потом лицо с оттопыренными мокрыми усами и скомандовал:
– Штрафную! Луций не успел опомниться, как в руках у него очутился граненый стакан, доверху наполненный белой едкой влагой.
– Это большая человек, – почтительно сказал за его спиной китаец в штанах и панаме, который привел Луция. – Он нам Петербург обещал еще помочь, ты его слушайся.
Китаец вежливо, но твердо стал поднимать ко рту левую руку Луция с зажатым в ней стаканом. Чтобы не пролить содержимое на себя, пришлось влить водку вовнутрь. Как во сне Луций сел, протиснувшись между стенкой и юной китаянкой с лентой в волосах. Китаец встал над ним и возбужденно заговорил:
– Я купец из Китая. Это мои дети. Я их всех привез Россия. Я хочу купить маленький универмаг. Хочу получать деньги. Рубли хочу. В Москве уже открыл китайский торговый дом. Вор меня сжигал. Москва – плохой город для торговля. Все равно что Пекин. Пекин – социалистическая идея. Москва – монархическая идея. Все равно торговать не дают. Я хочу в Петербург. Там у них капиталистическая идея. Там китайца будет шить наша материя, готовить обед китайская продукта. Он сказал, может нам получить домик. Маленький домик для китайский товар. Десять этажей. Это очень хороший человека, но пьяный.
Луций решительно встал, отлепил от себя чьи-то тянущие вниз руки и подошел к педагогу.
– Все, – сказал он решительно. – Нам пора спать. Помогите-ка поднять тело.
Китайцы поняли его с полуслова. Враз они встали по бокам Пузанского и, не обращая внимания на его приказания и угрозы лишить всего и выслать в Бомбей, вынесли страдальца из купе. Хрупкие китаянки продемонстрировали богатый опыт общения с грузными телами, потому что их суммарный вес едва ли превышал вес педагога, но согласованные действия и видимый навык позволили в одно мгновение подтащить Пузанского к двери нужного купе. Только тут Луций вспомнил о забавляющейся за дверью парочке и приуныл, прикинув, как будет поднимать педагога в одиночку. Но дверь на удивление легко поддалась, само купе оказалось пустым. Наверно, мужчина с блинообразным лицом себя переоценил и хватило ему каких-нибудь десяти минут.
"Что же это получается, – подумал юноша, когда педагог, да и слабо сопротивляющийся Василий были доставлены вовнутрь и положены на койки. – То я пьян, как сапожник, то начальник. Какие же это мы в Петербург приедем. Да и когда?"
Как бы в ответ на его размышления поезд дернулся и затих. Луций выглянул в окно. На этот раз перед ними лежала в низине деревня. Какие-то бабки с корзинками забегали вдоль путей, послышался лай собак и мужские командные голоса. Луций вышел из купе, жестом удержав брата на полке, и тщательно закрыл за собой дверь. Педагог при его движениях глаз не разомкнул.
С удивлением и радостью Луций увидел, что охраны у вагона прибавилось. Человек десять солдат стояло в очередь за домашним кваском, который жбанами продавал дед в не по-летнему пушистом треухе. Рядом торговали картошкой, молодыми зелеными яблоками и кислой капустой. Луций накупил всего, что видел глаз, отнес в купе и сгрузил на стол. Потом, захватив с собой маящегося бездельем брата, вновь спустился на землю. Он заметил две знакомые мощные фигуры, которые, раздвигая толпу перед собой, как воду бреднем, подошли к бабусе, торговавшей вяленой рыбкой, и купили у нее весь мешок. Очередь заволновалась, раздались даже весьма бранные слова, но лица бойцов были по-прежнему невозмутимы. Один из них подошел к понурому толстомордому старшине и сказал веско:
– Слышь, старшой, поезд без нас не пускай. Мы вон на том пригорке станем пиво пить, – и сунул старшине пару крупных мясистых воблин.
Кроме военных, мимо Луция шныряли вездесущие китаянки. Двое грузин в спортивных костюмах медленно понесли свои животы, появился блинолицый мужик со своей подругой, но скоренько слинял в кусты. Братья выбрали по крупной картофелине и расположились у кустов на солнцепеке, наблюдая за вагоном, не удрал бы.
– Послушай, – спросил Василий. – Откуда здесь весь этот народ, если других вагонов, кроме нашего, нету, а есть распоряжение никого не подсаживать.
– Самозарождение, – сказал Луций таинственно. – Прямо из воздуха гигнулись. И в наш вагон.
– А солдаты?
– Да вон дрезина стоит позади вагона, на ней прикатили.
И братья задумались. Луций – о том, какое значение придают в Москве встрече Пузанского с петербургскими властями, если дали ему такое мощное сопровождение. А Василий думал о своих родителях, надежду на встречу с которыми так неосторожно заронил в нем Никодим.
И только он о Никодиме подумал, как возле дрезины возник человек, как две капли воды на него похожий. Только одет он был почему-то в солдатский мундир, защитного цвета брюки и сапоги. Человек впрыгнул на дрезину и стал ковыряться в моторе.
"Наверно, я ошибся", – подумал Василий и решил ничего не говорить брату. Но тем не менее он не мог оторвать взгляда от человека на дрезине.
– Опять, наверно, весь день простоим, – сказал Луций. – Вон и машинист куда-то уперся. Ну что, брат, мы с тобой и не поговорили толком. Расскажи, как успехи, какие там у вас течения религиозные произрастают, не бьют ли учителя.
– Нет, не бьют, – сказал Василий, ухватив, естественно, последнюю фразу. – Друзья у меня там есть, очень умные, умнее всех у нас. Мы с ними хотели в Крым удрать, да валюты так и не собрали.
– Какая же сейчас там валюта ходит? Тугрики или динары? Чей он, Крым?
– Я последний месяц все статьи про Крым читал, – объявил Василий с гордостью. – Крым теперь федерация из четырех независимых республик: Татарской, Русской, Украинской и Греческой. И между ними все время идет борьба за пересмотр границ. Только вот все Черноморское побережье находится в общем владении и войны там нет. Коны... Конвенцию они заключили, чтобы туристов не спугивать.
– Да бог с ним, с Крымом, – сказал в сердцах Луций. – Вот что брат, ты мать-то помнишь?
Василий ничего не ответил и только наклонил к самым коленям стриженую голову.
– Ладно, прости, – сказал Луций после длительного молчания. – Расскажи лучше, ты сам в какой группировке?
– A y нас нет группировок, сам святой Даниил не велел группироваться. Мы все вместе. И директор наш тоже просил не размежевываться по кучкам.
– Чему же вас там учат?
– Религии, христианской да Евангелию от Даниила Андреева. Потом еще математике и разным языкам. Вообще-то группы у нас тоже есть. По крови.
– А у вас что, нерусских много?
– Нет, просто кто из разночинной семьи, кто из дворянской, всяк за свою держится.
– А ты из какой значишься?
– Из никакой. Мы втроем дружим. И он замолчал, только жмурился на солнце и сопел носом. Похожий на Никодима солдат починил свою дрезину, мотор на ней заурчал, и она медленно двинулась прочь от поезда. Пройдя несколько десятков метров, дрезина остановилась, и солдат соскочил с нее. Потом оглянулся, бросил косой взгляд, как показалось Василию, прямо на него и исчез за кустами. Тут же и солнышко скрылось.
Василий вернулся в купе. Луций было последовал за ним, но споткнулся от сильного удара попавшего по ноге камня, остановился, ищя шутника, и услышал веселый смех. Юноша мог поклясться, что это была та самая китаянка, которая, оттеснив всех, заигрывала с ним в купе, а когда он пытался отворачиваться от нее, выплескивала водку из своей рюмки ему на ноги. На самом деле Луцию было приятно сидеть рядом с этой девочкой, уж очень она напоминала ему Лину. Если бы не цвет кожи и форма бровей, их было бы вовсе не отличить.
Китаянка поманила юношу, и он покорно похромал в ее сторону.
– Моя просит большого пардона, – с испугом во взгляде проворковала девочка, коверкая слова, бросилась к Луцию, поцеловала его ногу в ушибленное место и на мгновение прижалась к нему.
– Что ты, что ты... – растерянно шептал он. – Все это ерунда. Уже прошло!
Они сели рядом под кустом со стороны поезда. Луцию неудобно было оказаться на всеобщем обозрении: пассажиры, как ему казалось, не сводили с него насмешливых глаз. Китаянке же все это было совершенно безразлично. Она взяла руки юноши в свои и нежно ласкала их.
– Как тебя зовут? – наконец сообразил познакомиться Луций.
– Сестрица Ли, – ответила девочка и озорно сверкнула глазками. – Почему твоя не целует меня?
Луций, сам не понимая, как это случилось, припал к губам девочки, прижав к себе всю ее. В это время раздался хриплый гудок, и никогда никуда не спешащий состав вдруг дернулся, лязгнув всеми своими металлическими составляющими, готовясь отъезжать. Китаянка, схватив юношу за руку, проворно потянула его к поезду, и они на ходу влетели в вагон. Причем еще не известно, кто кому помог взобраться на подножку.
Подходя к своему купе, девочка, привстав на цыпочки, крепко поцеловала Луция и протянула ему бумажку.
– Надо помощь, моя будет тут, – ткнула она пальцем в петербургский адрес, ровным счетом ничего не говорящий юноше. – Спроси сестрица Ли!
Сверкнув глазами, китаянка заскочила в купе, но дверь за ней не захлопнулась, а, наоборот, широко раскрылась, и низко поклонившийся Луцию мистер Цянь церемонно пригласил его войти.
За время стоянки не только произошла полная перемена блюд, но даже скатерть на столе появилась новая, вся изукрашенная пагодами и радостными крестьянами с мотыгами на рисовых чеках. Словно воспрявший из небытия дракон, над столом царил Пузанский. Тоненькие китаянки незаметно, как по волшебству, наполняли его чашку желтой жидкостью – "китайской водкой", решил про себя Луций. Преподаватель же невозмутимо заглатывал хрустящие китайские пельмешки из блюда, напоминающего вазу. Судя по множеству пустующих тарелок, было совершенно очевидно, что Пузанский произвел немалое опустошение на столе. Мутным взглядом он зафиксировал Луция и кивнул ему на маринованную капусту и салатики из трав, к которым относился без уважения.
– А что в Китае на самом деле существует гуманизм? – вполне осмысленно обратился к господину Цяню Пузанский.
– Наш держава, как Европа четырнадцатый – шестнадцатый век, Иран, Индия – девятый – тринадцатый век, имел свой Возрождение – тринадцатый – пятнадцатый век, – почтительно, но с видимой гордостью отвечал китаец.
– Понимаете ли, – махнул очередную чашечку Пузанский, – как я представляю себе ход исторического процесса в названные времена: китайцы выпутывались из хламид конфуцианства, мусульмане слегка дистанцировались от своего мессии, итальянцы ставили на место зарвавшегося папу, поскольку религиозный догматизм препятствовал прогрессу. Реализация телодвижений Возрождения была невозможна без развития представлений о ценности личности. Только, по-моему, гуманизм характерен для стран с небольшим населением ввиду ограниченности человеческого материала. Не случайно, что гуманизм пришел не в Римскую или Византийскую империю, а в их крохотный осколочек – Италию.
– До крестьянский восстания "желтый повязка" население Китая третий век был пятьдесят миллиона человека, осталась семь с половина миллион человека. Династия Цинь объединил Срединная империя. Мала успеха. Пятый век, умерла четыре из пяти китайца. Только шестой век пришла великая династия Тан, Будда из Индии, китайская Возрождение, опять начала расти китайца. До тех пор, и еще потом мала китайца, очень мала. Плохо.
– Ага! – удовлетворенно крякнул Пузанский, заглатывая очередную чашку.
Луций в свою очередь воспользовался технологическим перерывом в беседе, попросив ему разъяснить разницу между конфуцианством и буддизмом.
– Кун-Фу-Цзы – ум, наука, не бог, – начал пояснение господин Цянь. – Государственный религий древние времена и до седьмой век – дао—"правильный путь". Кун Цзы и дао– ум и вера вместе, не мешай друг дружка. Учитель Кун сказала: «Если утром познаешь правильный путь – дао, вечером можно умереть», и еще сказала: «Там, где царит человеколюбие, – прекрасно», и еще: «Тот, кто искренне стремится к человеколюбию, не совершит зла», – произнеся три цитаты, китаец тяжело вздохнул, как будто совершил большую работу. – После седьмой век – два религия: дао и Будда, одна наука Кун-Фу-Цзы. Кун-Цзы для знатная, достойная человека; Будда для деревенщина. Вы звать гуманизм, мы – человеколюбие. Умный человек верит Кун-Цзы. Управлять наука – правильно.
Рыгнув и крякнув, вновь возродился к жизни Пузанский. Обняв господина Цяня прямо через проход, он взялся радостно целовать его. Вдавленный въехавшей в него тушей в стенку купе, китаец, ища спасения, попытался вернуть Пузанского к теме разговора. Тот, как ни странно, отпустил китайца и просветленно взглянул вдаль. Крепко профессионально подготовленный преподаватель продолжил мгновенно и по существу.
– Если деятели китайского Возрождения, как об этом свидетельствует уважаемый господин Цянь... – кивнул Пузанский китайцу, притом настолько почтительно, что и все его грузное тело потянулось вслед за головой, пока вскочившие китаянки с трудом не вернули преподавателя в исходное положение. Не обращая внимания на подобные мелочи, Пузанский невозмутимо продолжил: – Так вот, если в Китае видели ценность человеческой личности главным образом в способности к самосовершенствованию, а гуманисты мусульманской Азии признавали доступность человеку высших моральных качеств, таких, как душевное благородство, великодушие, дружба, то представители Ренессанса в Италии ориентировались на человека как носителя разума, считая его высшим проявлением человеческого начала.
Заметив, что китаец не решается прервать Пузанского, очевидно, опасаясь непредвиденной реакции преподавателя, Луций подал голос:
– Уважаемый метр, скажите, свойствен ли гуманизм русскому человеку и был ли он когда-нибудь на Руси?
– Подожди, – пьяно отмахнулся Пузанский. – Вопрос твой может и правилен, но не своевременен. Внемли и услышишь. Так вот, вы, мой уважаемый восточный друг, подтвердили один постулат моей теории, – проговорил заплетающимся языком преподаватель, и тут же с видимым удовольствием заговорил с твердостью в голосе: – Условием прихода гуманизма в истории была малочисленность населения даже в таком громадном регионе, как Китай. Это условие прозвучало у нас первым, но оно не основное. Самое время расширить наше понимание. Итак, когда же гуманизм пришел в Россию и почему никогда не побеждал в Китае? Слушай, отрок, – повернулся Пузанский к Луцию и попытался многозначительно приподнять перст, однако рука безвольно опустилась на колено. Преподаватель в пьяном удивлении посмотрел на непослушную руку и с радостью прочистил горло, засвидетельствовав послушность языка. – Важнейшим условием гуманизма служит частная собственность на землю. В Китае ее не было никогда, потому и гуманизм там отсутствует. В России со Столыпинской реформой пришел Серебряный век.
Большевики отобрали у народа землю, а значит, и свободу и повернули историю вспять. Подобную картину мы наблюдали и в конце века, когда демократию свалила неразрешимость проблемы продажи земли. – Необычайная твердость голоса Пузанского свидетельствовала о том, что он оказался в наезженной годами колее. – Таким образом, гуманизм не разделим со свободой личности, и значит, истинно гуманен может быть только свободный человек! Как я! – гордо воскликнул Пузанский, и с этими словами, едва успев положить руки на столик купе, плюхнулся на них головой, так что стол заскрипел и закачался под тяжестью могучего удара.
3. ГРУЗИНЫКогда Луций кончил беседовать с сестрицей Ли в коридоре вагона и, тяжело поднявшись с приставного сидения, направился в собственное купе, Пузанский уже проснулся и теперь воодушевлялся любимым способом. Бутылка грузинского коньяка «Лезгинка» тряслась в руках Пузанского, два не менее пузатых, уже виденных братьями грузина важно восседали на койке, и каждый держал в руке по щепотке кислой капусты. Пузанский вещал, а грузины внимательно его слушали.
– Всяк пророк в нашем отечестве пытается сыскать ту гнилую сердцевину, из-за которой обрушилась Советская империя. Один называет причиной всего извращения монетарной системы, когда рубль из международного платежного средства превратился в простой символ распределения. Другой – уничтожение частной собственности, которое привело к превращению людей в рабов государства. Третий твердит об угнетении духа, что создало предпосылки для гибели лучших умов страны. Кое-кто скажет, что виной всему железный занавес, отрезавший страну как от Востока, так и от Запада.
Есть такие взгляды, что крушение стало возможным просто в результате прихода к власти Антихриста в лице Сталина, забывая, что и до и после него правили люди разные: и более мудрые и совсем дюжинные, но с тем же результатом. Но ведь исторический итог чудовищен!
Дважды всего за три четверти века разлеталась вдребезги великая государственность, и радиоактивные осколки от второго взрыва мы с трудом стараемся собрать. Сколько угодно можно твердить о бездуховности, забитости, покорности, фатуме русских, но этим не объяснить, как они могли создать столь совершенную бюрократию, затем разрушить до основания и за самый короткий срок воссоздать и тут же снова потерять вожжи управления. Смешно сказать, на чем зиждутся надежды сторонников возрождения России в ее прежних границах. Только на том, что дальше ехать некуда, что хуже быть не может, что мельче делиться невозможно. А если возможно? Если в великий голод девяносто девятого вымерло около двадцати процентов населения, то почему в следующий неурожай не может остаться всего пятьдесят процентов.
– Подожди, дорогой, мы пьем драгоценный коньяк за чужие мысли. Это неправильно. Скажи, что ты сам об этом думаешь?
– Наливай, – проруководил Пузанский и продолжил: – Что я могу об этом думать. Я не соучастник событий семнадцатого года, но истинное значение произошедшего почти за сто лет настолько выкристаллизовалось, что итоги очевидны. Понятно, что не было бы семнадцатого года, не наступил бы август девяносто первого и октябрь девяносто третьего. Но мне, как очевидцу событий девяностых годов, еще не удалось дистанциироваться от них настолько, чтобы с полной очевидностью заявить: вот это так, а это эдак. Я думаю, что самые осязаемые и видимые причины второго взрыва, на этот раз антикоммунистического, коренятся в двух нестабильных параметрах существования империи: первое – абсолютный развал экономики из-за порочной установки на управление и второе – безумный раздел территорий по национальному признаку с Севера до Юга и с Запада на Восток, когда в каждой границе оказалась заложена мина междоусобной войны. Еще свое слово в этом сказала и вторая мировая, которая перекроила не меньше границ, чем самодержавие Сталина. Как только клей действующей экономики перестал держать, все рухнуло и рушится до сих пор. Однако почему так произошло, почему самоликвидировалась победоносная Российская империя, как могла разложиться выигрывающая войну за войной армия, я не знаю. Можно только сказать о роковой предопределенности распада, о фатальной неизбежности и безжалостности исторического колеса. Глупо проверять историю геометрией, но мне колесо ближе, чем идея исторической спирали, которой мы пичкаем наших учеников почти пятьдесят лет. Нет никакого витка прогресса, есть только скрипучее колесо истории, перемалывающее племена, народы и влекущее мир в хаос!
Закончив на такой высокой ноте, Пузанский почему-то встал и раскланялся. Грузины вежливо усадили его назад и, оглянувшись на молча глазеющих на них братьев, предложили выпить за юное поколение.
– Вот вы все говорите, Россия, Россия, – поднялся более молодой грузин, похожий на демона из известной поэмы Лермонтова, – а у нас в Грузии те же мины рвутся. Вы знаете, сколько лоскутов из Грузии понаделали: восемь. Вот я – потомственный князь Амашукели – избран национальным главой Кахетии, но разве я хотел отделения Кахетии от Тбилиси? Клянусь богом – нет. Кто этого хотел? Честолюбцы! Механизм здесь простой. Никто не хочет понять, как война начинается. Если взять в целом народ, то он не хочет войны. Потому что платить за нее народу. Но в любой нации есть честолюбцы, которые прекрасно понимают, что ослабление власти дает им единственный в их жизни шанс из золотаря и кухарки стать президентом. Такие люди кучкуются и очень простыми способами начинают нагнетать атмосферу. Они кричат на всех углах, что ближайшие соседи претендуют на их земли и что с этими соседями надо разобраться. Кроме того, к власти тихой сапой стараются подобраться отстраненные коммунистические круги, которые тоже понимают, что у них нет другого шанса, как война. Чтобы раздуть угольки, они зверски убивают нескольких своих соплеменников и выдают это грязное дело за руку соседа. Тоже самое происходит и с другой стороны, пока страсти не начинают закипать. Пусть всего населения один миллион, разве трудно выскрести из этого миллиона пять – десять тысяч боевиков с одной стороны и с другой стороны. Начинаются пограничные инциденты, ущемление тех нацменьшинств, чьи территории прилегают к вашей, они изгоняются и истребляются. Те, кто вернулись без крова и работы, пополняют ряды боевиков. Так процесс обостряется, пока не выходит из-под контроля. А серия политических убийств подливает бензин в раздувающийся огонь национализма. И все. Игра сделана. В дело вмешиваются регулярные войска. Пошла потеха.
– Вопрос в другом, – вмешался грузин постарше и снова разлил коньяк в рюмки. – Где граница этого дробления бывших государств империи? Ведь появившиеся куски мало того, что заявляют о своем полном суверенитете, они же немедленно начинают предъявлять друг другу территориальные претензии и грозить кровной местью за убиенных. Так вот, как вы думаете, уважаемый учитель, где конец этому дроблению? Не получится, что каждый город, каждый район, а может, и улица объявят себя независимым государством, хотя я понимаю, что это абсурд.
– Это все было, – сказал Пузанский угрюмо. – Так же распадались великие империи и снова собирались. Так же были республики, города и государства из нескольких тысяч человек. Индия средневековья или Германия всего двести лет назад – вот вам реальные модели исторических движений полисов, и никто вам не скажет, когда оно кончится и начнется новое собирание. Можно я вам задам один вовсе простой вопрос: захотела бы Кахетия стать пятьдесят вторым американским штатом?
– Нет, – ответили грузины в один голос, и усы у них раздулись от негодования. – Мы свободный народ и ни под каким богатым дядюшкой сидеть не будем.
– Даже смешно об этом спрашивать, – добавил второй грузин нервно и отодвинул в сторону бутылку.
– А почему, собственно, – спросил лукаво учитель, – вы отказываетесь сразу и бесповоротно, даже не узнав, какими правами обладает американский штат? По сравнению с тем, сколько воли имела Грузия в составе СССР, любой американский штат вольнее многих государств. Значит, в вашей тяге к объединению присутствует другой критерий, а не желание видеть своих сограждан просто богатыми и независимыми.
– Свободными! – крикнул младший грузин и поднял высокую руку с зажатой в ней рюмкой.
– Скажите, господа, – спросил Луций, внезапно ныряя в разговор, смысл которого был ему даже интересен, – а вы откуда в вагоне появились? Как, впрочем, и все остальные.
– Хороший мальчик, – одобрил его старший грузин и потянулся к бутылке. – Хочешь выпить, пей, но не мешай разговору.
– Нет, все-таки, – послышался уже другой голос – хриплый и с оттенком угрозы, – отвечайте, раз вас спрашивают.
Луций поднял голову и увидел одного из сопровождающих их бойцов, который стоял в проходе, чуть ли не весь его загораживая, и смотрел на обоих грузин весьма требовательным взглядом.
– А ты что, контролер? – возмутился молодой грузин.
Другой, более опытный в обращении с людьми его остановил.
– Не будь таким грозным, дорогой, – произнес он примирительно. – Сейчас мы все тебе покажем. Зайдем с нами в купе.
– Еще чего, – презрительно посмотрел на него боец. Он малость пригнулся и сел на койку рядом с грузинами. – Сам принесешь. И немедленно.
– Да ты кто такой, чтобы здесь командовать? – набычился на него грузин с демоническим выражением лица, но снова был остановлен своим старшим товарищем.
– Сейчас, геноцвали, принесу, не горячись.
– Предписание, – прочитал боец, – выдано военным министром Российской империи... так, так. И сколько вас в купе едет, четверо?
– Интересно, у китайцев тоже такое предписание есть? – спросил простодушно Василий.
Боец внимательно прочитал документ и вернул грузинам.
– Ладно, ребята, выметайтесь, нам поговорить надо.
На этот раз грузины спорить не стали и, попрощавшись дружески с Пузанским, вышли из купе.
– Шутки в сторону, – сказал боец, в упор разглядывая Пузанского и его юную команду. – Как я могу обеспечить вашу безопасность, если весь вагон набит фраерами и бабьем? Тут надо не только день и ночь следить за вашим купе, но и тщательно проверить всех, кто в вагоне едет. Но проверять их по-настоящему нет смысла, потому что тот, кто послан по вашу душу, наверняка подкреплен наилучшими документами.
– Почему, собственно, нас надо охранять? – спросил Пузанский. – О целях нашего путешествия знает несколько человек. Даже сам регент еще не осведомлен. Мне кажется, вы больше привлекаете к нам внимание своими мощными фигурами.
– Вот ты мне будешь доказывать, – поморщился боец.
– И вообще, дед, по контракту мы обеспечиваем твою безопасность до Бологого. Дальше у нас свои дела.
– Далеко ли до середины пути? – спросил Луций. – Все едем и едем, конца не видно.
– Это только начало, – усмехнулся боец. – Если не будет неожиданностей, дней через пять-шесть доберемся до пересадочной станции.
– А там еще дней десять, – предположил Луций.
– Да нет, – загадочно ответил боец. – Там начнутся другие порядки. До Бологого добрался – считай приехали.
– Скорее бы, – вздохнул Василий, глядя в окно, где медленно стлался тот же унылый березово-елочный пейзаж, перемежающийся голыми пустошами и ржавчиной болот.
Как бы в такт его словам поезд, как он обычно делал перед остановкой, весь уныло заскрипел и стал тормозить.
– Пять минут едем, пять часов стоим, – вздохнул Пузанский. Он взял непослушной рукой бутылку с остатками коньяка и стал разливать по стаканам.
– Выпьем за Россию, – сказал он азартно. – Хоть она и дура, так большая, по крайней мере.
Внезапно в купе постучали. Вошел толстый старшина с белым от страха лицом. В руках у него торчал автомат со вздернутым вверх дулом, левая брючина почему-то была засучена до колен.
– Беда, ребята, – проблеял он, – впереди завал, а дрезина с охраной отстала. Надо завал разбирать, а то перережут нас всех.
– Это точно, – подтвердил Пузанский, не делая, впрочем, никаких попыток подняться. – Эти места самые разбойные. От Москвы далеко, от черемисов близко. Тут шайки от Орла до Ельца шастают. Я перед отъездом сводки читал.
– Дай автомат, орясина, – прикрикнул боец на старшину. – Ты что раньше времени нас хоронишь. Пойдем посмотрим на твой завал.
– И я с вами, – воскликнул Луций. – Мне бы только пистолетик какой поплоше. Для самообороны. А ты сиди, – кинул он брату. – Охраняй лучше шефа.
По другим купе уже ходил второй охранник, объясняя что-то пассажирам. Открывались и закрывались двери, невиданные раньше личности выглядывали в коридор и снова прятались. Где-то ругались. Неожиданно высокий девичий голос затянул песню.
Старшина, боец и Луций вышли в тамбур. С обеих сторон полотна через забрызганные недавним дождем стекла видны были зеленые купы деревьев. Старшина открыл дверь и стал спускаться. После некоторого раздумья боец последовал за ним. Автомат он отдал старшине, а сам вытащил из-за пояса большой белый пистолет с длинным дулом.
– Израильский, – уважительно покосился на пистолет старшина. – Сташестидесятизарядный.
"А по виду не скажешь, – подумал Луций. – Обыкновенный пистолетик, барахло барахлом".
Они постояли немного, держась за поручни, а потом медленно, с трудом переставляя ноги по вязкой, сырой, бестравной земле, пошли к поезду. Перед тепловозом в самом деле на путях была навалена гора из свежесрезанных различной толщины стволов, пластов земли и просто крупных камней. Венчал эту гору поваленный какой-то злой силой еще цветущий в три обхвата тополь с ободранной макушкой. Его вырванный вместе с корнями и покрывающей их землей комель торчал метрах в пяти от рельсов.
– Надо нам дружно на эту кучу навалиться, – озабоченно рассуждал старшина, – и враз ее растащить по сторонам. А то разбойники острастку нам дадут знатную. Может, вы тут посмотрите, что и как, а я пойду народ подсоберу.
– Ты генеральный штаб случайно не заканчивал? – спросил его хмурый боец и, еще раз внимательно оглядев завал и близлежащий лесной массив, быстро пошел к вагону. При этом глаза его все время рыскали по ближайшему мелколесью, а полусогнутые ноги и вся враз съежившаяся фигура указывали, что он в любой момент готов нырнуть под вагон и залечь.
– Нет еще, – заулыбался было старшина, но боец тут же его осадил.
– Это и заметно, – сказал он, – что у тебя в башке никакой ни тактики, ни стратегии. Подстрелят нас с тобой как вальдшнепов на утренней зорьке. Как ты полагаешь, для чего эта куча на дороге навалена?
– Чтобы поезд остановить.
– Это и ежику понятно. А дальше? Молчишь?.. Поезд они остановили. Он через завал перелететь не может. Теперь должны бы разбойнички на штурм пойти, ан нет, не идут. Значит, шайка немногочисленная и она выжидает. Прием известный. Как соберутся пассажиры, естественно мужики, вокруг завала, так они их кинжальчиками с обеих сторон и накроют. В вагоне визг, паника, защитники – кто мертвый, кто раненый, кто с перепугу в лес убег. Бери вещички голыми руками. Значит, мы не так поступим. Есть два варианта: или устроить оборону прямо в вагоне и паровозе и дождаться дрезины. Или иначе сделать. Так что сиди тихо, а я пойду с братвой посоветуюсь.